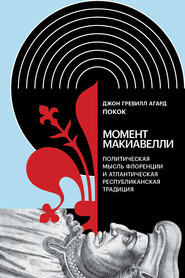
Полная версия:
Момент Макиавелли: Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция
Макиавелли дает понять, что существуют способы соединить военную virtù с гражданской – или, возможно, сделать первую основанием второй. Однако мы пока не знаем, какие это способы, а язык самой главы, по-видимому, не позволяет считать, что освободитель может остановиться, не возродив в Италии оба типа virtù. Если он сделает меньше, то будет заурядным «новым государем», жертвой fortuna, обреченной жить сегодняшним днем. Если он хочет достичь величия Моисея, Ромула и Тезея, то возглавляемая им армия должна превратиться в народ. Макиавелли восхищался военачальниками: Борджиа в начале его пути, Джованни делле Банде Нере в его более зрелые годы. Созданный им в трактате «О военном искусстве» идеализированный образ Фабрицио Колонны намекал, что condottiere теоретически может стать законодателем. Но тот, кто просто обладает властью в текущих обстоятельствах, не способен пробудить в людях гражданские чувства. В «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» мы видим как военачальника, учреждающего республику, так и республику, которая сама наделена властью над окружающими обстоятельствами.
Глава VII
Рим и Венеция
А) «Рассуждения» и «О военном искусстве» Макиавелли
IДж. Х. Уитфилд был совершенно прав, когда предостерегал исследователей Макиавелли от того, чтобы начинать анализ его идей с «Государя» и ограничиваться на этом пути «Государем» и «Рассуждениями»370. В настоящей работе – в том, что касается Макиавелли – мы действительно занимается лишь двумя названными трудами. Может показаться, что мы игнорируем предостережение Уитфилда, равно как и многое из написанного о Макиавелли за последнее время. Однако тому есть свои причины. Мы предпринимаем попытку выделить «момент Макиавелли», то есть непрерывный процесс в истории идей, который представляется самым многообещающим контекстом для рассмотрения вклада Макиавелли именно в эту историю. В нашем предприятии мы будем двигаться избирательно, что исключает необходимость проводить полный анализ его идей или их развития. «Момент Макиавелли» предполагает не столько историю Макиавелли, сколько историческую презентацию Макиавелли. В уже обозначенном контексте мы фокусируемся на «Государе» и «Рассуждениях» – как останавливались на трактатах Гвиччардини и его «Диалоге», – потому что с их помощью можно проиллюстрировать те аспекты его идей, которые наиболее полно расскажут об этом контексте и роли в нем Макиавелли. Эффективность нашего метода заключается в его способности описать процесс, действительно имевший место в истории идей, и показать, что Макиавелли и Гвиччардини были его главными действующими лицами и что их следует воспринимать в этой роли. Наша цель не заключается в том, чтобы создать полную интеллектуальную биографию – если это вообще возможно – кого-то из них.
Таким образом, исследование, поначалу посвященное преимущественно политике времени, затем превратилось в анализ понятия добродетели. Мы выделили два значения этого термина, каждое из которых отчасти связано со временем и отчасти – с аристотелевской концепцией формы. Институционализируя гражданскую добродетель, республика или полис поддерживает собственную устойчивость во времени и разрабатывает грубый человеческий материал, направляя его к политической жизни, составляющей предназначение каждого человека. Практикуя не вполне моральную virtù, новатор придает форму fortuna той последовательности событий во времени, которую он своим действием нарушил. В «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» и трактате «О военном искусстве» Макиавелли соединяются оба эти понятия, и анализ этих произведений можно начинать с понятийной рамки, известной по интерпретации «Государя». В более ранней работе преобразователю нужна virtù, ибо он нарушил структуру обычая, которая легитимировала ранее существовавшее правление. Именно поэтому он стал уязвим для fortuna и непредсказуемости человеческого поведения. Испытание, с которым virtù неизменно сталкивается, но никогда вполне не справляется, состоит в изменении природы людей в сравнении с тем, какой ее сделал обычай, после чего сам обычай потерял силу. Однако на протяжении всего текста «Государя» в качестве примера общества, основанного на обычае, фигурирует наследственная монархия или княжество, где подданные просто привыкли повиноваться конкретному человеку или династии. Безусловно, республика входит в число политических систем, нарушая работу которых преобразователь становится уязвимым для fortuna. Но мы имели основание заподозрить, что ее прочность зиждется на чем-то еще, помимо приверженности обычаю: когда люди, как нам было сказано, привыкают к свободе, память о ней не покидает их и они не могут смириться с властью государя. Согласно нашему предположению, речь идет о свидетельстве того, что опыт гражданской жизни – participazione, как его называл Гвиччардини, – изменил человеческую природу так, как это было не под силу одному лишь обычаю. Обычай мог самое большее наложить отпечаток на вторичную, или приобретенную, природу людей. Однако коль скоро предназначение индивида заключалось в том, чтобы быть гражданином или существом политическим, то опыт vivere civile оказывал воздействие – и воздействие необратимое – именно на его врожденную природу, или prima forma.
Теперь можно соотнести идеи Макиавелли с традицией Савонаролы. На этом этапе понятие гражданской добродетели приобретает дополнительную глубину. Быть существом политическим – это призвание человека и его добродетель. Полития представляла собой форму, в которой человеческая материя развивала свою подлинную добродетель, а функция добродетели – придавать форму подручной материи fortuna. Республику или политию можно назвать вместилищем добродетели еще в одном смысле: она являла систему, в которой способность каждого гражданина ставить общее благо выше своего собственного служила предпосылкой наличия аналогичной способности во всех остальных. Таким образом добродетель всякого индивида оберегала добродетель остальных от порчи, элементом которой во временнóм измерении и выступала fortuna. Поэтому республика была структурой, построенной на гораздо более сложном и нормативном принципе, нежели обычай.
Однако то, что подобные структуры добродетели могут подвергаться коррозии и распадаться, подтверждали не только опыт и история. В силу ужасного парадокса эта тенденция была заложена в самой природе республик. Республика стремилась к полноте добродетели в отношениях между своими гражданами, но опиралась при этом на свою ограниченность во времени и пространстве. Она имела начало во времени и должна была, с одной стороны, располагать свидетельством о том, как это начало стало возможным, а с другой – признавать (ибо теоретически у нее должен быть и конец), что поддерживать ее не менее затруднительно, чем основывать. Занимая определенное место, то есть положение в пространстве, она была окружена соседями, в отношениях с которыми руководствовалась не добродетелью, существовавшей словно бы только в среде граждан. С точки зрения времени, а не только пространства, она сталкивалась с проблемами, обусловленными тем, что сама выступала в роли своего рода новатора. С точки зрения пространства, а не только времени, она принадлежала миру нелегитимных властных отношений. Структура добродетели существовала в сфере fortuna по крайней мере отчасти потому, что добродетель такого типа сама являлась новшеством. А значит, система должна была обладать частью той virtù, которая придавала форму фортуне. Очерк о «новом государе» уже показал, что во многом речь шла о вопросе манипулирования человеческим поведением, которое было нелегитимным и опиралось на силу. Двусмысленность не исчезала с основанием республики. Она сохранялась как в ее внутренних, так и во внешних отношениях: республика могла страдать от порчи изнутри не меньше, чем от поражений вовне. Но если государь, которому изменила virtù, терял свое stato, то и граждане, чья республика потерпела крушение, утрачивали добродетель, характеризующую их гражданский коллектив.
Флорентийских теоретиков интересовали республиканские ценности. Первоочередная практическая и теоретическая проблема состояла в том, чтобы показать, как возникали республики и как можно поддерживать их существование. Ставки были очень высоки – не меньше, чем утверждение добродетели как принципа деятельной жизни. Риск был не менее велик: было трудно построить республику на чем-то, кроме зыбкого и временного фундамента. На примере Гвиччардини мы наблюдали традицию аристократической мысли, которая, во многом восходя к Савонароле, признавала наличие у флорентийцев стремления к свободе и приобретенных свойств, имеющих глубокие, но непрочные корни в унаследованной традиции и «вторичной природе», и искала средства преобразовать их в полноту prima forma. С 1512 года Гвиччардини с пессимизмом и настойчивостью изучал теоретические основания аристотелевской политии и смешанного правления, а также менее отдаленную во времени область действия двух образцов: конституции 1494 года и венецианской модели. Линию мысли, стремившуюся совместить главенство аристократии и governo largo, по-видимому, продолжили члены кружка, собиравшегося в Садах Оричеллари после смерти Бернардо Ручеллаи в 1514 году371. В этот кружок, аристократический по своему составу, но народный по своим симпатиям, вероятно, входили люди, восхищавшиеся Венецией за то, что она построила основанную на добродетели систему благодаря принципу смешения простых форм правления. Пребывание Гвиччардини в угрюмом мире папских территорий не позволяет считать его участником кружка Оричеллари. Принадлежавший к нему Макиавелли в силу своего происхождения и убеждений не разделял присущего этой группе аристократического идеализма. Как мы увидим, его «Рассуждения» логичнее всего трактовать как последовательный уход от венецианской парадигмы и менее определенную попытку продумать последствия этого ухода. Гвиччардини в «Диалоге об управлении Флоренцией», который иногда воспринимается как ответ на ключевые идеи «Рассуждений», продолжает аристократическую провенецианскую традицию. Мы можем считать, что в этих двух произведениях разрабатываются разные подходы к проблеме республики. В последующих главах нам предстоит наблюдать странное сочетание этих идей, которое легло в основу классической республиканской традиции Атлантики и Северо-Западной Европы.
IIГвиччардини начал с врожденной склонности флорентийцев к свободе и на протяжении всего «Диалога» интерпретировал флорентийские институты. Макиавелли, верный себе, работал на более высоком уровне теоретического обобщения. Как и «Государь», «Рассуждения» открываются типологией, классификацией республик с точки зрения их происхождения. Все города основываются либо местным населением, либо чужеземцами372; их основатели на момент возникновения города либо автономны, либо сохраняют зависимость от какой-либо внешней силы, и города последней категории, с самого начала лишенные свободы, редко достигают чего-то значительного. Бросая откровенный вызов традиции Салютати, Макиавелли добавляет, что Флоренция, основанная Суллой или Августом, является именно таким городом373. К этой мысли он вернется в «Истории Флоренции» и сделает вывод, что Флоренции никогда не удавалось обрести стабильность, характерную как для зависимого, так и для свободного существования374. В рассматриваемом же произведении он заявляет (после отступления о том, где надлежит основывать города – на неурожайных или на плодородных землях375), что в его намерения не входит рассуждать о городах этой категории. Его занимают только те земли, которые с момента основания были полностью независимы376, – явное указание на то, что Флоренция не будет составлять главный предмет его интереса в последующих главах.
Макиавелли вновь прибегает к схематическому подходу. Он выделяет города, основанные законодателями377, такими как Ликург, чьи дела были столь близки к совершенству, что к ним нечего было добавить378, те города, которые изначально были несовершенными и потому столь несчастливыми, что вынуждены были реформировать самих себя, те, что отклонились от своих истоков, и те, чье устройство изначально было крайне неразумным379. Из этой классификации, представляющей собой ключ ко всем трем книгам «Рассуждений», при ближайшем рассмотрении напрашиваются некоторые выводы. Во-первых, речь идет не просто о различии между всезнающими и не столь мудрыми ordinatori, но и о различии между наличием конкретного основателя и обстоятельствами, когда основание вообще нельзя приписать uno solo. Солон добился меньшего, чем Ликург380. Ромул, как мы увидим, оказался где-то посередине. Однако Макиавелли интересуют не только древние республики, но и новые. Например, Венеция, появившаяся уже в христианскую эру, возводит свои истоки не к конкретным основателям, а в лучшем случае к покровительствующим им святым, которые в действительности город не учреждали. Историческое развитие Венеции, возможно, начинается со скопления лишенных предводителя беженцев, чье постепенное восхождение по лестнице гражданской добродетели требует объяснения381. Поскольку Макиавелли не считает Венецию образцом для подражания, то эта проблема не слишком его занимает. Впрочем, все «Рассуждения» строятся вокруг ситуаций, когда из‐за несовершенства или же отсутствия законодателя гражданам пришлось исправлять свои ordini и самих себя, – такие, когда материя оказалась вынуждена сама придавать себе форму.
Кроме того, очевидно – здесь проводится разграничение между относительной свободой и относительной зависимостью от случайностей во времени. Спартанцы получили от Ликурга «сразу все свои законы», после чего им оставалось лишь хранить их. Как нам предстоит узнать, это бывает непросто сделать. Впрочем, упомянутая задача ничто в сравнении с трудностями, подстерегающими города, которые получили свои законы по воле благоприятного случая (caso), в несколько приемов (piú volte) или по мере развития множества непредвиденных событий (accidenti), как в Риме»382. Наличие совершенного законодателя приносит стабильность, то есть свободу от времени. Любое другое положение вынуждает положиться на свою virtù в контексте fortuna. Снова, как и в «Государе», от законодателя как идеального типа мы спускаемся к разным уровням неустойчивости virtù. Если устройство изначально было неправильным, это безнадежная ситуация. Если приходится исправлять законы силами несовершенного политического организма, это несчастье по сравнению со Спартой. Тем не менее республики, с самого начала наделенные хорошими, но несовершенными институтами, могут достичь совершенства per la occorrenzia degli accidenti383. Мы знаем, что fortuna благосклонно отвечает лишь virtù, и эта мысль подкрепляется замечанием Макиавелли, что самосовершенствование сопряжено с трудностями по уже знакомым нам причинам, в силу которых опасны нововведения384. Теперь можно перейти к случаю Рима, где Ромул не смог упрочить монархию, но действовал достаточно хорошо, чтобы она превратилась в процветающую республику. Однако в этой типологии есть явный пробел. Случай республики, где граждане изначально обходились без законодателя, который бы руководил ими, подразумевается, но не рассматривается. В частности, возникает вопрос, что Макиавелли думал о Венеции, где никогда не было законодателя, но сразу, как считается, установилась исключительная стабильность. Нет уверенности, что мы когда-либо узнаем точный ответ.
Когда граждане совершенствуют свои отношения в контексте времени, они упражняются в virtù в том смысле, что стремятся одержать верх над fortuna. В случае нового государя, это искусство, которое до «Государя» редко подвергалось теоретическому осмыслению. Однако существовало куда большее количество теоретической литературы о ситуации, когда граждане вместе упражняются в добродетели, учреждая, поддерживая и совершенствуя структуры этических и политических отношений. Здесь Макиавелли, не называя имени автора, пространно излагает теорию конституционных циклов Полибия385. Как мы увидим, «Рассуждения» едва ли можно свести к трактату о том, как установить совершенную уравновешенную форму правления, которая бы вырвалась из круговорота и обрела вневременность. Посему естественно задаться вопросом: чего стремился достичь Макиавелли, подробно останавливаясь на теории Полибия? Ответ мы находим в конце второй главы, где он вновь возвращается к различию между городами, имевшими совершенного законодателя и лишенными его. Ликург, воспользовавшись единственным occasione – у Макиавелли нет этого слова, но, если мы его поместим сюда, то фрагмент станет понятнее, – установил распределение власти между монархами, аристократами и народом, продержавшееся более восьмисот лет. Солону этого сделать не удалось, и потому Афины так и не достигли стабильности. Но случай Рима – на основе которого Полибий и разработал всю свою теорию – представляет собой самое необычайное явление. Ни один законодатель не пытался соединить здесь власть одного, некоторых и многих. Царство, установленное Ромулом, пало с изгнанием Тарквиния. В период республики патриции и плебеи на протяжении многих поколений вели между собой борьбу. И все же, несмотря на весь разлад, возникла система, вызывавшая восхищение Полибия и достаточно устойчивая, чтобы завоевать мир386.
Макиавелли провел радикальный эксперимент секуляризации. Он установил, что гражданская добродетель и vivere civile могут – хотя это необязательно – развиваться исключительно в измерении случайного, без вмешательства вневременных сил. Тем не менее, цель, обозначенная Полибием и достигнутая Ликургом, может заключаться в том, чтобы избежать ловушки времени и перемен. Впрочем, существуют обстоятельства, когда граждане приближаются к этой цели собственными усилиями – трудами людей, ограниченных временем. Интересен не пример Спарты, где практически не зависящий от времени законодатель в одночасье вывел формулу вневременности, а пример Рима, где эта цель была достигнута – насколько люди вообще в состоянии ее достичь – беспорядочными и направляемыми случаем действиями конкретных людей в измерении непредсказуемости и фортуны. Когда люди освобождаются от fortuna, практикуя virtù, присущую им самим, а не наделенному сверхчеловеческой мудростью законодателю, и при этом воздвигают способную к завоеваниям республику – даже если для этого должно смениться не одно поколение, – результат оказывается более прочным и более добродетельным, чем любое достижение, какое под силу principe nuovo387, если только он не законодатель, что, как мы выяснили, неправдоподобно. Отказываясь от ставки на образцовую фигуру Ликурга, Макиавелли согласился заплатить очень большую цену. Из наметившегося в «Государе» соединения в одном человеке законодателя и пророка мы узнали, что Макиавелли не свободен от необходимости описывать республику или любое другое политическое образование как сообщество, укорененное в области священного. Составляя условие человеческой доблести, она должна строиться на добродетели, превосходящей возможности людей. Однако то, что канонический пророк, вдохновленный Богом Ветхого Завета, оказался в той же категории основателей, что и языческие герои-законодатели, которыми двигало лишь сверхчеловеческое умение ухватиться за occasione, привело к исторической иронии. Моисей виделся ненамного более архетипической фигурой, чем Ликург, а христианская благодать, оставаясь частью понятия законодателя, сама по себе едва ли представлялась независимой переменной. Ирония становилась более явной при взгляде на временное княжество, предположительно основанное апостолом Петром, единственной фигурой иудео-христианского пантеона (кроме, возможно, императора Константина), которой можно было приписать роль законодателя по благодати. В XI главе «Государя» мы находим уничтожающий, хотя и не совсем пренебрежительный анализ церковных владений, претендовавших на статус самостоятельных государств.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Как отозвалась о ней Кэролайн Роббинс, «за последнее десятилетие не появлялось более плодотворного и стимулирующего исследования по истории атлантических территорий в Новое время». См.: Robbins C. [Book review] J. G. A. Pocock, «The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century» // Pennsylvania Magazine of History and Biography. Vol. 82. № 2 (1958). P. 223–225.
2
Pocock J. G. A. The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century. A Reissue with a Retrospect. Cambridge, 1957 (второе издание – 1987 год).
3
Pocock J. G. A. Burke and the Ancient Constitution – A Problem in the History of Ideas // Historical Journal. Vol. 3. № 2 (1960). P. 125–143 (рус. перевод: Покок Дж. Г. А. Бёрк и древняя конституция. Об одной проблеме в истории идей / Пер. с англ. Л. В. Черниной под ред. Т. М. Атнашева и М. Б. Велижева // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2018. Т. 2. № 3. С. 141–170); Idem. The History of Political Thought: A Methodological Enquiry // Philosophy, Politics and Society. 2nd ser. / Ed. by P. Laslett, W. G. Runciman. New York, 1962. P. 183–202; Idem. The Origins of the Study of the Past: A Comparative Approach // Comparative Studies in Society and History. Vol. 4. № 2 (1962). P. 209–246; Idem. Ritual, Language, Power: An Essay on the Apparent Meaning of Chinese Philosophy // Political Science. Vol. 16 (1964). P. 3–31; Idem. Machiavelli, Harrington, and English Political Ideologies // William and Mary Quarterly. 3rd ser. Vol. 11 (1965). P. 549–583; Idem. Time, History and Eschatology in the Thought of Thomas Hobbes // The Diversity of History: Essays in Honour of Sir Herbert Butterfield / Ed. by J. H. Elliott, H. K. Koenigsberger. London, 1965; Idem. Time, Institutions and Action: An Essay on Traditions and Their Understanding // Politics and Experience: Essays Presented to Michael Oakeshott / Ed. by P. King, B. C. Parekh. Cambridge, 1968.
4
Pocock J. G. A. Languages and Their Implications: The Transformation of the Study of Political Thought // Politics, Language, and Time: Essays on Political Thought and History. Chicago, 1989. P. 3–41; Idem. On the Non-Revolutionary Character of Paradigms: A Self-Criticism and Afterpiece // Ibid. P. 273–291.
5
Dunn J. The Identity of the History of Ideas // Philosophy. Vol. 43. № 164 (1968). P. 85–104; Skinner Q. The Limits of Historical Explanations // Philosophy. Vol. 41. № 157 (1966). P. 199–215; Idem. Meaning and Understanding in the History of Ideas // History and Theory. Vol. 8. № 1 (1969). P. 3–53 (рус. перевод: Скиннер К. Значение и понимание в истории идей / Пер. с англ. Т. Пирусской // Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории. Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М., 2018. С. 53–122).
6
Koikkalainen P., Syrjämäki S. Quentin Skinner. On Encountering the Past // Finnish Yearbook of Political Thought. Vol. 6 (2002). P. 34–63.
7
Skinner Q. Hobbes’s Leviathan // Historical Journal. Vol. 7. № 2 (1964). P. 321–333; Idem. History and Ideology in the English Revolution // Historical Journal. Vol. 8. № 2 (1965). P. 151–178; Idem. The Ideological Context of Hobbes’s Political Thought // Historical Journal. Vol. 9. № 3 (1966). P. 286–317; Idem. Thomas Hobbes and His Disciples in France and England // Comparative Studies in Society and History. Vol. 8. № 2 (1966). P. 153–167.
8
Dunn J. Consent in the Political Theory of John Locke // Historical Journal. Vol. 10. № 2 (1967). P. 153–182; Idem. Justice and the Interpretation of Locke’s Political Theory // Political Studies. Vol. 16. № 1 (1968). P. 68–87.
9
Pocock J. G. A. Foundation and Moments // Rethinking the Foundations of Modern Thought / Ed. by A. Brett, J. Tully, H. Hamilton-Bleakley. Cambridge, 2006. P. 39; см. также: Idem. Quentin Skinner: The History of Politics and the Politics of History // Idem. Political Thought and History: Essays on Theory and Method. Cambridge, 2009. P. 123–142 (первая публикация: Common Knowledge. Vol. 10. № 3 (2004). P. 532–550; рус. перевод: Покок Дж. Г. А. Квентин Скиннер: история политики и политика истории / Пер. с англ. А. Акмальдиновой под ред. Е. С. Островской // Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории. С. 191–217).



