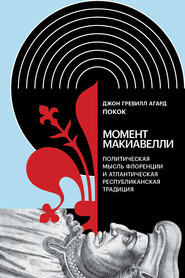
Полная версия:
Момент Макиавелли: Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция
Я присутствовал, когда зачитывался этот протокол [записывал в своем дневнике Ландуччи о признании в ложных пророчествах, которое вынудили у Савонаролы в 1498 году], и был поражен – совершенно ошеломлен. Мое сердце наполнилось горечью при виде того, как обрушилось столь величественное здание, которое оказалось построенным на лжи. Флоренция ожидала явления Нового Иерусалима, который станет источником справедливых законов и величия и образцом праведной жизни, она надеялась увидеть обновление церкви, обращение неверующих и утешение праведных; и я понимал, что все совсем наоборот, и должен был смирить себя мыслью: «In voluntate tua Domine omnia sum posita»232,233.
Как могли реагировать люди более искушенные, мы увидим, когда посмотрим на роль идей Савонаролы в мысли теоретиков гражданской жизни. Однако уже ясно, что человек не столь набожный по сравнению с Ландуччи мог при падении Савонаролы решить, что всем в мире ведает Фортуна, а не Бог, и что лишь восстановление гражданской жизни может спасти людей от господства иррациональных сил. Раз Савонароле не удалось основать гражданство на пророчестве, какой еще фундамент можно найти? Распространению гражданского гуманизма сопутствовало некоторое расширение общепринятого диапазона политических знаний, выведение их за пределы концептуального аппарата разума, опыта, рассудительности и веры, с помощью которого традиция, представленная Фортескью, противостояла вызову единичных явлений. Прежде всего, теперь считалось, что люди в настоящем могут вести беседу с людьми древности и непосредственно учиться у них тому, что они делали в исторических ситуациях, с которыми те сталкивались. Такая точка зрения могла привести или к наивной убежденности, что история повторяется, или к все большей изощренности исторического сознания. Но в том или другом случае она, по-видимому, способствовала более быстрому усвоению гражданином знания и его умению реагировать на острые политические нужды подходящим решением. Кроме того – и это часть той мудрости, которой следовало учиться у древних, – существовала философия гражданской жизни Аристотеля и Полибия, которую мы рассматривали в предыдущей главе. Ее сильная сторона как конституционной теории состояла в том, что она не столько представляла собой сопоставительный анализ институтов власти, сколько была наукой о добродетели. Она, так сказать, предлагала способ соединить конкретные достоинства людей, составляющих политическое общество, так, чтобы они не претерпели порчу в силу своей единичности, а стали частью общего стремления к универсальному благу. Соответственно, она настойчиво побуждала внимательно относиться, с одной стороны, к тому, какие типы и категории людей с присущими им добродетелями и слабостями составляли политическое сообщество, и, с другой, к способу, предложенному для объединения их усилий. Поскольку согласие достигалось благодаря распределению ролей при принятии решений, предлагалось обратиться к анализу самого процесса выработки решений, фиксации ролей и обязанностей, институционально закрепленных или нет, на которые его можно было бы разбить, и критериев, в соответствии с которыми их можно было установить между людьми разных моральных типов, составляющими общество. В основе греческой и ренессансной политической науки лежит этическая теория в сочетании со стратегией принятия решений.
Если бы можно было воспользоваться категориями Аристотеля для упрочения республиканского строя во Флоренции, то наука о добродетели победила бы там, где потерпел поражение пророк Савонарола. Она помогла бы примирить конкретное с универсальным, отождествить политическую деятельность с проявлением добродетели и сделать ход политических и единичных событий понятным и поддающимся обоснованию. Поэтому политическая мысль с момента восстановления vivere civile в 1494 году все больше тяготеет к Аристотелю и во многом представляет собой попытку установить, как в условиях Флоренции заложить основания аристотелевской политейи (politeia). Однако то, что эта идея так долго оставалась привлекательной, во многом объясняется другой причиной. Альтернативой формированию гражданского общества и установлению республики служило царство Фортуны, ощущение действительности, в которой нет ничего постоянного, обоснованного или разумного: questa ci esalta, questa ci disface, senza pietà, senza legge o ragione234. Как история флорентийцев до 1494 года и после, так и концептуальный аппарат, который они применяли, пытаясь ее понять, содействовали тому, чтобы их мысль существовала в диалектике между двумя крайностями: между безмятежностью республики, неподвластной порче, и мятущейся империей децентрированного колеса фортуны. Еще до того, как теоретики непосредственно познакомились с текстом Полибия, они прекрасно понимали, что цель политической науки – соединить различные конкретные добродетели в одно универсальное благо. Пока этого не удастся достичь, конкретные добродетели были неустойчивы и склонны к саморазрушению. Равным образом, необязательно читать Полибия и знать о его циклической теории (anakuklōsis), чтобы прибегнуть к образу колес и круговорота. Их мысль была направлена на анализ угасающих добродетелей, распадающихся политических систем, человеческого опыта, вступающего в область непрочного, иррационального и аморального. Одна крайность – стабильность республики – казалась им не более увлекательной или знакомой, чем другая, ее разрушение. Кроме того, давняя проблема, поднятая гражданским гуманизмом, – единичность республики, ее ограниченность в пространстве и времени и, следовательно, ее чуждость законам окружающей ее среды – выступила со всей отчетливостью, пугающей в свете истории самого конца XV столетия, когда Италией все чаще управляли чуждые ей силы, а Флоренция и Венеция, по всей видимости, утратили контроль над своей внешней политикой. Если внутренне республика сохраняла безмятежность, могла ли она не терять ее, оставаясь жертвой Фортуны извне? Могла ли разница между законами, регулирующими внутренние и внешние связи, быть столь значительной? Если наука Аристотеля указывала средство к пониманию первых, какого языка требовал анализ последних? А если невозможно постичь ни те, ни другие, разве не должны мы обратиться к риторике Фортуны? В 1512 году, а затем снова в 1527–1530 годах неспособность Флорентийской республики контролировать политическую ситуацию в Италии совпала с неудачной попыткой привести в равновесие ее внутренние гражданские отношения и обернулась угасанием vivere civile и восстановлением власти Медичи – во втором случае уже окончательно. Каждая из этих неудач, как можно показать – отчасти благодаря появлению на сцене необыкновенно одаренных людей, – спровоцировала сложный кризис мысли. На примере каждого из кризисов можно изучить, что происходило в сознании людей того времени, пытавшихся применить эпистемологию конкретного, этико-политические категории аристотелевского гражданского общества и совершенно новую терминологию, которую разрабатывал ряд теоретиков, стремясь осмыслить политическое поведение в его наименее обоснованных и разумных проявлениях. Эпоха Макиавелли и Гвиччардини показывает нам мысль, направленную на учреждение и укрепление гражданской жизни, находящейся в близком и очень напряженном контакте со стремлением постичь быстрые и непредсказуемые перемены.
IIВ 1494–1512 годах внутренние проблемы Флорентийской республики возникали в связи с разграничением функций различных политических групп. Феликс Гилберт блестяще описал235 институциональную структуру этого режима и понятийный словарь, использовавшийся ее участниками, – не только в теоретических трудах, но и в речах, резолюциях, официальных документах. По-видимому, на основании его анализа можно сделать следующие выводы. Важнейшим шагом, предпринятым после бегства Медичи в 1494 году, стало усвоение того, что в общем считается венецианской конституцией (il governo veneziano или alla viniziana). Во Флоренции она с практической точки зрения включала в себя Большой совет, Синьорию и гонфалоньера, а в идеале предполагала совершенную гармонию многих, некоторых и одного, которой, как предполагалось, достигла Венеция. Однако на деле в конституции 1494 года ощутимый перевес оказался на стороне многих. Все сходились во мнении, что важнейшим учреждением был Совет, участвовать в котором могло неопределенно большое число граждан (хотя, конечно, далеко не все), и что существование Совета придавало этому режиму характер governo largo236. Порой указывалось, что к участию в венецианском Большом совете изданным еще двести лет назад указом допускалось лишь некоторое число семейств и что такая система, очевидно, позволяла назвать Венецию governo stretto237. Чаще всего на это возражали, что ограничение членства в Совете лишь довершило формирование венецианского гражданского коллектива, а не сделало политические права привилегией узкой группы граждан. Те, кто оказался вне Совета и гражданского общества, были либо чужестранцами, либо людьми низкого и рабского звания, по определению неспособными к гражданской жизни238. Этот спор раскрывает одну из главных двусмысленностей категоризации Аристотеля и обнаруживает ряд интересных обстоятельств. Одним из них можно считать использование термина governo largo как антонима governo stretto: первый не подразумевал конституции, которая прямо открывала бы гражданство для всех или даже для popolo, то есть «многих», как для вполне определенной социальной группы. Конституция 1494 года не делала этого хода, но скорее означала такую конституцию, которая, отказываясь ограничить гражданский коллектив строго определенной (stretto) группой жителей, признает участие в гражданской жизни благом, чем-то, к чему люди стремятся, что развивает их лучшие качества и что желательно распространить на как можно большее число индивидов. Governo, слово, по смыслу наиболее близкое нашему constitution, в словаре флорентийцев является почти синонимом modo di vivere или просто vivere239. Как можно заметить, словосочетание vivere civile всегда указывает на governo largo, а не stretto. Признавать, что участие в гражданской жизни само по себе благо, означало соглашаться, что оно должно получить широкое распространение. Впрочем, далеко не все полагали высшим и необходимым благом участие возможно большего количества людей в принятии общественно значимых решений. Эта проблема также могла обсуждаться на языке Аристотеля.
Важно отметить и стремление приверженцев governo largo сохранить венецианскую модель, отрицая при этом, что Венеция является замкнутой аристократией. Одним из значимых моментов в истории флорентийских идей было принятое в 1494 году решение под видом подражания венецианской конституции расширить возможности участия в Большом совете240. Мы не знаем, кто именно принял его и о чем они при этом думали, но его следствием стало то, что для большинства авторов Венеция осталась символом конституции с элементом народного участия, которое основывалось на гармонии между участниками из элиты и неэлиты, некоторыми и многими, а также, возможно, одним. Наиболее настойчиво подчеркивают достоинства венецианской модели те мыслители, которые полагают, что ottimati – как узкий круг влиятельных флорентийских семейств, считавших себя частью элиты и отождествлявшихся с немногими в аристотелевской классификации, – не могут выполнять свою прирожденную функцию лидеров или развивать добродетели, с ней связанные, если наравне с ними в управлении не участвуют те, кто не принадлежит к элите, большинство, которое они могли вести за собой. Таким образом, ottimati предстают или сами видят себя в роли гражданской аристократии. Их качества существуют и проявляются в отношениях ottimati с другими гражданами.
Может возникнуть вопрос: не было ли принятие в 1494 году «венецианских» установлений делом рук ottimati, которые сочли, что governo largo подойдет им больше, чем stretto? Спор о подлинной природе Венеции и о наиболее подходящей для Флоренции форме правления происходил на фоне усугубляющейся неспособности Большого совета управлять так, чтобы это удовлетворяло ottimati как класс. Секрет венецианского правления заключался в отношениях между Большим советом и совокупностью должностных лиц и комитетов, в сумме известных как Сенат241. Именно в сложном механизме обсуждений заключалась политическая инициатива Сената. Однако во Флоренции аналогичные отношения – между Большим советом и группой исполнительных комитетов во главе с Синьорией – работали не так хорошо, как в Венеции, и главным источником конфликта стало острое чувство своей обособленности, присущее тем, кто принадлежал к ottimati. Они не доверяли Совету, считая его громоздким собранием самонадеянного popolo. Синьория или другие исполнительные органы – члены которых избирались, обычно на короткие сроки, посредством жеребьевки и проходивших в Совете избирательных процедур – не казались им эффективными для осуществления принципа аристократии, который ottimati, как они полагали, олицетворяли. Семейства, к которым они принадлежали, в целом в 1434–1494 годах поддерживали правление Медичи. Они считали, что режим Медичи опирался на их помощь и пал лишь тогда, когда последний потомок Козимо Старшего утратил их поддержку из‐за злоупотребления властью и дурных манер. Поэтому ottimati ощущали, что оказались вовлечены в опасный эксперимент, сотрудничая с popolo, и утешали себя лишь тем, что это сотрудничество будет строиться по венецианскому образцу. Теперь, когда трения между представителями элиты и теми, кто к ней не принадлежал, усилились, а Большой совет и Синьория все более явно обнаруживали неспособность к ведению внешних дел республики, ottimati все чаще жаловались, что обещание осуществлять правление по венецианской модели выполнялось не должным образом.
Феликс Гилберт изучил как институциональные, так и идеологические программы движения аристократов против конституции 1494 года. Одной из главных фигур идеологического контрнаступления можно назвать Бернардо Ручеллаи242, который через свою жену приходился родственником Медичи. Он представлял всех, кто поддерживал переворот 1494 года не столько потому, что им не нравилась власть Медичи, сколько оттого, что Пьеро, как они считали, оказался несостоятельным политиком. Прежний режим казался им формой сотрудничества представителя династии Медичи с узким кругом ottimati на правах первого среди равных. Оставшись без Медичи, они приступили к организации правления самого узкого круга. В 1500–1502 годах (вероятно) Бернардо Ручеллаи стоял в центре группы аристократов-интеллектуалов, собиравшихся в Садах Оричеллари, чтобы критиковать режим, используя гуманистический образ мысли. Последний включал в себя идеализацию Лоренцо де Медичи («Великолепного») как лидера, лучше всех умевшего работать в союзе с аристократическими семействами, переоценку Венеции как замкнутой аристократии, предполагающую, что подобное governo stretto лучше всего отвечает нуждам Флоренции, и систематическое исследование римской истории с целью убедиться, что из прошлого извлечены правильные уроки, способные помочь править в настоящем. Гилберт видит в этой программе решающий разрыв с прежним стилем мышления и даже называет ее «рождением современной политической мысли». Раньше, утверждает он, любое предложение, связанное с институциональной реформой во Флоренции, надлежало формулировать как возвращение к тому или иному порядку вещей, существовавшему в отдаленном и мифическом прошлом. Поскольку группа Ручеллаи стремилась к чему-то до той поры не виданному – сохранению некоторых черт неофициального и неоднозначного с точки зрения легитимности режима предшествующего столетия, – они должны были прибегнуть к иным способам истолкования и стали первыми, кто обратился к историческому прошлому в поисках принципов правления. Противопоставление старых и новых видов аргументации может показаться слегка натянутым, но следование венецианской модели в 1494 году и ее возрастающая значимость свидетельствуют о потребности в новых методах обоснования. Очевидно, Ручеллаи и аристократы, критически анализировавшие форму правления, установившуюся в 1494 году, занимались двумя вещами. С одной стороны, речь идет об усиленном сравнительном изучении флорентийских, венецианских и римских институтов власти, а с другой – о разработке аристотелевских категорий гражданства, попытках определить, из каких частей состояло политическое общество и какие функции соответствовали каждой из них. Критика Большого совета, как мы увидим, почти целиком основана на аристотелевской теории разграничения функций.
В 1502 году Бернардо Ручеллаи испытал политическое разочарование. Ажитация, распространению которой он содействовал, вела если не к полной отмене Совета, то по крайней мере к передаче большей части его полномочий сенату, состоящему из ведущих граждан, которые бы избирались пожизненно. В результате при обстоятельствах, остающихся не вполне ясными, вместо назначения главы республики был установлен пожизненный гонфалоньерат – который немедленно получил Пьеро Содерини, покровитель Макиавелли. Эта мера, явно имитирующая венецианский институт дожей, была принята, скорее всего, в надежде, что отношения между немногими и многими упрочатся, если к ним добавить правильно действующего одного, – что Савонарола считал неподходящим для условий Флоренции. Ручеллаи, изначально способствовавший этому, говорит243, что не мог поддерживать такое начинание, потому что оно не сопровождалось полной отменой Совета. Однако по мнению большинства его друзей, следовало опробовать трехчастную систему, даже в отсутствие эффективного сената. Таким образом, можно сделать вывод, что значительная часть ottimati по-прежнему была заинтересована в том, чтобы найти место аристократии в системе vivere civile. И следующий этап развития флорентийской политической мысли представляет собой попытку определить политейю (politeia) с аристократической точки зрения.
Первый автор, на котором нам следует подробно остановиться, – это Франческо Гвиччардини (1483–1540), младший современник Макиавелли. Гвиччрадини создал свои работы, когда важнейшие политические труды Макиавелли еще не были написаны, и в конечном счете по общему (в том числе и самого Макиавелли) мнению, он являлся единственным политическим умом сопоставимых с ним масштабов. Сын «серого», то есть умеренного, оптимата, бывшего сторонником Савонаролы, этот молодой и чрезвычайно честолюбивый человек, как нам известно, около 1508 года приступил к написанию истории Флоренции под властью Медичи244. Концепция Гвиччардини отличается от восходящей к Садам Оричеллари линии мысли отчетливой враждебностью к Лоренцо. И Феликс Гилберт, и Витторио Де Капрариис245, два наиболее значительных современных специалиста по Гвиччардини, отмечали, что в более поздних размышлениях и исторических работах он постепенно пересмотрел свое отношение246. Важно, что осуждать Лоренцо, подобно молодому Гвиччардини, или идеализировать его, подобно Ручеллаи и Гвиччардини зрелому, – это две стороны одной медали. Ottimati восхищались Медичи, когда тот сотрудничал с ними, и ненавидели его, когда он относился к ним как к низшим. Критический или дружественный взгляд на Лоренцо мог быть обусловлен лишь семейной традицией и риторическим удобством. Сила аргументации Гвиччардини и одного-двух его единомышленников заключалась в их усилиях преодолеть эту двойственность позиции оптиматов и сделать соответствующие выводы. Как мы увидим, проблема в конечном счете состояла в том, будут ли ottimati по-прежнему называть себя гражданами или примирятся с ролью слуг чего-то, что не похоже ни на vivere civile, ни на governo stretto.
Однако обо всем этом мало говорится в первом трактате Гвиччардини о политике, так называемом «Рассуждении в Логроньо» (Discorso di Logrogno), которое в современных изданиях его сочинений обычно публикуется под заголовком «О способе устроить народное правление»247. Гвиччардини написал его в Испании, куда отправился как флорентийский посол при дворе Фердинанда Арагонского, и, вероятно, не завершил248, услышав о падении режима Содерини, вскоре после чего в 1512 году вновь установилась власть Медичи. Таким образом, создание этой работы совпадает с прекращением попыток ottimati приспособить восстановленную республику к своим целям. Важно, что последней практической мерой, предпринятой ими, прежде чем Медичи окончательно утвердились у власти, было учреждение сената, перенявшего почти все функции Большого совета, кроме определения гонфалоньера, который избирался уже не на всю жизнь, а на год249. На этом этапе проблема еще осознавалась в терминах примирения господствующего положения аристократов с принципом vivere civile. Именно ее теоретическому анализу было посвящено «Рассуждение в Логроньо», на котором мы можем остановиться подробнее ввиду значимости его понятийного аппарата и приведенных в нем конкретных рекомендаций.
Гвиччардини начинает с заявления, что vivere civile оказалась в серьезном беспорядке: люди без различия стремятся получить все почести и занять все посты, а также вмешиваться в общественные дела любой степени важности250. С точки зрения классической теории, к которой Гвиччардини не прибегает, но которую тем не менее держит в уме, индивиды в социуме стремятся к благу и добродетели беспорядочно, одолеваемые хаотическими желаниями. Если этот беспорядок, как он утверждает, носит общий характер и если желания претерпевают платоническую деградацию, из стремления к гражданской чести превращаясь в желание частного богатства, то нужна соответствующая обстоятельствам универсальная реформа человеческого поведения. Мы задаемся вопросом: какие интеллектуальные средства нужны для проведения такой реформы? Здесь Гвиччардини обращается к аналогии с другими человеческими искусствами, в частности врачеванием – изобретением, которое можно использовать многими способами, почти всегда заслуживающими тщательного изучения. Если человеку, который готовит тесто для макарон, говорит он, не удалось его сделать с первого раза, то он вновь соединяет все ингредиенты и перемешивает их. Если врачи обнаруживают в организме столь много недугов, что не могут действовать сообща, то они пытаются с помощью лекарств привести тело в новое состояние, что, хотя и трудно, но не невозможно251. Однако аналогии – зыбкая почва: человеческое тело – это не смесь муки и воды, а разум, который единовременно может охватить все сознательные стремления человека к благу, следовало бы назвать сверхчеловеческим, если не божественным. В одном месте Гвиччардини признает, что процессы, подобные тем, что он описывает, управляются обстоятельствами, которые невозможно контролировать. Врачам легче полностью перестроить организм молодого пациента, а Флоренция уже немолода252. Он не впадает в отчаяние, но соглашается, что поправка городского здоровья потребует большего, чем общественность готова предпринять. Город уже male abituata, приучен к дурному253: мы можем понять это так, что «вторичная природа» обычая и традиции привела к приспособлению человеческой жизни к морально несовершенным условиям, которые представляют собой политический аналог «ветхого Адама», но отныне (после Савонаролы) не влекут за собой никакого перерождения человека в огне. Если наша последняя интерпретация верна, мы выявили характерную черту, сближающую Гвиччардини с Савонаролой, как отмечали некоторые исследователи. Впрочем, прямым текстом он говорит лишь то, что мы должны довольствоваться посильным. Следует заложить правильное основание (dare principio) городской жизни. Ход времени с течением лет способен совершить даже большее, чем то, на что мы вначале могли надеяться254. Однако остается неясным, какова природа знания, опираясь на которое люди, не наделенные сверхчеловеческой мудростью законодателей, смогут по поручению законодателя заложить такое начало.
Интересно, что первая проблема, которую рассматривает Гвиччардини, – это вопрос об использовании гражданского или наемного войска. Написание «Рассуждения в Логроньо» почти совпало с трагической кульминацией попыток Макиавелли и Содерини защитить республику, организовав народное ополчение, – опыт, который впоследствии побудил Макиавелли все более тесно связывать свои теории военной организации с концепцией гражданского общества и гражданской добродетели. Известно также, что отношения между военной и политической структурами в Риме, Венеции и других местах широко обсуждалось в Садах Оричеллари как до, так и после 1512 года. В своем «Рассуждении» Гвиччардини разделяет недоверие Макиавелли к наемникам в целом и поддерживает его довод относительно того, что их придется содержать и после войны, тогда как граждан можно распустить и отправить домой. Кроме того, гражданам легче найти замену после поражения. Затем он высказывает еще одну мысль – которая окажется важнейшей для теории Макиавелли, – так как граждане будут сражаться лишь в том случае, если в городе хороший порядок, то обеспечить себя армией, состоящей из граждан, означает взять обязательство наделить себя хорошими законами и una buona giustizia, справедливым правосудием, чем-то, что проще предписывать, чем поддерживать, как он позже подробно покажет255. Хотя на этом утверждении основана его работа, Гвиччардини, что типично для него, явно считает: у армии есть как внутренняя, так и внешняя функция. Армия существует, чтобы расширять, равно как и защищать власть республики, а первая сфера действий не руководствовалась ни законом, ни справедливостью. Он высказывает здесь поразительную, но часто неверно понимаемую мысль, что политическая власть – это лишь акт насилия, совершаемый над теми, кто ей подчинен, иногда сглаженный каким-то внешним оправданием, но лишь затем, чтобы подкрепить его вооруженной силой, которая должна быть своей, а не чужой256. Слова, употребляемые здесь для обозначения политической власти (lo stato e l’imperio), очевидно, относятся к внешней власти, власти города над теми, кто не принадлежит к нему, как в случае попытки флорентийцев установить господство над упорно сопротивляющимися им пизанцами. Не имеется в виду, что власть флорентийцев над флорентийцами – это разновидность насилия, а подразумевается, что она является или может являться тем единственным видом власти, к которому это определение не относится257. И все же между внутренней сферой, где возможна справедливость, и внешней, где не может быть ничего, кроме насилия, существует тесная связь. Состоящая из граждан армия, которая требует una buona giustizia в городе, – это лучшее средство сохранить свои завоевания, единственная альтернатива тому, чтобы полагаться на чужую власть в аморальном мире внешних связей. Венецианцы, полагаясь на condottiere258, чуть было не утратили свою libertà259. Это слово здесь, как часто в ренессансной Италии, означает независимость города от внешнего контроля. Однако между внешней и внутренней зонами существует столь тесная связь, что Гвиччардини тут же260 переходит к рассуждениям о свободе в контексте governo di drento261 или отношений между гражданами внутри города.



