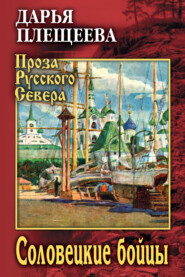
Полная версия:
Соловецкие бойцы
– Я молитвослов читал, – хмуро сказал Славников. – Плохо у меня в голове все это укладывается, отвлекаюсь. А надо бы заучить.
– Они вышли разом? Или поочередно?
– Сперва пошел Ушаков… Позвольте! – Славников вскочил. – Я же еще хотел спросить его, куда он потащил свой узелок! И тогда Родионов вскочил и пошел следом…
– Отродясь у меня таких бешеных трудников не бывало. Нужно их отыскать. Я сговорился – поплывем с соловецкими иноками, а они уже условились с поморами, что возят на кочах, когда погода будет благоприятна, за ними пришлют человека. Что, коли прямо сейчас пришлют, а эти два бездельника где-то носятся? Их надо найти! Идем!
Василий стал тормошить Савелия Григорьевича, тот бурчал и огрызался.
– Оставьте его, я с вами пойду, – сказал Славников. – И мальчиков возьмем. Митя, Федя, собирайтесь.
– И я! – воскликнул Гриша, вдруг обидевшись, что его не берут на поиски.
– Вас бы потом не пришлось искать…
Но Гришу все же взяли с собой.
– Митя, беги, дружок, к бабьим комнатам, позови Катюшу, – попросил Василий. – Она тоже пригодится. Скажи – пойдет с нами на пристань искать подлеца Ушакова.
Славников отметил – Родионова Василий подлецом не назвал.
Митя кинулся исполнять поручение. Тихий и покорный парнишка только среди трудников и нашел хорошее к себе отношение. Гриша, который сперва на него косился, в конце концов стал говорить с ним о книжках, даже о таких, по которым учатся в гимназии, Родионов купил ему пряник, Василий всегда обращался к нему ласково – Митя был счастлив услужить такому человеку.
– Отчего на пристань? – спросил Славников.
– Более некуда, – ответил Василий. – Они непременно туда пошли.
– Отчего вдруг? – удивился Славников. – Может, отправились на поиски трактира?
– Может, и так. Да только… На пристань!
– Так она же огромная!
– Далеко они уйти не успели. Катюшка! Ну, сколько же тебя ждать?
– Я сразу собралась!
– Пошли!
Трудники со своим старшим вышли за ворота Соловецкого подворья, сказав привратнику, что скоро вернутся.
Славникова удивило, что Василий Игнатьевич так яростно взялся за поиски. Не хотят люди больше быть трудниками – ну так вольному воля, ходячему путь.
И другое его удивило – Василий проявлял странное любопытство к стоящим у пристали судам, спрашивал у матросов, когда в путь. По всему выходило – Василий отчего-то боялся, что Ушаков и Родионов куда-то уплывут. Насчет Ушакова – это хоть имело смысл, человек узелок с вещами прихватил. Но Родионов ушел с пустыми руками.
Пристань гудела, дребезжала, отовсюду слышалась ругань, русская, норвежская и английская, пробегали люди с пустыми тачками и носилками, другие гнали к сходням полные тачки, грузчики ловко взбегали, согнувшись под тяжестью мешков, и тут же, на причале, буянил пьяный мореплаватель, не позволяя доставить себя на судно, и тут же семейство из трех взрослых баб и дюжины детей громогласно прощалось с собравшимся в дорогу мужем и отцом, и тут же, всех распихивая, неслась погоня за воришкой, стянувшим что-то ценное.
Славникову эта суета страх как не нравилась, но делать нечего – по приказу Василия Игнатьевича трудники попарно разбежались в поисках беглецов: Славников с Гришей, Василий с Катюшей. И было же Славникову чем сейчас занять ум, а мысли в голову являлись неподходящие: что между ними, между странником и девицей даже не из мещанского сословия, а чуть ли не дворянского, что их объединяет?
Однако он честно высматривал высокую фигуру Ушакова и, занятый этим, не заметил, куда подевался Гриша. Гимназический учитель отстал – чего и следовало ожидать!
Хотя Василий Игнатьевич и был уверен, что Ушаков с Родионовым где-то на пристани, Славников решил заглядывать и в переулки, ведущие к Троицкому проспекту. Там тоже было немало народу. Вдруг ему показалось, что мелькнул знакомый серый платочек. Это могла быть Катюша, значит, поблизости – Василий, значит, они гонятся за Ушаковым и Родионовым, значит, им может понадобиться помощь.
Славникова ноги сами понесли по переулку, мысль о погоне за Ушаковым явилась уже потом, на бегу. Он не знал, что бегать в армяке, тяжелые полы которого путаются между ногами, так неловко.
Катюшу он нагнал довольно быстро.
– Где он? – первым делом спросил Славников. – Где Ушаков? Куда пошел? Туда? Я – за ним, вы держитесь сзади. Василий Игнатьевич где?
– Туда пошел, – Катюша махнула рукой, указывая направление куда-то в сторону Соломбалы, глядя при этом в глаза Славникову широко распахнутыми и оттого малость безумными черными глазищами.
– Я испугал вас? – догадался Славников. – Простите, бога ради! Вы ведь с Василием Игнатьевичем побежали за Ушаковым?
– Да…
– Бежим вместе!
Этот бег – всего-то с полсотни сажен до проспекта – был мгновением давнего детского счастья, веселого полета наперегонки, с хохотом и падением в густую, ароматную, июньскую, еще не знавшую сенокоса, траву.
– Направо? – спросил Славников.
– Я не знаю…
– Куда они побежали?
– Туда…
– Выйдем на проспект, оглядимся, может, что-нибудь поймем. Не отставайте, не то опять потеряетесь.
Но Славников и на проспекте не понял, куда делись Василий, Ушаков и Родионов. Да и не мог понять – перед глазами проносились экипажи, чуть ли не впритирку к стенам домов тащились телеги, а деревянный тротуар располагался как раз посередке проспекта, и еще нужно было изловчиться, чтобы к нему перебежать.
Как вышло, что они, уворачиваясь от конской морды, вдруг схватились за руки, Славников не понял. Но, уже на тротуаре, они не сразу друг дружку отпустили, было еще несколько непонятных мгновений – и пальцы разом разжались.
Славников безмолвно назвал себя нехорошим словом. Вот девичьих пальцев ему только недоставало…
Быстрым шагом, ныряя между прохожими, Славников с Катюшей прошли чуть ли не полверсты, и тут их нагнал выскочивший из переулка Федька.
– Андрей Ильич, вас дядька Василий ищет! Там дядька Родионов дядьку Ушакова поймал!
– Я решительно ничего не понимаю, – сказал Славников. – Я думал, они зачем-то вместе сбежали…
– Пускай с ними Василий Игнатьевич разбирается! – сердито выпалила Катюша.
Славников не понял – откуда в голосе такая внезапная злость.
Дальше была какая-то непонятная суета – Василий с Родионовым не вели, а прямо-таки конвоировали Ушакова к Соловецкому подворью, Ушаков громогласно клялся и божился, что побега не замышлял, что его неверно поняли и что он всей душой стремится в Соловецкую обитель, Василий Игнатьевич не менее громогласно читал целую проповедь о долге трудника, Родионов же молчал.
За ними шла Катюша, за Катюшей – Славников, Федька забежал вперед, а Митя держался при Славникове.
Когда Катюша остановилась и нагнулась – по всей видимости, чтобы завязать шнурок узкого ботиночка, – остановились и Славников с Митей. Ботиночки такие – не самая подходящая обувка для путешествия на север, подумал Славников, отчего она не в войлочных котах, отчего он раньше не замечал этого несоответствия?
Ведь Василий позаботился о том, чтобы все трудники обулись в коты. Что же он Катюшу вниманием обошел? Неужто хочет, чтобы она простыла и слегла? Странно все это…
Таким порядком они вернулись в Соловецкое подворье, а там ждала новость – пропала странница Федуловна.
– Вот ведь старая ворона! – воскликнул Василий. – Отродясь не бывало, чтобы трудники разбегались, как тараканы! Еще француза нашего где-то носит нелегкая!
Он имел в виду Гришу, который за время водного путешествия, а это – не много не мало, а тысяча сто пятьдесят шесть верст, ни слова не произнес по-французски.
А потом случилась странная сценка. Ушаков ушел в отведенную трудникам комнату, Катюша ушла к женщинам, Славников тоже дошел до дверей комнаты – и обернулся.
Василий и Родионов молча смотрели друг на дружку. И Василий сделал жест, движение даже не всей руки, а кисти, направленное к Родионову. В переводе на словесную речь оно могло означать: как мне, сударь, прикажете вас понимать?
На что Родионов ответил кратко и непонятно:
– От меня вреда не будет.
В комнате они опять разбрелись по углам, каждый занялся своим делом. Помещение было очень велико, каждый в ожидании ужина занялся своим делом, потом пришел инок, позвал в домовую церковь и затем в трапезную.
– Где же нелегкая носит нашего гимназического учителя? – спросил Василий Игнатьевич. – И старая дура, прости господи, пропала…
– Значит, останутся голодными, – ответил Ушаков. – Но старая дура не пропадет – я эту породу знаю, небось, прибилась к чьему-либо двору, потчует баб сказками, а те ее кормят.
– Сидор Лукич, придержи язык, – хмуро сказал Василий Игнатьевич. – Я могу Федуловну старой дурой назвать, потому – не первый год с ней знаком, а ты – не моги! Смирись и не суесловь. Да и заруби на носу – я за тобой буду строго смотреть, пока не сдам тебя с рук на руки отцу Маркелу. Понял, блудослов?
– Понял… – буркнул Ушаков.
Когда дошли до трапезной – оказалось, пропал Родионов, но очень скоро нашелся. Правда, опоздал к общей молитве, но попросил прощения. Вид у него был как у человека, узнавшего не слишком приятную новость.
Их усадили за длинный стол, предложили постное – серые щи, сыр гороховый, кашу перловую, пироги с грибами, а на десерт – плотный гороховый кисель, нарезанный квадратиками и политый постным маслицем. Пища пахла приятно и была очень вкусна – Славников еще не знал этой особенности монастырской стряпни и удивился. Однако он вдруг выделил среди ароматов знакомый резкий запах. Тут этому запаху было не место, и он завертелся, пытаясь понять, где источник благоухания.
– В чем дело? – тихо спросил Василий Игнатьевич.
– Отчего-то пахнет ружейным маслом…
– И впрямь…
Теперь уже принюхивались оба.
– Вот черт, – прошептал Василий Игнатьевич. – Что ж это все значит?
И нехорошо посмотрел на Ушакова.
Тот ел кашу и, жуя, что-то ухитрялся шептать на ухо Савелию Морозову.
– Непохоже… – ответил Славников. – Хотя…
Он имел в виду: Ушаков непохож на человека, который станет таскать с собой пистолет, да еще старательно его смазывать. Но две попытки Ушакова сбежать были весьма и весьма подозрительны.
– Черт знает что… – ответил Василий Игнатьевич, и тут к нему подошел высокий и худой инок.
– Мы тут бесов не призываем, – сказал он.
– Прости, Христа ради, честный отче. Вырвалось…
– Вдругорядь язык придерживай.
А Славников перевел взгляд на Родионова.
Вот у этого человека в котомке вполне мог оказаться пистолет.
Глава 3
Гришу к концу трапезы привел один из иноков, чье послушание было служить на подворье и смотреть за порядком. Гимназический учитель спутал переулки и едва не вышел в потемках в самую тундру. И тогда же появилась Федуловна.
Вид у странницы был даже не потрепанный, а почитай что растерзанный и совсем жалкий, платок сбился, рукав шубейки полуоторван, на щеке – царапина. К тому же, вымокла – под дождь попала.
– Что это с тобой, матушка? – спросил ошарашенный Василий. – С кем ты воевала?
– Ох, Игнатьич, с православными людьми! Думала – там же меня и до смерти прибьют!
Оказалось Федуловна в поисках святынь и святынек, намоленных икон и диковинных чудес забрела в Свято-Троицкий собор. Его начали строить еще при царе Петре. А, поскольку этого царя на Севере уважали, то и хранили там предметы, имевшие к нему прямое отношение. Хотя многих богомольцев смущали три пушки, подаренные Петром еще архиепископу Афанасию, – они были сняты с захваченных под Архангельском шведских фрегата и яхты. О пушках спорили, место ли им в храме, а вот огромный сосновый крест очень почитали – его сам Петр изготовил в память о своем спасении от морской бури. Отчего-то богомольцы решили, будто крест – чудотворный, и старались взять себе от него хоть малую щепочку, за что причт их немилосердно гонял. Могла ли Федуловна удержаться от соблазна? Как у всякой странницы, у нее в котомочке, кроме прочего, был небольшой нож. Она подкралась и потихоньку пристроилась сбоку, чтобы отгрызть снизу кусочек. Рядом оказалась еще одна любительница святынек, они шепотом повздорили, к ним прибежали дьячок, здешняя просвирня и женщина от свечного ящика. Началась совершенно неуместная в храме склока, пришел суровый батюшка и велел гнать таких вредительниц в тычки. Побоище продолжалось на паперти, пока добрые люди крепким словом не разогнали вояк.
Федуловна, очень обиженная, побрела по Троицкому проспекту куда глаза глядят, надеясь отыскать храм, не столь же величественный, как Свято-Троицкий, но непременно с чудотворными иконами. Напротив гимназии она увидела медного святого, не по-русски одетого, на постаменте, а перед ним – крылатого ангела, подающего ему лиру. Какой из многих святых мог бы играть на лире, Федуловна не знала, но предположила – это некого мученика или великого молитвенника так встречают в раю. Решив, что виной ее необразованность, она преклонила колени перед медным святым и принялась шепотом молиться. Молитве помешали гимназисты, выскочившие после занятий.
– Бабка! Бабушка! Ты перед кем поклоны бьешь? – закричали они. – Это же Михайла Ломоносов!
– Какой еще Михайла? Вон – ангел! – огрызнулась Федуловна.
– Какой ангел? Гений это, бабуля! Ломоносовский гений! А лира – потому что Ломоносов оды писал!
– И вечно они так, – сказал гимназист постарше. – Им дай волю – станут перед Михайлой Васильевичем свечки ставить. Ступай, бабушка, ступай!
Тем и кончился для Федуловны богомольный архангельский поход в поисках чудес. То, что она заблудилась и угодила на вечернюю службу в храм, названия которого не знала, и во время той службы ощутила зверский голод, было достойным завершением суматошного дня.
– Больше не шастай, – сказал Василий. – Это тебя еще Бог уберег, что не сразу под дождь попала, тебя лишь малость подмочило. Тут дожди обыкновенно с утра и поздним вечером льют, а с моря уже вовсю холодным ветром тянет. Только еще недоставало, чтобы ты слегла. Как мы тебя, полудохлую, в обитель потащим? Тут тебе домовая церковь, в ней и молись. А про чудеса тебе отец Кукша все расскажет.
Федуловна отправилась на поиски отца Кукши и услышала много такого, что у нее прямо глазки загорелись. Она представила себе, как, вернувшись с Севера, станет в знакомых домах пересказывать хлебосольным хозяевам подвиги преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Особо ей понравилось чудо с орлом. Отец Кукша, не впервые рассказывавший это, уже до того наловчился, что руками изображал взмахи орлиных крыльев, и весьма правдоподобно. Чудо же было предивным. В давнее время плыл по озеру в малой ладьице некий человек с сыном отроком. Налетела буря, ладьица наполнилась водой – впору погибать. Человек взмолился святым чудотворцам Зосиме и Савватию – а они прислали на помощь огромного орла. Тот, сев на край ладьицы, взмахами сильных крыльев всю воду вычерпал – и так человек со своим отроком спасся, и до конца дней не переставал благодарить Зосиму и Савватия.
– Перышко бы из того крылышка добыть… – возмечтала Федуловна, и тут же сообразила: ведь потомки того дивного орла и по сей день летают на севере, так, может, и их перья чудотворную силу имеют? В мореходном странствии от потопления сберегают? Ведь такому перышку, поди, цены нет! Знатная была бы святынька…
Пока Федуловна слушала про чудеса, Гриша и Славников читали книжки. Гриша – жития святых, Славников – Евангелие, пытаясь применить его к себе. Он понимал, что прощать врагов – дело богоугодное, но коли ты сам себе – враг, то как себя простить?
Ушакова же Василий держал при себе. Ушаков дулся, бурчал что-то совсем злобное, но Василий, видать, не считал его буркотню достойной внимания. Он вел разумные разговоры с иноками, служившими на подворье, о делах практических, забирал у них книги для доставки в Соловецкую обитель и припасенный для монастырских поваров провиант – чай, сахар, рис, перец и мускатный орех, а также несколько больших корзин с бутылками – в них был кагор, необходимый для причастия. Все это было уложено, увязано и стояло наготове – в любую минуту мог явиться человек из Соломбалы с известием, что прибежали кочи – небольшие, но очень надежные суденышки поморов.
– Свечкой кагор проверяли? – спрашивал Василий. – Каждую бутылку? Сейчас ведь сам проверю! Коли сквозь бутылку посмотреть на огонек, и тот огонек виден, пусть тот кагор в трактире извозчикам подают! А для церкви он негоден!
И ведь не поленился, проверил, три бутылки забраковал.
С Родионовым Василий Игнатьевич почти не разговаривал, но время от времени они друг на дружку поглядывали, взоры встречались. Однако поводом к началу беседы это не становилось.
Савелий Григорьевич Морозов, хоть и помылся с дороги, хоть и поспал немного, насладившись горячим чаем с баранками, хоть и после сытного ужина прекрасно выспался, а чувствовал себя прескверно. Если бы можно было усилием воли перенестись в Вологду – он бы так и сделал. Там – угол в подвале у сапожника Харитона Даниловича, там дважды в день хоть кашу с постным маслом, хоть пустые щи, а дадут. И есть приятели в трактирах, которые, коли подойти смиренно, с поклоном, присесть с краешку, потом ввернуть в разговор шуточку, острое словечко, посмеются и непременно поднесут рюмашечку.
Он уже достиг той степени запойного пьянства, когда много не надо – раньше его разве что целый штоф с ног сбивал и укладывал, теперь довольно пары рюмашечек. И с них уже так развезет, что сердце радуется и мир вокруг прекрасен.
Савелий Григорьевич знал, что стал горьким пьяницей, но не придавал этому большого значения, пока не получил основательный нагоняй от возмущенного отца Амвросия, к которому он, желая в Успенский пост причаститься, заявился на исповедь. Как раз накануне гулял купец Анисимов, празднуя именины, и таскал за собой по всей Вологде целую свиту пьющего народа. Обойтись без Савелия Морозова он никак не мог, и бывший приказчик, изгнанный несколько лет назад за пьянство, был накормлен и основательно напоен.
Даже не вспомнив, что перед исповедью и причастием необходим трехдневный пост, Савелий поплелся в храм Божий, где и поразил священника мощным перегаром.
В ярости отец Амвросий велел ему плыть на Соловки и потрудиться во славу Божию, если он не хочет вовсе спиться и помереть зимой в сугробе. Неведомо, собрался бы Савелий Григорьевич в путешествие, или прятался бы от отца Амвросия, перебежав в другой приход, но в церковь зашел странник, Божий человек, давний знакомец батюшки по имени Василий Игнатьевич. Он пожертвовал на храм пять рублей и маленький серебряный складень, завязалась краткая, поскольку начиналась служба, душеполезная беседа, и отец Амвросий сдал ему с рук на руки несостоявшегося причастника.
А спорить с Василием Игнатьевичем Савелий Морозов не отваживался – он Василия просто боялся. Тот сказал, когда и куда прийти с имуществом, – Савелий ослушаться не сумел. Объяснить природу этой власти незнакомого человека над собой Савелий не мог – было в ней нечто даже потустороннее.
Мысль о детях ему в голову тогда пришла – но бывший приказчик считал, что его совесть чиста. Дочь Дуня, бесприданница, удивительно хорошо выдана замуж, у нее можно тайком от супруга перехватить гривенничек и даже четвертачок, сын Митька определен в лавку к купцу Торцову, за него можно не беспокоиться…
И надо ж тому случиться, что Митька вместе с ним поплыл на Соловки! Да еще Василий Игнатьевич этим явно доволен!
Савелий Морозов был уверен, что он – хороший отец. Сын пристроен туда, где его кормят-поят, уму-разуму учат, даже деньги на праздники дарят, так что можно прибежать к нему и взять пятачок или гривенничек. В торцовских лавках Митя не забалуется, хорошо себя окажет – со временем станет младшим приказчиком или даже когда-нибудь старшим приказчиком, женщины торцовского семейства и невесту ему присмотрят. А теперь – вот он, сын, который испуганно косится на родного батю, да и батя на него косится, и оба друг другом недовольны. Вот что с сыном делать в Соловецкой обители?
Да впридачу приятель у него завелся – тот еще висельник! Савелий понимал, что именно Федька затащил Митю на барку, чтобы вдвоем отправиться в плаванье. А ничего поделать с этим супостатом не мог – супостат пришелся по душе Василию Игнатьевичу. И не только Василию – Иван Родионов тоже охотно беседует с любознательным Федькой.
С другой стороны, парнишки друг за дружку держатся, вместе им весело, всюду лазят, пристают к взрослым с вопросами. Без этого шустрого Федьки Митя сидел бы возле бессловесного батюшки и тосковал… и смотреть на него было бы тошно…
Савелий Морозов первые дни был настолько ошарашен собственной отвагой, потащившей его в плаванье, что хмель душевный вполне заменял ему тот хмель, что в шкалике. Но желание выпить родилось и окрепло. И всего-то хотел – рюмашечку! В Великом Устюге не удалось, далее, на пристанях, не удалось – за ним следили, а в Архангельске он попросту проспал возможность сбежать в трактир, пока Василий гонялся за Сидором Ушаковым.
А если бы и сбежал?
Савелий вновь ощутил себя осенним листком. Оторвался листок от ветки, гонит и тащит его ветер, сопротивляться бесполезно. Куда, зачем? Трудиться? Да что такое – трудиться?..
Последнее занятие Савелия Морозова было – учить грамоте и счету детей сапожника. Занятие приятное – сиди с ними под окошком, слушай их лепет да вовремя покрикивай. А теперь?
Как стать трудником человеку, который сроду ничего тяжелее ведра с водой не поднимал? Однако слово дадено, дадено возмущенному отцу Амвросию, хоть и с перепугу – а дадено, причем в Божьем храме, перед образами. За нарушение Господь строго спросит.
Ни с кем из прочих трудников Морозов не сошелся. Славников казался ему гордецом, к которому и подойти-то неприятно, Гриша Чарский – странным и непонятным созданием, вроде попугая в клетке, попугай знает много разных слов, а как с ним говорить – неизвестно. Это были люди из какого-то иного мира. Ушаков же внушал страх, но не такой, как Василий. Василий просто в каждом движении и слове выказывал привычку повелевать людьми, поди не покорись… А вот Ушаков…
Савелий видел, что ему шутки над людьми, не умеющими дать отпор, приятны, что он когда-то жил среди таких людей, возможно, был богатым купцом, хотя – купеческие шутки были какими-то иными, купец сперва тебе рожу горчицей вымажет, а потом за страдание и пять рублей сунет в зубы – беги, мыла купи на все, умывайся! Этот же старался уязвить словами – да и полушки от него не дождешься… И потому бывший приказчик старался держаться подальше от Сидора Ушакова, хотя другого подходящего собеседника пока не было.
Но за ужином что-то произошло.
Савелий Григорьевич как человек, вечно подневольный, умел угадывать настроение тех, от кого был зависим. И вот он увидел, что заносчивый Славников, который прежде даже от Василия Игнатьевича держался подальше, вдруг с ним как-то поладил, при этом загадочно поглядывает на Ивана Родионова. А к нему самому, Савелию, вдруг проявил благосклонность Ушаков и сел с ним рядом, даже шутил беззлобно, наклоняясь к его уху.
Женщины сидели за другим столом, и Ушаков вдруг пустился шепотом обсуждать их стати. Крепкая и бойкая Арина ему явно не нравилась, а вот тихую Лукерью он одобрил и даже стал науськивать Савелия, чтобы попробовал к ней подластиться. Морозов уже и забыл, когда подбивал клинья под баб – было после смерти не шибко любимой жены что-то такое, мимолетное, но ценности он, человек пьющий, для приличной бабы не представлял. Да и для гулящей тоже – денег-то у него в одном кармане блоха на аркане, а в другом вошь на веревочке.
Про Катюшу Ушаков не сказал ни слова.
После ужина возникла необходимость посетить нужник, и Савелий, сунув босые ноги в коты, спустился во двор, в дальний его конец, где выстроился целый ряд самых простых нужников.
А на обратном пути он увидел кое-что странное.
За углом приюта богомольцев стояли Василий с Катюшей и о чем-то спорили. Издали Савелий не слышал голосов, понял только, что Василий ругал Катюшу, а она вроде бы оправдывалась. Чтобы Василий не подумал, что Савелий подслушивает, бывший приказчик решил обойти здание с другой стороны и не попасться Василию на глаза. И тут обнаружилась еще одна странность.
Издали за Василием и Катюшей следил Славников. При этом он, кажется, даже ничего рядом с собой не видел и не слышал – так увлекся подглядыванием.
– Ишь ты… – прошептал Савелий.
Если бы пересказать это «ишь ты» более пространно, получилось бы: «А ведь тебе, голубчик, девка нравится, дай тебе волю – тут же ты ее и уговорил бы, да только против Василия Игнатьевича у тебя кишка тонка, он ее для себя бережет, для себя ее на Соловки берет, грешник окаянный!»
Катюша Савелию не нравилась – уж больно задирала нос, почти как Славников. Гриша – тот был попроще, даже с сыном Митькой возился, что-то ему рассказывал. Но Гриша был непонятен, а Катюша – очень даже понятна: красивая девка, как и полагается бабьему сословию, прилепилась к крепкому мужику и тянет из него подарки. Живя с семейством сапожника, Савелий иногда помогал ему и стал кое-что смыслить в обуви. Такие узкие ботиночки, как у Катюши, в починку к Харитону Данилычу попадали редко, и обращался он с ними очень бережно, потому что дорогие. А как бы девка сама заработала на такие ботиночки? Вот то-то и оно.



