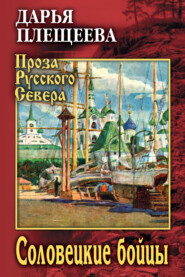
Полная версия:
Соловецкие бойцы

Дарья Плещеева
Соловецкие бойцы
© Плещеева Д., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Глава 1
– И кто ты есть? Нет, ты мне ответствуй – кто ты есть? – требовал первой гильдии купец Африкан Гаврилович Торцов. – Как на тебя поглядеть – так ты есть дармоед и бездельник! Сущий бездельник! Нечто это ремесло – французскому языку учить? Ремесло – вот, у ювелира Вишневского в руках ремесло, так оно его кормит-поит, дай бог всякому. Вон у Алексея Александровича ремесло – все законы превзошел, к нему люди с подношениями идут, оно его кормит. И как еще кормит! А, Алексей Александрович?
– Грех жаловаться, Африкан Гаврилыч, вашими щедротами сына в полку содержу, – подтвердил стряпчий.
Он уже лет пятнадцать исполнял поручения матерого купчины, ни в чем ему не противоречил, пару раз спас его от опрометчивых поступков, и за то его Торцов приблизил к своей особе, считая чуть ли не домочадцем. Даже пошел в крестные отцы к внучку Алексея Александровича – сам вызвался.
Огромный Торцов, сам – рыжий и с рыжей бородищей, и длинный тонкий стряпчий Никаноров гляделись на вид презабавной парочкой, но не до смеха было тому, против кого они объединяли усилия, причем на самой грани законности.
– Так ты же мне и служишь, Алексей Александрович! На совесть служишь! Да у моего конюха Антипки – и то ремесло! Я его прогоню – так он в тот же день к Антроповым наймется, или к Савицким, или к Багровым, под белы рученьки его на конюшню поведут, по ковровой дорожке, потому – он конское слово знает, его кони любят! Знаешь, как его ремесло кормит? Не знаешь? Скажи ему, Алексей Александрович.
– Господин Торцов при мне вексель Антипу подписал, что обязуется в день его, Антипова, венчания выплатить ему в дар сто рублей серебром, – подтвердил старый стряпчий. – И за дело. Таких холеных коней, как у господина Торцова, во всей Вологде нет.
– Вот то-то же! А ты? Никчемный ты человечишка! Я без коней прожить не смогу, потому – мое брюхо на дрожках или там на санях возить надобно, а без французского языка и деды мои, и прадеды век прожили, добра нажили, да и я проживу! И Лизка моя без французского языка замуж выйдет, вон – Олимпиада моя Кондратьевна хвалилась: свахи проходу не дают, двор мой в осаду взяли, вот отдадим Аграфену – Лизкина очередь настанет.
Гриша опустил взгляд, боялся и в лицо Торцову смотреть, а видел только знатное брюхо, расстегнутый жилет и мятую рубаху. Да еще – толстенную золотую цепь, которая тянулась в кармашек к дорогому хронометру.
– Жених! Ты на себя глянь! Ножонки у тебя – как ниточки, срам смотреть! Как у воробья ножонки! Вот – нога! – Торцов похлопал себя по мощной ляжке. – Ты на сюртучишко свой глянь! В таком сюртучишке только в золотари наниматься, с бочкой ездить да отхожие места чистить! Мало ли я тебе за уроки платил? Ходишь ко мне в обносках, мой дом позоришь. Ну?!
– Африкан Гаврилович, я матушку содержать должен… ей посылаю… – пробормотал Гриша.
– Матушке много ли надо? Скажи уж прямо – ленив и бездельник природный! А туда же, в женихи метишь! К кому? Ко мне, к Торцову! Да тебе и свахе-то заплатить нечем, так ты вон что выдумал – сам себе сваха! Супружница у Лизки все твои цидулки нашла, вчера мы вслух читали – я ржал, как жеребец стоялый!
– Не вините Лизавету Африкановну, она еще дитя, – сказал стряпчий. – Дитяти лестно, когда ему амурные цидулки шлют.
– Шестнадцать, семнадцатый – какое еще дитя? Ее матушку по пятнадцатому году за меня отдали. Да я на Лизку не сержусь. Велел только башмаки у нее забрать, все, чтобы из дому – ни ногой. Лизка – дурочка, да господин Чарский – не дурак! Смекнул, какое приданое может за девкой взять. Что, нет? Да что ж ты стал в пень?!
– Я всем сердцем люблю Лизавету Африкановну! – выкрикнул Гриша, возмутившись тем, что его упрекнули в корыстных намерениях.
– Ого! Экий ты у нас любитель! А коли отдам Лизку без приданого – возьмешь? И чем кормить будешь? Измаранными тетрадками?
– Африкан Гаврилыч, будет тебе, – ласково, будто малому дитяти, сказал стряпчий. – Господин Чарский все понял и впредь к тебе в дом жаловать не изволит. А что ты ему должен – Митька в гимназию отнесет.
Сильно не понравилось лицо молодого учителя опытному Никанорову. Он видел, что еще немного – и Гриша впадет в безумие. А безумие кроткого, почти бессловесного и небогатого человека может оказаться очень опасным. Стряпчий же, недавно уладивший очередную шалость Торцова, спьяну усадившего в трактире полового Степана задом в тарелку со щами, очень не хотел разгребать новые купеческие подвиги.
– Да и приплачу, лишь бы его постную рожу тут больше не видеть! – Купчина фыркнул. – Правду бабы говорят, последние времена настали. Бездельникам деньги платят за то, что они не по-нашему лопотать учат. Тоже мне труд! Что молчишь? Да всякий мужик, что сам землю пашет и боронит, достойнее тебя, бездельника! Посватается мужик, у которого свой двор, крепкое хозяйство, – так за него Лизку отдам, коли он еще и собой хорош, понял? Коли плечищи – во! Ручищи – во! Есть чем девку мять! А Лизка из моей воли не выйдет! И сама же довольна останется! Ты хоть лопату когда в руках держал? Вилы, грабли? Хоть что-то потяжелее гусиного перышка? Да и по роже вижу, что нет. Одно слово – никчемный человечишка. Тьфу, надоел. Пошел вон.
Никаноров отлично понимал, отчего так хорохорится Африкан Гаврилович перед человеком, чье мнение ему безразлично. Можно было, как делается у светских людей, отослать ему деньги за уроки и на словах передать, что впредь в дом пускать не велено. Торцов же устроил целый театр для одного зрителя, и зрителем был отнюдь не учитель из гимназии, зрителем был он сам, Торцов. Он сам себе доказывал, что все еще силен, могуч, богат, всевластен. И точно – денег на содержание дома и семейства, на хороших лошадей и шалости в трактирах еще хватало. А почему? Потому, что купец, не желая показаться всей Вологде нищим, потихоньку брал деньги из оборота.
Слава Вологды осталась в прошлом. Когда дед и отец Торцова зарабатывали тут капиталы, торгуя лесом и всем, что требовалось Европе, единственной возможностью отправить туда товар было – отправить водой до Архангельска, а там перегрузить на корабли. Но более двадцати лет назад был прорыт Вюртембургский канал, соединивший Шексну и озеро Кубенское. Казалось бы, вот водный путь, по которому можно пройти из Волги в Белое море, вот они, живые денежки! Но канал вошел в Мариинскую водную систему, а это – путь из Волги к Санкт-Петербургу. Естественно, петербургские коммерсанты перетащили к себе все грузы, до которых дотянулись, а для иностранцев плаванье по Балтике было куда приятнее плаванья по северным холодным морям.
Упрямый Торцов держался за Архангельский порт, поставлял зерно и прочие припасы монастырям и малым городкам на Сухоне и Двине, что-то и в Европу уходило, но это были не те доходы, которые ему грезились. И если бы кто заглянул в его бухгалтерию, то был бы сильно озадачен – упрямый и хвастливый купец потихоньку проедал деньги, которым следовало быть вложенными в дело, лишь бы вологжане не заподозрили, что не все у него так прекрасно, как снаружи кажется.
Вологда же пустела, жители разбегались. Хотя уже было все для прекрасной жизни, включая театр, светскими забавами коммерции не заменишь…
– Идем, идем, вместе выйдем, – тихо сказал стряпчий Грише. И, поскольку молодой учитель окаменел, взял его за плечо и попросту вытолкал из гостиной.
– Я не могу! – вдруг воскликнул Гриша. – Я должен объяснить!..
– Кому? Ей? Да вас, сударь мой, к ней теперь и на пушечный выстрел не подпустят. И что за блажь – толковать незамужней девице о любви? Коли угодно – на то замужние дамы есть, вдовы есть, они это понимают и любят. А вы – Лизаньке! Я чаю, она даже не поняла, что вы ей там в своих цидулках понаписали.
– Она отвечала мне…
– Этого еще недоставало. И ведь, небось, сохранили? Сожгите немедля. Господин Торцов, боже упаси, дознается – надает девушке оплеух. Идем же, идем, вам тут больше делать нечего. И Бога молите, чтобы господин Торцов по всему городу шум не поднял. Тогда вам и в тех немногих домах, где даете уроки, откажут.
– Он – сатрап и тиран…
Стряпчий под локоток доставил Гришу до дверей и буквально выволок на улицу.
Когда дверь за ними захлопнулась, Никаноров отпустил сюртучный локоть и перекрестился – кажись, удалось угасить скандал.
– Как же я без нее? – жалобно спросил Гриша. – А он отдаст за такого же пузана, только бы тот был первой гильдии купцом или фабрикантом! А о том, что у нее могут быть чувства!..
– Да какие чувства? И вы тоже хороши. Ну, нашли же вы, Григорий Семенович, с кем о любви толковать, – хмуро сказал Никаноров. – Все сами погубили. Да лучше бы вы ему признались: за приданым-де гонюсь! Он бы посмеялся, покричал, да не обозлился. Это ему было бы хоть понятно. А сейчас – зол. Вам бы тут более не показываться да дурацких цидулок Лизавете Африкановне не слать. С него ведь станется и дворовых псов на вас спустить.
– Эй, эй! Любитель!
Стряпчий и учитель разом подняли головы. В распахнутом окне воздвигся Торцов. Рыжая борода лихо торчала и в солнечных лучах полыхала пламенем.
– Слушай, чего скажу! Пойдешь на год трудником в какую ни есть монашескую обитель, мозольки на белых ручках наживешь, так я, может, и сменю гнев на милость! – Купец расхохотался. – Да куды тебе! Кишка тонка! Это не цидулки девкам писать! Там – каменья ворочать! В лесу делянки расчищать!
Гриша, не желая слушать издевки, быстро зашагал прочь.
– А то – на Соловки! Там, сказывали, трудники нужны! По-ез-жай на Со-лов-ки!!! До-ро-га за мой счет!
– Не полез бы в петлю, – сказал стряпчий. – Зря ты так, Африкан Гаврилыч.
– А и полезет – невелика потеря. Возвращайся! У нас пообедаешь!
Это было приказанием, и Никаноров вернулся в дом. У Торцовых кормили без затей, да сытно: сам всем разносолам драчену предпочитал, жареного гуся, зимой – щи с солониной, летом – простую ботвинью. Стряпчий же любил плотно поесть, хотя на теле жир не откладывался. Да и было о чем поговорить при перемене блюд и после, когда хозяин угостит хорошей сигарой.
Гриша шел, и шел, и шел, думая именно о том, что беспокоило Никанорова: о крепкой веревке и подходящей ветке в саду или в лесу. Отчего-то ему казалось, что лучше проделать это под открытым небом, а не в помещении.
– Да, я жалок, да, я ничтожен, – шептал он, не замечая, что от него шарахаются прохожие. – Да, я – не человек, я – человечишка…
Ноги сами несли его, несли и как-то вынесли на Малую Благовещенскую. Это была приятная зеленая улица, с неизбежными вологодскими березками, народу в такое время там гуляло немного. Гриша остановился возле почтенного двухэтажного каменного дома и задумался – что-то с этим домом было связано…
Он заглянул во двор и все понял.
Там, во дворе, сидел перед мольбертом маленький кудрявый седовласый старичок в халате и малиновой бархатной ермолке, вдохновенно кидал на холст мазки, и лицо было совсем осмысленное.
– Врут же про него… – сам себе сказал Гриша и вошел во двор.
– Позвольте выразить вам свое уважение, Константин Николаевич, как светилу поэзии русской… – тихо сказал он старичку.
– Лошадка, – ответил старичок и указал на свою картину.
Там паслась на темном, почти черном лугу белая лошадь, щипля травку у подножия могильного креста, вдали стоял окруженный разноцветными деревьями рыцарский замок. Сбоку виднелся кусок моря с кораблями, в небе плавала бледная луна.
– О Господи… – прошептал Гриша.
Внезапная надежда оказалась тщетной. Поэт Батюшков, друг самого Пушкина, талант прекрасный и неповторимый, безнадежно сошел с ума. Говорили, раньше буйствовал, теперь вот успокоился, кротко сидит перед мольбертом и малюет лошадок.
– А хорошо бы… – сам себе сказал Гриша и пошел прочь.
Он думал – и впрямь, хорошо бы укрыться в безумие. Вот достойный приют для жалких и никчемных. Там нет ни наглых гимназистов, ни начальства, ни купца Торцова. Поместят в богаделенку, там как-нибудь прокормят. Матушку жаль, ну да и ей место в богадельне для чиновничьих вдов найдется. Безумие – желанный приют для человека, которому незачем жить.
– Чарский, стой!
Гриша обернулся. К нему спешил товарищ – Борис Шеметов, преподававший в той же гимназии математические науки и географию.
Борис был на два года старше, недавно женился, взял хорошее приданое и выглядел как человек, который совершенно доволен и жизнью, и самим собой.
– Ты отчего сегодня занятия пропустил? – спросил, подойдя, Борис. – Директор ругался.
– Да пошел он к черту!
– Чарский, что стряслось? Ну, говори живо!
– Ничего.
– Да я ж вижу – стряслось! Идем ко мне. Жена на весь день к сестре убралась, сестра у нее рожает. Идем, говорю тебе! Ишь, чего выдумал – директора к черту посылать. С голоду умереть, что ли, решил?
Борис чуть ли не силком затащил Гришу к себе, а там, как говорил преподававший Закон Божий отец Никодим, разверзлись хляби небесные – Гриша заговорил.
Он долго молчал о том, как влюбился в Лизаньку Торцову, как писал ей письма, как получил наконец и от нее короткую записочку, и вторую, и третью, как неопытная девушка прятала его послания на дне шкатулки с рукодельем, где они и были найдены матерью и старшей сестрой.
– Так что тиран и деспот Торцов изгнал тебя навечно? – спросил Борис. – Сдается мне, правильно сделал. Вот увез бы ты Лизаньку, повенчались бы где-нибудь в Шексне, а потом? Думаешь, он бы тебя принял с ней, прослезился и посадил ваше семейство себе на шею? Держи карман шире! Он, поди, для дочки уже московского жениха присмотрел. Больно ему нужен нищий учитель. Жениться, брат, надо по уму, вот как я.
– Мне без нее не жить, – ответил на это Гриша.
– Тебе сколько лет?
– Двадцать три стукнуло.
– В такие годы пора бы и поумнеть. А вот что – выпьем-ка мы мадерцы!
Мадера и спасла Грише жизнь и рассудок. Была она из тех сортов, что по карману гимназическому учителю, то бишь изготавливалась в неведомых московских подвалах, но пьянила неплохо. Гриша пил, плакал, читал наизусть стихи поэта Тютчева и наконец уснул на диване.
Утром Борис повел его в гимназию – каяться перед директором, врать насчет несварения желудка и молить о пощаде. Похмельному Грише уже было все равно.
А у дверей гимназии он увидел знакомые дрожки и знакомого кучера Тимофея. Но не купец Торцов вылез оттуда, а парнишка Митька, служивший у него в лавках. Отправить Митьку с издевательским поручением на собственных дрожках – это было вполне в торцовском вкусе.
– Вот, хозяин велел отдать, – сказал Митька и вручил конверт.
Гриша отстранил конверт дрожащей рукой, но Борис не позволил отказаться.
– Торцов тебе за уроки денег должен, бери, не корчи из себя святую невинность. И моли Бога, чтобы он по всему городу о твоем романе не раззвонил. Тогда и вовсе без уроков останешься.
Гриша вскрыл конверт и обнаружил там, кроме сорока пяти рублей ассигнациями, еще записку.
«Как обещано – на дорогу до Соловков», – гласила та записка.
За уроки причиталось двадцать пять рублей, остальное, выходит, вроде милостыни? Подачка нищему, у которого и червонца на дорогу не найдется? Так что – швырнуть эти деньги купцу в лицо?
Он, поди, там, у себя, смеется: ни на какие Соловецкие острова «любитель» не поедет, кишка тонка, пусть хоть с горя пропьет…
Гриша расхохотался таким смехом, что Борису и Митьке жутко сделалось. И выкрикнул:
– Передай сатрапу и самодуру – деньги на дорогу до обители честно употреблю! Да! Мог бы в рожу ему швырнуть! Потому что – заработанное приму, вот эти – заработанные…
Он отделил от тонкой пачки ассигнаций несколько бумажек.
– Этих же не заработал. Но – нет! Употреблю! Шеметов, пусти! За дорогу уплачено! И я туда отбываю! Пропади все пропадом!
Митька, пятясь, вернулся к дрожкам. В глазах у него читалась страшная мысль: «Батюшки, спятил!» Дрожки укатили.
Гриша стоял, не двигаясь и тяжело дыша. Решение было принято.
– Послушай, Шеметов, окажи услугу – вызови ко мне отца Никодима, – попросил он.
Этот священник преподавал в гимназии Закон Божий и хорошо ладил с молодыми учителями. Гриша полагал, что он даст ценный совет и касательно Соловецких островов.
– Так ступай и сам его ищи.
– Нет. Я туда более не вернусь.
– Ты сдурел?
– Нет. А просто не вернусь.
– Помрешь с голоду.
– Значит, такая моя планида.
Тут до Бориса дошло, что Гриша и впрямь собрался на Соловки.
– Да какой из тебя трудник?! Ты на себя-то погляди! Ты ж там в первый же день дуба дашь! Окочуришься! Труднику и пахать, и за скотиной ходить, и бревна таскать надо, когда в обители что строят, а ты? Да тебя же соплей перешибешь!
Борис полагал, что грубые слова вразумят Гришу. Не тут-то было. Худенький, костлявенький Гриша, как внезапно оказалось, был упрямее барана.
Он вдруг понял, что ничего ценного в Вологде не оставляет. Имущества – мало, только одежда и книжки. Ремесло – осточертело, и на Соловках уж точно нет непослушных гимназистов, которые пуляют из трубочек шариками жеваной бумаги и подкладывают кнопки на учительский стул, нет там и так называемых коллег – преподавателей, которые со всем смирились и ничего нового знать не желают. Что же до любви… Так любовь – она в сердце, или в душе, или где ей быть полагается. В этом жилище, как в экипаже, она и поедет в Соловецкую обитель!
Потом отец Никодим объяснил Грише, как отправляются в паломничество на Соловки.
– Год трудником – это ты хорошо придумал. Мозги прочистятся, всякую дрянь из головы как метлой выметет, – сказал он. – Есть у меня знакомец, странник Вася, божий человек. У него такое занятное ремесло – он тех, кто хочет потрудиться на Соловках во славу Божию, туда водит. Собирает здесь, в Вологде, чуть ли не роту и ведет. Он уж знает, где в пути ночевать и чем кормиться. Его недавно у нас видели. Странно, конечно, что теперь – скоро похолодает не на шутку, дожди польют, не время для пешего хождения. Думаю, вскоре Васенька и у меня объявится, мы приятели. Мимо не пройдет! Могу оказать протекцию. Коли ты все обдумал и точно решился.
– Точно, – твердо сказал Гриша.
Так и вышло, что он отправился в Соловецкую обитель – исполнять данное слово, выбрасывать из головы все лишнее и забывать хорошенькую рыженькую Лизу. Даже не взял с собой бирюзовую ленточку, которую однажды выпросил у нее и берег, как святыню, потому что Лизанька в волосах эту ленточку носила.
Ленточку эту он пустил из окошка по ветру…
Послание директору гимназии передал Борис Шеметов – Гриша даже не желал более переступить ее порог. Тот же Борис принес записочку – преподавателю господину Чарскому было велено завтра же явиться на занятия, не то его оштрафуют и вычтут штраф из жалованья. Гриша был в том состоянии, когда гнев начальства значения не имеет. Клочья записки улетели по ветру вслед за ленточкой.
Странник Василий Игнатьевич ему понравился. Роста среднего, худощав и плечист. Голос тихий и ласковый, улыбка – приветливая, взгляд темно-карих глаз – понимающий, лишних вопросов – ни единого. Возраст странника Гриша определил – от сорока до сорока пяти, поскольку в черной бороде и слегка вьющихся черных волосах уже появились серебряные ниточки.
Масть была самая цыганская, а вот лицо – нет. Лицом Василий Игнатьевич сильно смахивал на француза, точнее сказать – на сочинителя Мольера, чей гравированный портрет Гриша не раз видел в книжках.
По указанию опытного странника Гриша взял с собой в мешке всю теплую одежду, а также отдал Василию Игнатьевичу почти все наличные деньги – потому что странник обещал наладить кормежку из общего котла, платить за проезд и прочие услуги. Потом они вместе пошли на торг и взяли Грише теплые серые коты, две добротные холщовые рубашки, которым сносу нет, от стирки лишь мягче становятся, валенки, холщовый кафтан-балахон, долгополый серый армяк из домотканого сукна. Все это было недорого и непривычно.
– Я бы вас пешком повел, пешее хождение очень дух смиряет, – сказал Василий Игнатьевич. – Но в этом году я припозднился. Сентябрь на исходе, чем дальше на север – тем ночи холоднее, и не пришлось бы брести к Архангельску по колено в снегу. Так что поплывем на барке, я сговорился. Тоже хорошо – глядишь, как берега мимо проплывают, молчишь, молишься, думаешь… Ничего, быстро добежим!
Накануне отплытия Гриша рассчитался с квартирной хозяйкой и отнес книги с кое-каким имуществом Борису. Тот в последний раз попытался отговорить – не удалось. Одного Борис добился – чтобы Гриша на всякий случай взял с собой партикулярное платье, сюртук с панталонами и жилеткой, мало ли что. Утром Гриша отправился к месту сбора – к Предтеченской церкви.
До сих пор ему не доводилось таскать на спине мешки, но брать извозчика он не стал – во-первых, не на что, а во-вторых, следует привыкать к трудностям. К церкви он пришел последним.
Будущие трудники были одеты похоже – в длинные, туго захлестнутые кушаками армяки. Странник Василий Игнатьевич же надел в дорогу кафтан – длиной чуть ли не как монашеский подрясник.
– Что ж ты, светик, вчера не приходил? – спросил Гришу Василий Игнатьевич. – Мы тут молебен отслужили. Ты, я гляжу, невеликий любитель службы отстаивать. Этому тебя в обители научат. Ну, знакомься с товарищами. Савелий…
– Савелий Морозов, – сказал невысокий мужичок лет сорока, почти седой, с лицом изможденным, как это бывает у людей пьющих. – Хочу потрудиться, чтобы Господь меня от моего пьянства избавил. До того допился – батюшка в церкви до причастия не допустил. Дух от тебя, говорит, гадкий, такой перегар, что на муху дунешь – она и сдохнет. Так и сказал. И к соловецким старцам идти велел. Слово отцу Амвросию дал – вот, исполняю…
– Славников, – кратко представился молодой трудник. – Иду грех замаливать. Какой грех – про то лишь батюшке на исповеди скажу.
Гриша решил, что этот – ему ровесник. Славников был роста среднего, в перехвате тонок, но худосочным отнюдь не казался, беловолос до такой степени, что легкие пушистые волосы, немного вьющиеся, казались какими-то неестественными, молодая бородка же – рыжеватая. Лицом он был бледен, как и Гриша, вид имел смиренный и понурый, но всякий, поглядев в его синие глаза, понял бы, что задирать будущего трудника опасно.
– Иван Родионов. Уволен из пехоты подчистую. Куда деваться – не знаю. Вот решил в монастыре пожить, потрудиться, – сообщил о себе плечистый и крепко сбитый мужчина, с виду – под пятьдесят, похожий лицом на татарина, да и растительность на лице была совсем нерусская. Однако глаза у него были светлые, а сильно поредевшие волосы – русые и какие-то тусклые.
– Ушаков, Сидор Лукич. Из Твери сюда пробираюсь. И у меня грехов накопилось.
Ушаков был плотным и рослым мужчиной лет под пятьдесят. Гриша отметил широкое лицо и красные щеки, даже красную переносицу, – видно, Сидор Лукич был не дурак выпить и закусить. И тут же Гриша выругал себя – грешно осуждать человека, тем более такого, что собрался поработать во славу Божию.
Все будущие трудники носили бороды, отпущенные по меньшей мере месяца два назад, и Гриша застеснялся. Стараясь понравиться Лизаньке, он отпустил модную короткую бородку и очень о ней заботился, хотя такой, как на картинке в модном журнале, все никак не получалось. Уже с неделю он не подбривал шею и щеки, они покрылись смешной редкой щетиной.
– Григорий Чарский. Иду грехи замаливать…
И впрямь, не рассказывать же этим серьезным людям про несчастную любовь.
– С бабами вам знакомиться незачем, – сказал Василий. – Мы на Соловки не женихаться идем. Ну, стало быть, помолясь – в дорогу, на пристань. Барка ждать не станет.
Будущие трудники забормотали, закрестились, возводя взоры к церковному куполу. Гриша, не зная, как в таком случае положено молиться, прошептал «Отче наш». И Василий повел свой отряд к реке. Четыре женщины, до того стоявшие в сторонке, шли сзади, мешки у них были невелики. Но за ними старичок гнал тачку, на которую было свалено кучей прочее их имущество.
На пристани Василий сразу направился к знакомцу.
– Здорово, дядя Авдей! – издали крикнул он.
– И тебе – наше почтение! – отозвался крепкий седобородый старик, той породы, в которой живут до ста лет, а в девяносто могут еще жениться на молодухе и детей наплодить. – Заводи своих орлов и курочек, веди к носу, там кликни Алешку, он укажет, в которой казенке вам жить. А баб – пока держи при себе, потом я придумаю для них место.
– А что, все уже погрузили?
– Торцовский лес со вчерашнего дня его работники укладывали, сегодня мешки заносили. Пять тысяч с чем-то пудов, вся палуба в мешках, есть на чем сидеть и лежать. Лес славный, сухой, отменный товар. Не зря баркой отправляется, а не плотогоны вниз гонят.



