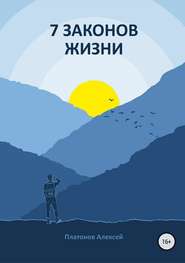 Полная версия
Полная версия7 Законов жизни
Время, проведённое в дороге, Изюмов потратил на разглядывание маленькой дурацкой штуки, похожей на обычный смартфон. Однако посередине с обеих сторон красовался логотип «ИдеалКорп». Это было сделано явно в ущерб функционалу, но с целью подчеркнуть, кто «помогает» получать новое гражданство.
Конвойная машина остановилась у входа в шахту. С виду ничем не примечательный бугор, в который была вмонтирована огромная тяжёлая дверь, опоясывался несколькими рядами колючей проволоки со знаками, указывающими на высокое напряжение.
Конвоиры быстро разобрались с регистрацией, а затем, не объясняя ни слова, втолкнули Изюмова в новое обиталище. Это была комната размером метров пять на шесть с запахом сырости и ровным, как везде, освещением. Здесь находилось четыре кровати по два яруса и какая-то бытовая утварь, разглядеть которую Изюмов не успел, поскольку щёлкнул замок и в помещение ввалилось пять измождённых бедолаг, вероятно сокамерников. На вид они не выглядели заклятыми уголовниками, а больше походили на каменщиков, выполнивших за день двойную норму. Одежда была заляпана смесью глины и цемента, сцепленных обильным потом, а лица покрыты пылью. Поражало одно – глаза. Их глаза светились каким-то необычным светом, в них были одновременно любопытство, глубина и усталость. Чего в них точно не виделось – это уныния.
– Как обосновался? – поинтересовался один из вошедших. – Как тебя зовут?
Изюмов с недоумением посмотрел на робу и начал называть цифры. Гром хохота разнёсся по всей комнате.
– Расслабься. Ты не на воле. Здесь мы общаемся по имени. Я – Филипп, – представился казавшийся самым крепким работяга. – Какими судьбами здесь?
Непонятная с самого начала обстановка, суматоха, полиция, промывание мозгов, приговор без суда и заточение… и всё в один день. Изюмов обмяк…
– Я просто… Просто шёл по улице.
Тем временем – за считанные секунды – заключённые прошли процедуру сухого душа. На нового сотоварища смотрели доброжелательно, в их глазах читалось понимание.
– Поня-я-ятно, – протянул один из них, – мы все загремели сюда с такой историей.
– Присоединяйся к нашим щам… – с ухмылкой произнёс тот, который проходил вакуумную чистку последним.
Это было не только любезно, но и кстати. Изюмов действительно сильно проголодался. Однако вид еды, которую сокамерники стали накладывать из трубы, несколько перебил аппетит.
– Что это? – с недоумением спросил Изюмов.
– Это пищевой коллоид «ИдеалКорп», – отозвался Филипп, нажимая на кнопку и подставляя тарелку под сомнительного цвета колбаску, выходящую из трубы, – когда-то мы питались другой едой, но здесь мы вынуждены жить по правилам «оптимизированных». Другой еды здесь нет… И это не самое тошнотное… Вот вода-а-а-а «ИдеалКорп» – это действительно отвратительно. Тут она называется «утолитель жажды». С тех пор, как вся промышленность объединилась в одну громадную монополию, чтобы уравнять жителей, они упростили перечень продукции до жизненно необходимой. Теперь за работу те, кто на свободе, получают бесплатную еду и питьё от «ИдеалКорп» и зарабатывают 5 IQ в неделю. Система «ИдеалКорп» рассчитала, что этого достаточно, чтобы развлекаться, получать алкоголь и… жить.
Филипп глубокомысленно замолчал. В его взгляде сквозило сочувствие. Но сочувствие даже не новому узнику, а тем, кто был на свободе… И он продолжил:
– Система списывает 80 IQ за рождение ребёнка, 100 – за машину, 200 – если ты хочешь добавить ещё одну комнату. Система считает потраченные тобой калории, износ одежды, время отдыха и рекомендует количество работы на день тебе на Устройство. Ей известны твои проблемы со здоровьем, а зубная щётка подключена к программе «Чистые зубы». Если ты делаешь всё в соответствии с Оптимальным Нормативом, ты – человек с высоким IQ. И в 37 лет ты можешь завести ребёнка, а в 38 – увеличить жильё… Чтобы ничего не отвлекало тебя от цели – ежедневно нужно получать инъекцию счастья.
Изюмов не верил своим ушам… Вот этот коллоид и электролит вместо воды… Зачем?!
– Но так невозможно! Мы не роботы! Какой смысл мне вкалывать на исправительных работах, чтобы в конце концов вернуться туда, где ещё хуже??? – его голос дрожал от внутреннего протеста.
– Ничего-о-о, – протянул Филипп, – это лечится. Завтра тебе начнут ставить инъекции, и ты уже даже не будешь задумываться о смысле…
Все переглянулись, и тот, что был поближе, ободряюще хлопнул по плечу.
– Тебе сильно повезло, дружище, – оглядываясь на поддерживающие взгляды остальных, произнёс он, – ты попал в правильную камеру. Её номер когда-то в систему внесли с ошибкой, и нам не делают инъекций. Мы единственные здесь, кто не принимают этот дурман. И Филипп, – он показал в сторону коренастого, – человек из Пустоши, за три года, пока мы готовим побег, рассказал всё о мире, который существует совсем рядом, за пределами Государства. Это мир Великих Залежей Мусора, которые простираются до горизонта. Главный и уважаемый там труд – разбор и переработка мусора. Он даёт удивительное разнообразие вещей, украшающих всю страну. Филипп говорит, что из расчищенных ручьёв они пьют воду, а на освобождённых от древних отбросов полях растут цветы, овощи и другие культуры. Люди из тех мест выходят вместе, чтобы встретить закат, а дети вместо телевизора качаются на качелях и играют в игры. Смысл их жизни – понимать нужды и заботиться друг о друге. Их отгораживают непроходимые свалки, и это делает резервацию недосягаемой для Государства…
– Хватит, – прервал его Филипп, – дай гостю передохнуть. Нам предстоит тяжёлый день. Мы наконец покинем это место и сможем радоваться дождю или греться у костра без чьего бы то ни было разрешения. Ну что, готов к побегу? – обратился он к Изюмову.
– Не хочу жить здесь три года. Ещё больше не хочу в то место, откуда меня привезли, – утвердительно ответил Изюмов. – Идём!
Заговорщики ещё раз переглянулись, и Филипп нажал кнопку «коллоидопровода». Замигал красный значок «Кормление закончено». Он повторил движение. Раздалась сирена, и бурчащий голос прозвучал в динамике:
«Жратва закончена. Спать!» Филипп огрызнулся:
– Нет. Ваша дурацкая система не покормила новенького – ему не выдали тарелку!
Охранник замолк, и в коридоре раздались звуки шагов. Дверь открылась, и тут же зэки оглушили тюремщика ударом и повалили на пол.
– Бежим! У нас восемь минут до тревоги, – с уверенностью промолвил сиделец, скручивающий обрывком робы руки охранника.
Все тихо вышли из камеры и направились вглубь катакомб. Где-то на подходе к лифту свернули в глубину, к старому полуосыпавшемуся шурфу, в котором по периметру уже были вбиты колья. Обвязавшись заранее заготовленной верёвкой, они один за другим потихоньку выбрались наружу и пустились бегом. Уже зона осталась в полукилометре позади, как вдруг всё пространство осветили прожектора. Засверкали сирены. Включились громкоговорители. В небе застрекотали вертолёты. Луч света с одного из них высветил приотставшего беглеца. Прогудела очередь полыхающих плазменных зарядов. Человек упал, второй остановился, чтобы помочь ему подняться, но был сражён следующей очередью. С двух сторон к ним уже неслись багги со стрелками, а чуть левее разорвавшийся снаряд распылил газовый туман. Неожиданно Филипп свернул и нырнул в сравнительно небольшую кучу мусора. Все последовали за ним. Последним оказался Изюмов. Ещё раз оглянувшись, он прыгнул в сторону исчезнувшего в куче Филиппа, но с силой ударился о какой-то металлический предмет…
Изюмов сидел на кровати и держался за голову. Пот охлаждающими струйками стекал с лица и спины. «О боже… Это был сон…» А через пару минут его охватил истерический смех, который быстро испарился, когда он подошёл к столу с рабочими записями. Составленная вчера историческая справка лежала на самом видном месте, а с экрана монитора моргали просмотренные закладки с фильмами «Эквилибриум» и «Идиократия» и светилась открытая статья http:// ideanomics.ru/articles/9885.
Пробегаясь по диагонали, глаза зацепились за фразу: «Историк Генри Адамс описывал власть как «своего рода опухоль, которая убивает у жертвы способность к сочувствию».
В противоположность, «зеркалирование», объяснялось в статье, – это умение подстраиваться под собеседника, социальный навык коммуникации и внимания к реакции окружающих. Словно в подтверждение, чётко представилась картина: Президент США Джордж Буш на Олимпийских играх 2008 года поднимает американский флаг задом наперёд – лицом к себе.
Рядом с монитором на листке бумаги изюмовским почерком был написан вывод из прочитанного:
«Цивилизация деградирует, потому что люди, обладающие наибольшей властью и управляющие всеми ресурсами, строят тот мир, который кажется наиболее понятным и управляемым для них. Правители настраивают мозг толпы отсеивать второстепенную информацию. В большинстве ситуаций власть обеспечивает повышение эффективности. Но с социальной точки зрения она имеет неблагоприятный побочный эффект – притупление восприятия».
§3.2. Введение
Не плохо это и не хорошо, пока не думал ты об этом.
Автор не известен
«Человеческие существа никогда не могут постичь всей полноты действительности. То, что мы познаём, – лишь наше восприятие этой действительности. Мы создаём представление об окружающем мире и реагируем на него».20
Итак, нам свойственно оперировать лишь только восприятием мира, а не тем, чем он является на самом деле. Наше представление о действительности условно, как карта. Чтобы на этой карте появился рельеф, необходимо научиться смотреть на ситуации и события с разных углов и точек зрения.
В предыдущих главах были рассмотрены подсознательные и сознательные процессы саморегуляции, теперь изучим человека в хитросплетении с окружающими его объектами и обстоятельствами, совместно представляющими сложную экосистему. Мы можем этого не замечать, но все элементы среды обитания воздействуют друг на друга. Известный феномен, называемый «эффект бабочки», предполагает, что малейшее изменение одного объекта несёт существенные последствия для всех прочих.
Согласно закону восприятия, задачей человека является воспринять, оценить и отреагировать на внешние воздействия. Аристотель во «Второй аналитике» писал, что существует четыре основных вида причин: «суть бытия», «то, при наличии чего необходимо возникает что-то», «первое двигавшее», «то, ради чего». Фактически это означает, что причинами наших реакций являются: – восприятие, – обстоятельства, – внешнее действие, – внешний замысел.
Истина и восприятие
Наша карта мира рисуется приблизительно так. Посредством органов чувств (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание) мы воспринимаем событие. Дополняем картину прочими обстоятельствами – время, пространство, среда. И затем оцениваем физические воздействия на себя любимых. Но следующим шагом происходит самое интересное – мы искажаем собранную информацию. Она прогоняется через собственные или навязанные извне фильтры, установки, догмы, предубеждения. Добавляем слой культурных традиций, накладываем шаблон мышления, дорисовываем правила поведения и применяем все ограничения. Дальше подправляем эскиз под рамку нашего опыта, и вуаля – картина готова! Будьте уверены, мы все художники уникальных полотен. Глядя в одно и то же время в одном и том же месте на одно и то же событие, видим одно, а рисуем разное.
Восприятие материального мира обычно отождествляют с уже перечисленными 5 органами чувств. Основная функция полученных данных – оценочная, определяющая значимость явления или объекта, их воздействие и формирующая реакции.21 Это тот момент, на котором реальность картины обрывается и включается домысливание, или, другими словами, «режим обработки». Сравните работу цифровой «мыльницы» и профессионального фотоаппарата. Вместо отпечатка исходной матрицы, на «мыльнице» мы начинаем правки – «Объём памяти сэкономлю, если уберу детали», «Я буду выглядеть моложе, если уберу тени», «Добавлю яркости, чтобы было «естественнее», «При средних настройках мне проще» или «А не включить ли мне автоматический режим» и т. д.
Современные средства фотошаблонов удивительным образом копируют нашу систему мышления. Фредерик Лалу22 пишет: «Нам сложно понять, как люди Средневековья могли верить заявлениям Аристотеля, будто у женщин зубов меньше, чем у мужчин. В то же время мы и сами можем стать заложниками собственных представлений – так же, как и наши предки. Современные учёные не стали заглядывать в микроскоп, потому что „возможен только один мозг“; точно так и современники Галилея отказались глядеть в телескоп, потому что немыслимо, чтобы наша Богом сотворённая планета не была бы центром Вселенной».
Вот ещё пример шаблонного мышления. В середине XIX века учёные попытались спрогнозировать, что произойдёт с быстрорастущим Нью-Йорком через 100 лет. Вывод был обескураживающий – через 100 лет Нью-Йорк прекратит своё существование, поскольку население продолжит расти и для его транспортировки потребуется такое количество лошадей, что город погрязнет в навозе…
Многие не любят темноту, звук царапаемого стекла или вкус горького перца. Это нашло выражение в словах, используемых для описания отношения к тем или иным событиям. Мы говорим, например, «горькая правда», «горькие воспоминания», «горькое расставание», «тёмное дело», «режет слух». Такие лингвистические шаблоны – результат нашего опыта негативных эмоций.
Пример с собакой Павлова идёт ещё дальше: ожидание пищи провоцировало не просто эмоции, но и физические реакции. Такой механизм сидит и в людях, управляя поведением «царя природы». Рефлексы и шаблоны преследуют нас, они оседают в глубинах подсознания, и мы перестаём их замечать, постепенно делаясь их невольниками.
Ориентация восприятия
Роберт Дилтс23 попытался «создать модель моделей мира нескольких великих людей в истории человечества» и ввёл понятие «ориентация», определяющее направление восприятия реальности. Иными словами, события можно «видеть» либо во внешнем мире, либо в памяти, либо в воображении. Это очень интересно! Мы видим не просто «урезанную» реальность, но мы её додумываем! Например, слово «яблоко» в памяти отождествляется с вполне конкретного вида предметом. Но представьте, что в телефонном разговоре друг упоминает, что сейчас ест яблоко. Как думаете, велик ли шанс, что картинка, возникшая в Вашем сознании, совпадёт с реальными цветом, формой, вкусом этого простого объекта, прямо сейчас поедаемого Вашим собеседником на том конце эфирной линии? Ситуация ещё более запутается, если, допустим, мы с Вами начнём сравнивать созданные в воображении образы того же фрукта. Фактически нашу картину мы подгоняем под собственные ожидания.
Как же с этим быть, как вычленять факты объективной реальности из субъективного «живописного полотна»?
Дело ни больше ни меньше в следующем. Исследуя причины гениальности, Дилтс комментирует умозаключения Аристотеля: «Что такое затмение Луны? Лишение Луны света вследствие загораживания её Землёй… Или: почему Луна затмевается? Потому что Луна лишается света загораживающей её Землёй». Из чего он заключает, что «свойства» и «причины» отчасти равнозначны. Другими словами, если мы утверждаем нечто вроде: «Гений умеет сосредоточиться на ключевых вопросах», – тогда мы должны быть вправе сказать: «Умение сосредоточиться на ключевых вопросах есть причина гениальности».
От себя оговорюсь, что гениями можем мы не быть, но управлять своей жизнью – обязаны.
Обработка информации
На тезис Дилтса откликнулся интересной идеей Алан Уотс24: «У учёных возникало бы меньше недоразумений, если бы они использовали для своих нужд язык, построенный по тем же принципам, что и язык американской народности нутка, состоящий из одних лишь глаголов и наречий без существительных и прилагательных». Тут мы сталкиваемся с феноменом языковой культуры, неминуемо накладывающей отпечаток на образ мышления, глубину понимания истины и скорость реакции. Русскую фразу «Грянул гром» можно рассмотреть как действие, одним словом – «громыхнуло». В английском языке в таких случаях используется слово-«паразит» «it», например в предложении «It is raining» (букв. «дождит»). Однако сами выражения «громыхнуло» и «дождит» являются достаточными и описывают как действие, так и причину. Именно такое преимущество есть у языка нутка.
Ходит легенда, почему русская армия всегда считалась непобедимой. На поле боя командиры и солдаты используют особую форму речи, в которой 3—4 словами, в зависимости от интонации или добавленного жеста, можно обозначить любой процесс или исход события, в то время как у европейских армий такая языковая возможность отсутствует. В китайском языке логичная система числительных и краткость их написания позволяет школьникам быстрее усваивать математику. Из этих примеров можно сделать вывод, что приобретённые навыки обработки информации имеют не меньшее значение, чем врождённые способности к восприятию, плюс дают неоспоримые преимущества.
Количество чувств
Вернёмся от вопроса обработки информации непосредственно к восприятию, копнув его поглубже. Предлагаю Вашему вниманию мою вольную компиляцию идей и мыслей из трёх источников25 одного автора. Я настолько согласен с Кеном Робинсоном, что не вижу смысла ничего добавлять, он самодостаточен.
Хорошим примером того, что многие люди ошибаются, принимая устойчивое мнение за аксиому, является количество человеческих чувств.
Сколько же их, по Вашему мнению? Большинство людей убеждены, что имеют в распоряжении пять чувств – вкус, обоняние, осязание, зрение и слух. Некоторые признают ещё шестое – интуицию. И к этому списку уже вряд ли что-то можно добавить. Однако есть несомненная разница между первыми пятью чувствами и шестым. «Первая пятёрка» имеет физиологическую природу: нос для обоняния, глаза для зрения, уши для слуха и так далее. Орган возможно повредить. Но никому не известно, что именно служит источником интуиции. Итак, обычной установкой подавляющего большинства людей является наличие у нас пяти «ощутимых» чувств и одного «загадочного».
Антрополог Кэтрин Линн Джертс26 пишет о своей работе с людьми народности анло эве из восточной Ганы. Откровенно говоря, я испытываю некоторое сострадание к существующим в наши дни обособленным этническим группам. Кажется, будто учёные постоянно выслеживают аборигенов, а среднестатистическая семья любого племени включает в себя троих детей и антрополога, который сидит рядом и расспрашивает, что они едят на завтрак. И всё же исследование Джертс оказалось довольно информативным для нас, поскольку выявило одну особенность – народность анло эве обладает уникальным в нашем понимании взглядом на природу чувств – вообще не считает количество. Сама эта идея кажется им абсурдной. Кроме того, когда Джертс перечислила классические пять чувств, которые мы считаем аксиомой, анло эве спросили ещё об одном. О главном. Они говорили не о «загадочной» интуиции и не о чём-то рудиментарном, что сохранилось исключительно у этого племени, но было утеряно другими народами. Они говорили о чувстве, которое есть у всех нас и которое является основополагающим для нашего существования в мире. О чувстве равновесия. За него, как известно, отвечают жидкость и кости внутреннего уха. Стоит лишь вспомнить о том, какое влияние оказывает на нашу жизнь нарушение равновесия – из-за болезни или под воздействием алкоголя. Однако большинству людей никогда не приходило в голову включать его в список чувств исключительно потому, что хрестоматийные пять давно стали для нас аксиомой. Разве что можно допустить существование ещё одного, «загадочного»… Аксиомы входят в поле превозносимого нами «здравого смысла».
Но я уверен, что сей мыслительный идол занимает достойное место среди главных врагов творчества и развития. Драматург Бертольд Брехт был убеждён: как только мы начинаем считать что-либо самым очевидным на свете, это означает конец всяких попыток понять его.
Подавляющее большинство психологов, помимо пяти общеизвестных чувств, называют ещё четыре. Первое – чувство температуры (термоцепция), отличающееся от осязания. Нам не всегда нужно дотрагиваться до чего-либо, чтобы ощутить тепло или холод. Это одно из ключевых чувств, ведь люди могут выжить лишь в довольно узком температурном диапазоне. Кстати, мы носим одежду, в частности, благодаря термоцепции.
Второе – боль (ноцицепция). Учёные сегодня согласны с тем, что это совершенно особая сенсорная система.
Необходимо отметить и так называемое вестибулярное чувство (эквилибриоцепцию), которое отвечает за наше равновесие и ускорение.
И наконец, нельзя обойти вниманием кинестетическое чувство (проприоцепцию), позволяющее понимать, каким образом тело и конечности располагаются в пространстве по отношению друг к другу. Оно обуславливает способность человека двигаться, а значит – жить.
Все упомянутые чувства бесценны для нашего мироощущения и существования в окружающем мире. Но я настаиваю, что их гамма значительно шире! Например, некоторые люди подвержены явлению, известному как синестезия, когда чувства смешиваются или частично накладываются друг на друга, в результате чего рождается способность видеть звуки и слышать цвета. С точки зрения стандартной логики такие случаи являются аномалиями, бросающими вызов здравому смыслу. Они же демонстрируют истинную силу влияния чувств на наше миропонимание. Тем не менее многие из нас живут руководствуясь стереотипами.
Категории оценки «хорошо» и «плохо»
Итак, наше восприятие зависит от побуждающих внешних обстоятельств и внутренних способностей к обработке, усвоенных в соприкосновении с культурой и жизненным опытом. Нас окружает такое количество миров, сколько существует наблюдателей. Наша задача – отказаться от предрассудков и понять, что в этом многообразии возможно всё. Категории «хорошо» или «плохо» не подходят для оценки. Темнота – это всего лишь отсутствие света. Если бы не было темноты, как бы мы могли понять, что такое свет? Звук – это раздражение нашего слуха, и при отсутствии звуков во всём их разнообразии зачем нам слух? Горечь – лишь один из вкусов, делающих наши ощущения более острыми. Это ни хорошо, ни плохо. Это есть! То же касается и оценки союзников и конкурентов, восприятия проблем и принятия решений. «Смотрите на вещи, на жизнь, на других людей прямо, а не через дымку предубеждений, завесу страха или чужих интерпретаций», – пишет Рон Хаббард.27
В наших отношениях с миром на самом деле мы боремся сами с собой. Воспринимая реальность сквозь призму собственных условий, получаем точное отражение своего внутреннего состояния. Это значит, что если изменить внутренний мир – изменится и внешний, а проблема решится иным образом. Реальность даёт нам подсказки – боль, ненависть, отвращение. Но лишь затем, чтобы мы учились смотреть внутрь себя и менять собственные качества.
Где кроется истина
«Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов, себя кто полагает свободным от оков», – писал Гёте. Навязанные реакции рождают в нас привычки, к которым легко пристраститься и так сложно отвыкнуть. Поменять какую-либо ситуацию можно, лишь изменив точку зрения и отношение к ней. И вновь вывод – все решения спрятаны внутри, а не снаружи нас!
Почему среди людей так много взаимонепонимания? Потому что мы думаем привычными стереотипами, старательно сформированными культурой и обществом. Единое восприятие возможно лишь при одинаковом опыте, традициях, рамках и шаблонах мышления, а это, увы, весьма проблематично. Но есть как минимум два способа прийти к единому восприятию бытия – расширять пределы нашего опыта либо научиться принимать чужой образ мысли, стать восприимчивее… Необходимо видеть мир в минимальном искажении.

