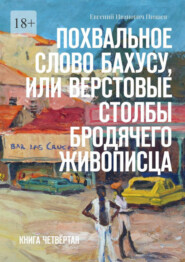
Полная версия:
Похвальное слово Бахусу, или Верстовые столбы бродячего живописца. Книга четвёртая
А что показать? Конечно, самые крупные работы.
Я вытащил из-за печки этюд «Тропик» в Гибралтаре», добавил метровый картон «Бухта Тор», затем выставил «Портрет старшины Моисеева» и, написанный уже в Светлом по акварельному этюду, самый большой холст «Набережная в Конакри вечером».
Эскулап долго ходил вокруг «экспозиции», хмыкал и мекал, потом сам сунул руку за печь и принялся вытаскивать более мелкие этюды. К отобранным мною он добавил «В порту Фалмут», «Баркентины» (этот этюд просил у меня в Риге начальник Калининградской мореходки) и эскиз, написанный гуашью на работе у подруги, «Путь в неведомое».
Меня интересовало его мнение. Интересовало, наверное, как и всякого, но, странно, сейчас я смотрел на свои работы отстранённо, как на чужие, и они мне… не нравились. «Гибралтар» – да, но чуть-чуть. А дед выделил эскиз! О другом, написанном темперой – а «Млечный путь» я только «раскрыл» – он тоже отозвался с похвалой, но «Путь в неведомое» выделил особо, хотя, по мнению моему, в нём не было ничего особенного.
– Мишель, обязательно преврати ЭТО в картину соответствующих размеров, – посоветовал он. – Это многих славных путь, да—с. Философская вещь.
Довольный уже тем, что больше не слышу его упрёков-попрёков, я даже расчувствовался от похвалы (доброе слово и кошке приятно!) и предложил ему взять «на память» этюд, написанный в Северном море: волны и небо, да пара чаек.
– Маркел Ермолаич, вы знаете, как «легко затеряться в солёном просторе», а на земле – и того легче. Вот уедете в Крым и… «но всё-таки море останется морем», а эта картинка будет вам напоминать о нём. Ну и обо мне. К тому же это единственный этюд, вставленный в раму.
Эскулап расчувствовался чуть ли не до слёз и, как-то засуетившись вдруг, заявил, что ночевать передумал и прямо сейчас отправляется в Ижевский. Я спросил, не будет ли нареканий со стороны друзей за то, что он явится подшофе?
– Друзья поймут и простят, тем паче появлюсь я, имея на руках такую «индульгенцию». Твой этюд, Миша, покроет все мои грехи.
Я завернул этюд и проводил его до автобуса. Врать не буду, проводил с облегчённой душой: хотелось побыть одному и прочесть ещё раз, спокойно, без спешки, письмо подруги и все остальные, всё ещё лежавшие в кармане.
На основании признака направления возможное называется будущим, осуществлённое – прошедшим. Само же осуществление, сосредоточие и смысл жизни мы называем настоящим. «Душа» – это то, что подлежит осуществлению, «мир» – осуществлённое, «жизнь» – осуществление.
Освальд ШпенглерЭти строчки я прочёл лет через тридцать после того, как Эскулап посоветовал мне полистать «Закат Европы». Тогда же прочёл и другие, напомнившие о единственном его гостевании у меня в Светлом. Вот они: «Западноевропейский человек, хотя и мыслит и чувствует в высшей степени исторически, в известные годы жизни не сознает своего настоящего призвания. Он нащупывает, ищет и сбивается с дороги, если внешние обстоятельства ему не благоприятствуют. Теперь наконец работа целых столетий позволила ему обозреть свою жизнь в связи с общей культурой и проверить, что он может и что он должен делать. Если, под влиянием этой книги, люди нового поколения возьмутся за технику вместо лирики, за мореходное дело вместо живописи, они поступят так, как я того желаю, и ничего лучшего нельзя им пожелать».
В ту пору, как, впрочем, и сейчас, я не мыслил «исторически». Не был, как и теперь, «западноевропейским человеком». Я просто «был». Был сам по себе, а потому считал, что немец слишком умничает в своём философском педантизме. А может и подгоняет факты под высосанную из пальца… нет, под выдуманную всё-таки теорию. Да, он был убедителен в своих доводах, и всё же, думалось мне, перегибал палку, говоря о гибели культуры. Культура не умирает. Бывает, она переживает тяжёлые времена (нынешние – тому пример), бывает, чуть теплится под влиянием внешних обстоятельств, но всё равно расцветает под влиянием обстоятельств внутренних, созданных новыми условиями.
Что-то в этом роде говорил мне Эскулап, когда мы поджидали автобус. Это его мысли. Я внимал его рассуждениям, ибо в ту пору мнения своего не имел, да и как мог иметь, не прочитав книги. И если мне сейчас что-то удалось изложить достаточно связно, то благодаря Бугрову, сунувшему мне трактат Шпенглера вместе с [томом] Иммануила Канта.
Я решил прокатиться с дедом до судоремонтного завода, чтобы слегка проветрить голову. Эскулап продолжал меня просвещать. Но я запомнил тогда лишь то, что Шпенглер делил культуры на монолитные блоки: эта – египетская, эта – эллинская, та – древнеиндийская и, конечно, античная. Они рождались и умирали естественным путём, дожив до завершения цикла. Эскулап считал, что культуры не были изолированными монолитами, а скорее сообщающимися сосудами, хотя философ утверждал, что разница в мышлении их учёных умов делала невозможным влияние культур друг на друга.
Я успел согласиться с дедом, пожать руку и выскочить до того, как захлопнулась дверь железной колымаги.
«А не выкушать ли кружечку пива?» – подумалось мне при виде заводской столовки, где этот напиток продавался в любое время дня (чем и славилось это заведение). После зубровки, селёдки и сухомятки меня одолела жажда. Нестерпимая жажда, судя по батарее кружек на столе, мучила и прораба Прусакова. В отличие от меня, она, как и похмельный синдром, мучила его постоянно. Я купил кружку, а он поманил меня куском рыбца. А почему бы… пуркуа па? Я подсел к нему, и он сразу же завёл разговор о баркентинах, по которым этот пропойца, оказывается, «соскучился», к которым «прикипел всей душой» и которые даже «полюбил»! Полюбил! А мог бы и утопить нас от большой любви.
– «Любовь пройдёт. Обманет страсть. Но лишена обмана волшебная структура таракана», – процитировал я запомнившиеся строчки, с удовольствием наблюдая, как мрачнеет физиономия алкаша, уловившего тонкую суть намёка.
Уязвлённый моим злопамятством, прораб погрузился чуть ли не до ушей в пивную пену, а я, окрылённый крохотной местью, отправился в ателье живописца Бокалова, расположившееся по соседству с кухмистерской, ибо, утолив жажду телесную, почувствовал вдруг жажду духовного общения.
«Башня из слоновой кости» господина поручика находилась в непрезентабельной двухэтажке, в которой разместились ментовка с КПЗ, нотариус, сберкасса и ЗАГС. Бокалов занимал просторную комнату на первом этаже с выгородкой для раскладушки и стеллажей. Милицейские владения помещались в другой половине дома, через которые Витьке и его гостям приходилось бегать в сортир, находившийся во внутреннем дворе. Под окном ментовки стоял Власов мопед. Наверное, все проходимцы снова на свободе, подумал я и толкнулся в «свою» дверь. Мастерская была заперта. Пришлось заглянуть в ЗАГС за справкой о соседе. Оказывается Бокалов три дня назад укатил на творческую базу в Сенеж, о чём и попросил извещать посетителей. И хотя «посетитель» удалился не солоно хлебавши, настроен он был благодушно, а потому проложил курс к пивному ларьку, где наделся встретить если не пана Лёвку или Москаля, то хотя бы Сашку Подвинского – тропиканского кока, который смог бы мне что-то поведать о баркентинах, интереса к судьбе которых я так и не потерял.
Я, собственно, не рассчитывал на встречу, поэтому был приятно удивлён, увидев Стаса Варнело, который – а я это знал – перебрался в Морагенство по перегону судов, ставшее, после смены вывески, Морским транспортным агентством. Стас тоже слегка потаращил глаза: «Мишка, какими судьбами!?»
– Моя судьба – иногда хотя бы навещать свой дом, – ответил боцману, – А вот тебя что занесло в Светлый?
– А—а!.. – поморщился он. – Тоже семейные дела. Понимаешь, я только вчера с Дании. Пригнали транспорт для питерцев. У меня всего-то два дня на всё про всё, а тут Бэлка докладывает, что накануне, когда она возвращалась с сынишкой из садика, к ней во дворе начали приставать какие-то охломоны. Хорошо, что в нашем доме полно рыбаков – попёрли их. Я и подумал, чья работа? Подвинский мне как-то говорил, что Влас опять на воле. Я и махнул сюда, чтобы пощупать гада.
– Видел его мопед у ментовки. Наверняка сидит паук в своём особняке. Правда, власть, говорят, опомнилась и собирается вернуть госсобственность, но пока не вернула, там он и сидит.
– Что ж, пойду навещу старого знакомого.
– Я с тобой.
– Пошли, если есть желание.
– Желания нет, но взглянуть на шайку всё-таки надо.
– Миш, я не собираюсь махать кулаками. Я с ними по-доброму поговорю.
– Добро должно быть с кулаками! – засмеялся.
– Ну, этого добра у меня навалом! – улыбнулся Стас. – Иди к себе. Я зайду.
Я поджидал его на скамейке у палисадника. Но первым, с очередного ристалища, явился Великий Моурави. Нижняя губа у кота была полуоторвана. Видно, сражение было нешуточным, коли виднелся кровавый шрам и над левым глазом, но победителей не судят по их внешнему виду. А Велмоур был победителем, ибо хвост у него торчал палкой. И не влачился он, а выступал важнецкой поступью.
Значит, Фред снова в отъезде, подумал я, если гуляка опять явился к нашему двору. Он тёрся, припадая к моей штанине, и даже промурлыкал похожее на «Авэ, Цэзар, моритури тэ салютант!», а потом вспрыгнул мне на колени. Боевой кот и ласковый друг. И свой человек в Пещере. И Стас тоже свой в доску. Вот он идёт, с мирного, надеюсь, ристалища.
– Ханурики жрали водку, – доложил, не присаживаясь. – Запаниковали малость, увидев меня, потом выслушали мои претензии и от всего открестились. Липун заявил, что они, мол, тока-тока освободились и лишний шухер им ни к чему, потому что он снова подал на визу. В моря собрался гад, представляешь?
– Хо—хо, ещё бы! И ведь откроют, будь спок. Эдьку Давыдова сколько мурыжили за то, что начистил клюв секретчику, а этому всё сходит с рук.
Мы ещё поболтали чуток, вспомнили баркентины. Он уехал, а у меня защемило внутри, как бывало, когда я начинал думать о подруге и сыне. Не мог привыкнуть к их отсутствию. В море – другое дело, а на берегу в душе сплошной скулёж, в духе Вилькиной песни: «Снова один! Я сижу без значенья, день убегает за днём… Сердце испуганно ждёт запустенья, словно покинутый дом. Заперты ставни, закрыты ворота, сад догнивает пустой. Где же ты светишь и греешь кого ты, мой огонёк дорогой?»
Не зря вспомнилась Вилькина песня. Среди писем было вовсе редкое – от Жеки Лаврентьева. Его я и вскрыл в первую очередь.
«Боцман, ты удивишься, но не падай в обморок, узнав, что я предпринял некоторые действия, чтобы, пусть на короткий срок, приобщиться к сонму водоплавающей братии. Поражён? Это я-то? Я! Я таков. В Подольске последнее время кормили прилично. Кое-что удалось сунуть за щёку на чёрный день. И он действительно наступил. Хватает только-только на прокорм. На пропой уже не хватает. Тогда меня и осенило: того, что за щекой, трогать не буду, то, что за щекой, пущай будет истрачено на благую цель. А какую, подумал я, и решил, а почему бы не взглянуть хоть раз в жизни на Землю-матушку с твоей, мокрой, стороны? И потом надоело до чёртиков малевать Ильича во всех скучных видах и бытовых ракурсах, а море!.. Хочу избавиться от плесени, грязцу соскоблить. И тогда я направил стопы в секцию маринистов, где получил поддержку и обещание всенепременно помочь в этом предприятии.
Мишка, я выбрал твою контору, хотя и понимаю как мало шансов оказаться с тобой на одном корабле. Тем более, я не знаю, где ты сейчас. Никто не знает, даже Хваля. Почему не пишешь? Ждём весточки. А я сейчас, как Бобик, бегаю с высунутым языком, собираю бумажки, справки и прочую хренотень. Ты меня напужал рассказами об открытии загранвизы. Сердце трепещет, но, думаю, органы примут во внимание мою армейскую службу и то, как я гонялся по лесам и буеракам за бандеровцами, сметоновцами и скакал на лошадке вдоль финской границы, когда был старшиной заставы.
Кстати, я уже писал в твой Запрыбхолодфлот и получил ответ: высылайте документы. Надеюсь это сделать в конце концов. Да, знаешь кого я недавно встретил? Нашего декана Лейзерова-Пролейзерова, который когда-то весьма успешно способствовал морским вояжам суриковцев (вспомни Ваньку Шацкого)! Я ему рассказал о своих «мокрых» планах, а он, представь себе, спросил, а где сейчас Гараев? Поведал ему о твоих парусах, и тогда старый пират задним числом одобрил твой побег. Даже из Пушкина ввернул («и с той поры в морях твои дороги, о, волн и бурь беспутное дитя»).
Ну ладно, боцман, заболтался я. Хваля сам тебе напишет, и Шацкий обещал написать. Ванька теперь адъюнкт-профессор – преподаёт в институте. Жду ответа, как соловей лета. Мои шлют тебе привет. Обязательно черкни мне. Е.»
Я понял наконец, о чём Жека темнил в письме предыдущем, и был приятно ошарашен, а письмо перечитал ещё два раза, чтобы проникнуться решением друга. Совместное плавание! А вдруг! Нет, не надо об этом даже думать, чтобы не сглазить: тьфу-тьфу! Но с «Кузьмы» надо драпать сразу после рейса и проситься… да, проситься туда, куда воткнут Жеку. А может, пойти к самому Виноградову и бухнуться в ноги?
Да, я был заинтригован письмом: слишком не похоже на Лаврентьева! Как он расстанется с Москвой и Подмосковьем, тем более, когда успел приобрести половину избушки в Спас-Темне – деревушке на берегу Нары? А мне отныне нужно быть паинькой и – никаких проколов!
Вечер я просидел над письмами. Перечитывал и отвечал. И ещё думал, что письма – «архиважнейшая», как сказал бы Ильич, форма или часть человеческого общения. Древние знали толк в эпистолах. После Цицерона остались тома, а в них – вся эпоха. Ну, это, допустим, великие умы. У них и письма – ума палата, а обывателю сие до феньки: о чём писать? зачем писать? конверт – он денег стоит! А если писать, то по делу. Вспомнит человек о человеке, которому не писал полтора-два года и узнает, что человек тот умер ещё год назад.
Наверное, где-то, быть может в Англии, есть памятник тому, кто придумал почту. Конечно, в Англии. От них – почтовый рожок и первая почтовая марка. Они, бритты, всегда были купцами и деловыми людьми, так может это почта вывела их в передовые нации мира?
Всевозможные запахи подлетали к его ноздрям и сразу таяли.
Всевозможные мечты, всевозможные горести, всевозможные обещания… Рано или поздно таяло все…
Харуки МуракамиУтренний променад начинался с Лесной.
Собаки рыскали по закоулкам, нюхали кочки, писали и какали в своё удовольствие, я шествовал серединой улицы и лишь у бухты Двух Львов спускался к воде, где присаживался на лодку и выкуривал первую сигарету.
Сегодняшнее утро началось как обычно, разве что было чуть дольше до рассвета – раненько поднялись.
За озером – россыпь огней. Редкая в Чумичёвке и ярко-золотушная сыпь справа, где, подобно мухомору, вырос дворец какого-то областного бюрократа, окружённый бледными поганками его пристебаев.
Н-да, за морем житье не худо – в свете есть такое чудо!..
Пока Дикарка и юный Мушкет исследовали берег, мелькая среди сосен, я докуривал сигарету и таращился на звёзды, которые «были прекрасны, как всегда». Вот и Стас поселился среди них. Возможно, встретился с Хвáлей и Бугровым или с Шацким. А Юра Иванов сейчас толкует с Бакалавром-и-Кавалером о литературе, в то время как Аркаша Охлупин и Терёхин обсуждают с Бубом и Заводчиковым возобновлённую зональную выставку. Есть им, о чём поговорить. Своя жизнь продолжается и на Дороге, и в этом хоть какая-то надежда на вселенскую справедливость.
Вчера, перед сном, отложив на время Мураками, прочёл я воспоминания Бориса Анатольича, опубликованные горноуральским литературным журналом. Б.А. писал о коллегах-писателях, оставивших след в его судьбе, а на финише вздохнул: «Скольких товарищей-писателей мне пришлось проводить! И старших, и однолеток. Пальцев не хватит всех перечесть… Зиновий Янтковский, Володя Матэр, Вова Балашов, Эрик Бутин, дядя Коля Куштум…» Бакалавр угодил в серёдку печального мартиролога, а мог бы открыть его. Кому нёс Б.А. очередной труд? Ему, Бакалавру. Нёс и ждал оценки «свежей головы», которой полностью доверял. Б.А., по-моему, произнёс самое проникновенное слово при прощании с ним. Но, в общем, у каждого из нас свой список дорогих имён, которых не вернуть с небесной Дороги на земные.
Подобные мысли обычно приходят вечером и уходят ночью, а сегодня пришли утром, – звезды их поманили. С ними и вернулся домой. Накормив собачек, поставил на плиту чайник и, чтобы отвлечься, раскрыл Мураками.
«Я смешал зелёный лук и телятину, – гурманствовал поклонник Канта, – жареную с солёными сливами, добавил сушёного тунца, смеси из морской капусты с креветками в уксусе, приправил хреном васаби («Уже и в нашем горноуральском мегаполисе встречал я вывеску «Васаби», – меланхолично отметила сей факт какая-то извилина, шевельнувшись под черепом.) с тёртой редькой вперемежку, все это нашинковал, залил подсолнечным маслом и потушил с картошкой, добавив чеснока и мелко нарезанной салями, соорудил салат из подсоленных огурцов. Со вчерашнего ужина остались тушёные водоросли и солёные бобы. Их я тоже отправил в салат, и для пущей пряности не пожалел имбиря».
Ни хрена себе! И всё это ради того, чтобы попить с другом пива. Где уж нам, неумытым! Поэтому мы ни-икогда не будем сморкаться в бумажку и ковырять в ушах спецпалочками. Вот она – вся в этом – страна восходящего солнца, страна сакуры, Фудзиямы, электроники и рисовой водки сакэ, которой я был не прочь отведать в данный текущий момент. Но нет сакэ и мечтать о ней нечего, как нет и хрена васаби, зато есть наши хрен и редька, которая не слаще хрена, есть картошка, лук и едрёные солёные огурцы. В конце концов, если взглянуть ширше, если поскрести нашего брата, то увидишь раскосые глаза и рожу самурая. («В конце концов кто-то уже заворачивает соплю в бумажку и, рискуя проткнуть барабанную перепонку, суёт в ухо ковырялку», – вяло, как медуза, шевельнулась другая извилина). Вот пожрать мы мастаки, когда есть что и на что. Правда, если японцы раскосые всю жизнь, то мы просто косые бóльшую часть жизни, ибо закосеть по случаю и без – в нашей, как говорится, ментальности. Типа, из любви к самому процессу косения.
Вода в чайнике забурлила.
Я заварил то, что наскрёб в банке, ободрал шкуру с холодных картофелин, нарезал и, посолив, полил подсолнечным маслом. Чем не любитель Канта? Почти как у него. Но солёных огурцов я не люблю, хрен тоже – нá хрен! Что у вас, ребята, в холодильнике, спросил я у собак. Они преданно молчали, а я обнаружил в нём банку красной фасоли, а это – почти бобы. И Кант у меня имеется в наличии. Ещё бы закосеть, и я буду готов нюхать цветы сакуры и лезть на Фудзияму.
Подруга уехала за пенсией. Какую-то сумму она оставила, но вчера я поленился сходить в лавку. Я ещё раз порылся в холодильнике. Салями, конечно, не обнаружил, но кусок ливерной надыбал. В ней попадаются рога и копыта, однако с горчичкой даже этот синюшный продукт запросто провалится в район прямой кишки.
Мало-мальски подкрепившись, я стал думать, чем же заняться. За письменный стол не тянуло. После утренних мыслей не до критики пошлого разума, а мой нынешний, чистый, как слеза ребёнка, возмечтал о «сакэ» в нашем, само собой, варианте. Неплохо бы удалиться от здешнего мира в «пампасы» и там, под сенью дерев, погрузиться в нирвану. Тем более, распогодилось.
– Друзья, – обратился я к мамаше и сыну, – не хотите ли прогуляться в лес?
Друзья вскочили и, оглядываясь на меня, бросились к двери. Понятливые! Мог бы и не сообщать им благую весть. Для них достаточно увидеть, что я обулся, взял посох странника и дорожную суму.
Курс был проложен так, чтобы, не пускаясь в лавировку, оказаться на траверзе лавки, стоявшей на отшибе, зато попутной, как остров царя Салтана. В ней я закупил компоненты, необходимые для погружения в нирвану, и, к великой радости друзей, куриные лапки, оказавшиеся в наличии. Для них это царский пир по сравнению с домашней сухомяткой и кашами.
За полчаса мы покрыли две мили в у.е.-шагах и для начала поднялись на вершину сопочки, увенчанную валунами. С этого Брустерорта глаз охватывал большую часть акватории. Челны браконьеров уже вернулись с набега, вблизи «мухомора» шёл на посадку небольшой белый гидроплан, и парус яхты скользил вдоль берега. Чья-то душа жаждала ветра, моя – покоя и тишины.
Тропинка, опутанная узловатыми корнями и сбегавшая по склону, поросшему разновозрастным сосняком, привела в чащу, похожую на мангровый лес: и здесь хозяева новой жизни выгребли из-под деревьев и увезли на свои огороды полуметровый слой гумуса! Деревья лишились опоры и стояли, раскорячившись, как пауки, едва держась оголёнными корнями за каменистую бесплодную почву. Первый шквал повалит их, а нет, так завершит дело тяжесть снега, который уже не за горами.
Земля, ясное дело, понадобилась не дрискиным. Что им огороды? Они возводят на участках бани, беседки, закладывают бассейны и прокладывают ручейки, для которых бурятся скважины. Нет, это пакостит в лесу мелкая сошка, которая ещё только-только накапливает жирок. Эти сохраняют огороды, но земля у нас – песок да камень, вот и «облагораживают» её методом пирата Флинта. Везде и постоянно наше посконное российское варварство с французским прононсом: после нас – хоть потоп! Чтобы заготовить веников для бани, рубят под корень молодые берёзки. Лежат голые белоствольные – будто торнадо здесь прогулялся! Ощипанные, помятые, искорёженные равнодушным топором. И ничто их душ не потревожит, ни от чего их не бросит в дрожь, коли живёт такая душонка только сегодняшним днём.
До площади Этуаль я добрался в не лучшем расположении духа. Даже не задержался для ритуальной уборки мусора, а спустился ниже, к полянке между лип и берёз, где и разбил бивуак возле округлых валунов, похожих на морских черепах, прилёгших отдохнуть на перине из палой листвы. Сам я прилёг между ними и, прежде выдав любимцам часть сухого пайка, отправил в автономное плавание по округе.
«Эсто, квод эссэ видэрис, Гараев, – сказал я себе, доставая из кошеля бутылку, – Ты должен быть тем, чем кажешься. По крайней мере, себе». И только опрокинув стопарь «для старта», вскрыл своим боцманским ножом консерву, имевшую, как вещь в себе, кильку в томате.
«Время есть не что иное, как форма внутреннего чувства, то есть созерцания нас самих и нашего внутреннего содержания, – сказано ужасно умным и въедливым старцем Иммануилом. – В самом деле, время не может быть определением внешних явлений: оно не принадлежит ни к внешнему виду, ни к положению и тому подобному, напротив, оно определяет отношение представлений в нашем внутреннем состоянии». И порассуждав ещё так же умно и скучно, заключает, что «если мы возьмём предметы так, как они могут существовать сами по себе, то время есть ничто». Ничто! Эк, бабахнул!
Если я должен быть тем, чем кажусь, а кажусь я себе тем, кто я есть на самом деле – большим оболтусом, то моё я есть то же, что и время – ничто. А потому могу со спокойной душой представлять временную последовательность в виде линии, продолженной в бесконечность, на которой в очерёдности и той же последовательности болтаются мои «бытие» и «небытие». Если они существуют, постоянно сменяя друг друга, то сейчас у меня «бытие», которое сменится «небытием», когда опустеет кошель.
Интересно, а на этой бескрайней линии есть место будущему? Может, оно скрывается между Б и НЕ? Будущее всегда прячется в тумане. Но зачем оно мне, когда есть настоящее бытие, а в нём столько прелести: эта тишина и эти валуны, почти скрывшиеся под жёлтой листвой, это мелькание собак в кустарнике; они иногда возвращаются ко мне и смотрят в глаза: а не перепадёт ли им ещё по курлапке? Конечно, перепадёт! И перепадает. И тогда они (бодро, весело, с песней!) снова исчезают в чаще с лихо задранными хвостами.
Я опрокинул другой стопарик, добавил к нему ещё один и сам опрокинулся на спину, глядя в бездонность космоса, пустого, как «чистый разум», но не подлежащего критике и недоступного девальвации (Кант, чёрт возьми, был прекрасен, как всегда!). Кружились и падали с шорохом последние листья. С таким же шорохом накатывается на песок стеклянная плёнка вконец исхудавшей волны, которая в последнем усилии доползает до ближайших голышей и пытается удержаться среди них, вздуваясь мыльными пузырями.
Я созерцал и слушал космос, а во мне закипало море. С каждой стопкой его шум становился слышнее. Потом начало слегка штормить, но я-то находился в крепкой спасательной шлюпке. Можно было задраить кормовой лючок, а то и оба, но всё равно слышать удары волн, ощущать кожей всего тела присутствие моря, его дыхание, прикосновение его прохладных рук.
К чёрту салями, хрен васаби и мою белую болгарскую фасоль! И красную, краснодарскую, тоже к чёрту! Да здравствует море! В путь! Сейчас мне подвластно всё. Я волен оказаться на палубе любого корабля, править, куда хочу, видеть, что пожелаю. И если пространство – «бесконечная данная величина», то и во мне – «необходимое априорное представление, лежащее в основе внешних созерцаний», переваренных мной и ставших внутренними. «Проходит не время, а существование изменчивого во времени», а я, как органическая субстанция в философском понимании… нет, лучше как субъект и объект, могу определить последовательность явлений и их одновременное существование во времени и, чёрт возьми, в пространстве, которое скручивается, как сухая береста, в тугой свиток, после чего оставляет горстку пепла в печи крематория.



