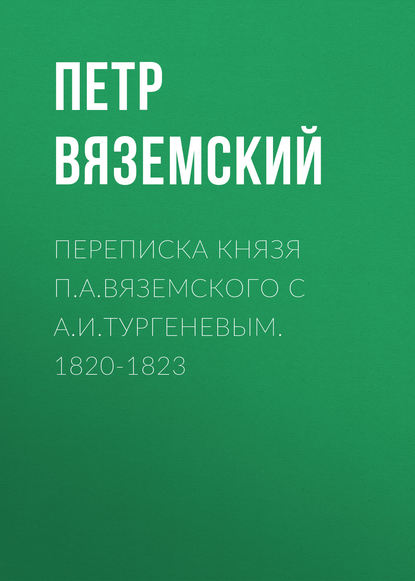 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Переписка князя П.А.Вяземского с А.И.Тургеневым. 1820-1823
Наступивший реакционный период в Западной Европе отразился и на Ланкастерских школах, которые подверглись гонению со стороны французских и немецких клерикалов, стремившихся сосредоточить в своих руках народное образование. Враждебно настроенный ими, император Александр пришел к убеждению, что и в России Ланкастерские школы должны служить рассадником революционных идей. В особенности он укрепился в этой мысли после беспорядков, происшедших в Семеновском полку. Начало гонений на полковые Ланкастерские школы в России совпадает с уничтожением их в австрийской армии (С.-Петербургские Ведомости 1821 г., № 7, стр. 71).
Подробности об отставке Греча см. в его «Записках». С.-Пб. 1886, стр. 343-346.
Д. c. советник князь Николай Васильевич Долгоруков (род. в 1789 г, ум. в 1865), состоявший сверх штата при русской миссии в Париже, впоследствии д. т. советник и обер-шенк, был женат на княжне Екатерине Дмитриевне Голицыной (род. в 1802 г., ум. в 1881).
351. Князь Вяземский Тургеневу. [28-го января 1821 г. Варшава].
Дитя Сыну – пиеса «К В. А. Жуковскому». Подражание сатире III Депрео», напечатанная в Сыне Отечества 1821 г., ч. 68, № 10.
Послание к И. И Дмитриеву появилось в Сыне Отечества 1822 г., ч. 82, № 48.
Воейков в своей статье: «Историческое и критическое обозрение российских журналов» говорит между прочим следующее: «В 1814 году перешел сей журнал (Вестник Европы) к В. В. Измайлову, писателю, одаренному истинным талантом и разборчивым вкусом, но, по какому-то несчастному предубеждению, оставшемуся в школе сентиментальности, господствовавшей в нашей словесности в последние годы прошедшего столетия. Само собою разумеется, что при сем издателе сочинения князя Шаликова, Николая Иванчина-Писарева, Волкова, Грамматина получили право гражданства в «Вестнике Европы» (Сын Отечества 1821 г., ч. 67, № 2, стр. 51-54). Маздорфа (о нем см. т. I) Воейков причислял к тем писателям, которые «с честью выступили на поприще словесности» (там-же, стр. 55). Несколько далее Воейков прибавляет: «Упомянув о молодых писателях Вестнике Европы, заметных по дарованиям, мы не смеем смешивать с ними писателя с необыкновенным дарованием: мы говорим о князе Вяземском. Он в первых стихотворных своих опытах явился свету не юношею, а ученым литератором. Он угадал то, до чего другие добираются многолетними трудами и прилежанием. В прозе назовем пиесу его о Державине, – и строгие ценители поставят его наравне с самыми глубокомысленными писателями нашими по зрелости мыслей и с самыми красноречивыми по слогу. Вообще, слог князя Вяземского имеет свою отличительную физиогномию, новую, разительную. Он силен, хотя не всегда правилен; резов, свеж и краток, хотя часто грешит против грамматики и синтаксиса; но чего не простим ему за его остроту, смелый образ мыслей и благородные чувствования!м
О кн. П. И. Шаликове и Н. Д. Иванчине-Писареве см. т. I.
Собеседник любителей российского слова издавался в 1783-1784 гг. – Живописец (Новикова) – в 1772-1773 гг. – Парнасский Щепетильник (М. Д. Чулкова) – в 1770 г. – Московский Журнал – в 1791-1792 гг. – Вестник Европы издавался Карамзиным в 1802-1803 гг. – Утренняя Заря – сборник, состоящий из трудов воспитанников Московского университетского благородного пансиона, выходивший в 1800-1808 гг., 6 частей.
352. Князь Вяземский Тургеневу. 30-го января [1821 г. Варшава]
Габбе – петр Андреевич (род. в 1796 г.), воспитанник Первого кадетского корпуса, штабс-капитан л. – гв. Литовскатю полка, командир 5-й мушкетерской роты, с раннего детства находившийся под особенным покровительством в. к. Константина Павловича, который иначе не называл его как «своим Детрушей». Этого Петрушу хорошо знала и носила на руках императрица Мария Федоровна. По своим нравственным качествам, уму и образованию Габбе занимал выдающееся положение среди полковых товарищей, уважавших его за смелость и благородный образ мыслей. Научная любознательность Габбе в связи с любовию к чтению, а также открытое порицание господствовавшей тогда палочной системы воспитания солдат и попытки защитить их навлекли на него подозрение в политической неблагонадежности. С июля 1822 г. за ним был учрежден тайный полицейский надзор, продолжавшийся до февраля 1823 г., когда «за дерзкия суждения о высших себя в чине и даже о начальниках своих» Габбе был разжалован в солдаты с зачислением в Волынский пехотный полк. 18-го сентября того же года он получил прощение, с возвращением чинов и с оставлением на службе в Волынском полку, из которого вскоре перевелся в 49-й егерьский полк, а в марте 1826 г. уволен в отставку с запрещением въезда в Петербург, Москву и Варшаву. В том же году Габбе, по предложению Льва Александровича Нарышкина, сделался главноуправляющим его обширных имений в Тамбовской и Саратовской губерниях. Находясь под надзором полиции, он проживал сперва в селе Березовке (Саратовской губ.), а потом в киевском имении жены Нарышкина, Ольги Станиславовикг, рожд. гр. Потоцкой. Живя в деревне, Габбе, кроме хозяйственных распоряжений, занимался литературою, чтением и перепискою с друзьями, к которым принадлежал и князь П. А. Вяземский. Довольно большая библиотека Габбе состояла из французских, немецких, итальянских, английских, русских и польских книг. Габбе «помещал свои стихотворения и прозаические статьи в разных журналах, а ценитель его литературных трудов был князь П. А. Вяземский, который был с ним в дружеских отношениях еще в Варшаве. Князь был столь внимателен к изгнаннику, что приезжал к нему в село Березовку, кажется, на пути из Петербурга в свое соседнее имение. Князь Вяземский, во время приезда Петра Андреевича под чужим именем в Москву, доставил ему случай познакомиться с знаменитым нашим поэтом Пушкиным… Разговор литераторов продолжался с час! и Петр Андреевич убедился, что знаменитый наш народный поэт более гениальный, нежели ученый поэт» (Записки Н. В. Веригина – в Русской Старине 1892 г., т. 76, стр. 296, 300; т. 77, стр. 426, 437, 440, 588, 613, 615; т. 78, стр. 110, 111, 114, 115, 133. А. H. Маркграфский. История л. – гв. Литовского полка. Варшава. 1887, стр. 171-176).
Из литературных трудов Габбе нам известны следующие:
1) «Биографическое похвальное слово г-же Сталь-Гольштейн». С.-Пб. 1822; князь Вяземский в отзыве своем об этом сочинении (Сын Отечества 1822 г., ч. 79, № 29) говорит, что оно «может служит приятным чтением для людей, требующих от книги впечатлений на мысли и чувства. Один выбор предмета уже означает нам мыслящего писателя: чтение утверждает нас в справедливости нашего предположения» (Полн. собр. соч. кн. Вяземского, т. I, стр. 80). Недостатки сочинения Габбе состоят, по мнению рецензента, в том, «что в его книге встречаются иногда выражения надутые и неправильные. Слог его, местами, носит доказательства, что автор не только прилежно учился красотам своего подлинника, но следует и самым его погрешностям. Еще сожалеть должно, что биограф не более распространил свое сочинение: иные черты его списка едва только означены, другие в нем и вовсе пропущены» (там же, стр. 82-83).
2) «О способности говорить и молчаливости» (Московский Телеграф 1825 г., ч. VI, № 21, стр. 419-422).
3) «Брату на Кавказ», стихотворение (там же, № 22, стр. 269-271).
4) «Песня», стихотворение (там же, № 24, стр. 363).
5) «Прогулка за Днепром», статья (там же, 1827 г., ч. 13, № 4, ч. 14, № 5).
6) «Отрывок из поэмы T. Mypa: «The loves of the Angels». Перевод с английскаго» (там же, 1828 г., ч. 23, № 17, стр. 36-49).
7) «Поэзия», стих. (Подснежник 1830 г., стр. 115).
В 1833 году Габбе сошел с ума и был отправлен в Николаев. По ходатайству Л. А. Нарышкина и гр. М. С. Воронцова император Николай дозволил Габбе отправиться за границу «с тем, чтобы впредь не въезжать в Россию ни под своим, ни под чужим именем» (Русская Старина 1893 г., т. 78, стр. 131-134). Такое странное решение, находившееся в очевидной связи с учрежденным над Габбе полицейским надзором и запрещением жить в столицах, заставляет предполагать, что он считался не сумасшедшем, а человеком в чем-то заподозренным. Подозрение же могло быть основано на прикосновенности Габбе к делу декабристов, о чем сохранилось известие в записках одного из членов Общества соединенных славян (Русский Архив 1882 г., кн. I, стр. 440). Дальнейшая судьба Габбе нам неизвестна.
Из Дела Департамента герольдии 1812 г., № 304, сообщенного нам В. В. Руммелем, видно, что у коллежского советника Андрея Андреевича Габбе было четыре сына: 1) Александр, род. в 1793 г., 2) Михаил, род. в 1794 г., 3) Петр, 4) Павел, род. в 1799 г. Из них первые трое служили тогда в Литовском полку, а последний, воспитанник Горного корпуса, в 1821 году действительно служил в Училищном отделении Департамента народного просвещения, где директорствовал Василий Михайлович Попов (см. т. I).
Аклечеев – Иван Федорович (род. 21-го мая 1792 г., ум. в Петербурге 11-го декабря 1836 г.). Он служил прежде в Финляндском полку, а 7-го декабря 1814 г. был переведен в чине капитана в Волынский полк (Ф. Я. Ростковский. История л. – гв. Финляндского пола, отд. I, стр. 257; отд. II и III, приложение, стр. 57. С.-Пб. 1881), где дослужился до полковника и вышел в отставку 15-го октября 1820 года; впоследствии был генерал-маиором (А. Луганин. Опыт истории л. – гв. Волынского полка, ч. II, Варшава. 1889 г., приложение XI, стр. 1).
Нелединский – Сергей Юрьевич, единственный сын Юрия Александровича Нелединского-Мелецкого. Он находился на службе в Московском полку и одновременно с Аклечеевым также перевелся в Волынский полк (там же, отд. II и III, стр. 61). Нелединский родился 25-го марта 1796 г., умер в Калуге в 1870 г. (Хроника недавней стороны. С.-Пб. 1876, стр. 122).
353. Тургенев князю Вяземскому. 2-го февраля [1821 г. Петербург].
Говоря о дурном «переводе Рубеллия», Тургенев разумеет стихотворение К. Ф. Рылеева: «К временщику. Подражание Персиевой сатире «К Рубеллию», напечатанное в ИѴ-й части (октябрь) Невского Зрителя за 1820 год. Известно, что эта сатира была написана на Аракчеева.
Пушкин находился тогда в селе Каменке, Чигиринского уезда Киевской губернии. Давыдовы – Александр Львович, женатый на графине Аглае Грамон, и Василий Львович, отставной гусарский полковник, будущий декабрист, сыновья Льва Денисовича Давыдова от брака его со вдовою Николая Семеновича Раевского, Екатериною Николаевной, рожд. Самойловой (см. письмо Пушкина к Н. И. Гнедичу от 4-го декабря 1820 г.). О пребывании Пушкина в Каменке см. статью А. М. Лободы: «А. С. Пушкин в Каменке» (Памяти Пушкина. Научно-литературный сборник, составленный профессорами и преподавателями университета св. Владимира. Киев. 1899).
Кюхельбекер – Вильгельм Карлович (род. 10-го июня 1797 г., ум. в Тобольске 11-го августа 1846 г.), лицейский товарищ Пушкина, декабрист.
«Когда? Когда? Увы, не знаю!» – стих из пиесы Карамзина: «Надежда».
«Прощание с халатом» (см. т. I) было напечатано в Сыне Отечества 1821 г., ч. 72, № 37.
Бахметева – вероятно, Анна Федоровна (род. в 1799 г., ум. в 1842 г. в Москве), дочь Федора Васильевича Бахметева и Марии Ивановны, рожд. Нарышкиной. «Анна Федоровна была не дурна собою, имела 500 или 600 душ и получила хорошее воспитание». (Записки П. Н. Муравьева-Карского в Русском Архнее 1886 г., кн. I, стр. 133). Тетка и воспитательница Бахметевой, Авдотья Ивановна Нарышкина, выдала ее впоследствии замуж за князя Николая Федоровича Голицына (род. в 1789 г., ум. в 1860). Обь этих лицах см. в записках гр. М. Д. Бутурлина, печатавшихся в Русском Архиве 1897 и 1898 гг.
Голицын – князь Василий Сергеевич (род. 2-го июля 1794 г. в Москве, ум. 7-го октября 1836 г. в Париже), тогда флигель-адьютант императора Александра, впоследствии член Общего присутствия Департамента податей и сборов. Он был женат на гр. Аглаиде Павловне Строгановой (род. 31-го декабря 1799 г., ум. 12-го февраля 1882 г. в Петербурге), дочери гр. Павла Александровича (род. в 1774 г., ум. в 1817) и гр. Софьи Владимировны, рожд. кн. Голицыной (род. в 1775 г., ум. в 1845).
354. Князь Вяземский Тургеневу. [Начало февраля 1821 г. Варшава].
– (Стр. 153-154). Louis-Pierre-Edouard Bignon (род. в 1771 г., ум. в 1841), член Палаты депутатов, историк и государственный деятель времен Наполеона, издал в Париже в январе 1821 г. следующее свое сочинение, из которого кн. Вяземский и приводит отрывки, находящиеся на XI, 145-147 и 195 страницах: «Du congrès de Troppau, ou examen des prétentions des monarchies absolues à l'égard de la monarchie constitutionnelle de Naples».
Эммерик Ваттель (род. в 1714 г., ум. в 1767) – известный немецкий юрист и дипломат.
Grotius – известнейший юрист Гуго Гроций (род. в 1583 г., ум. в 1645).
Орлов – тайный советник, сенатор и камергер граф Григорий Владимирович (род. в 1778 г., ум. в 1826), проживавший большею частью во Франции и в Италии. Об Орлове сохранился следующий отзыв кн. П. А. Вяземского: «В нем была европейская благонамеренность в уме и обращении. Пожалуй, говори, что не он писал свои книги. Спасибо ему и за то, что, русский граф и русский барин нескольких тысячей душ, искал он отличия авторского и, следовательно, признавал его в душе, а большая часть наших баричей презирает ум и чванится презрением своим. Лучше же быть Чупятовым в каталоге, чем в списке государственных вельможей и кавалеров… Орлов за деньги покупал звание автора, Право, честнее быть в его коже, чем в другой. Кто-то сказал: «Que l'hypocrisie était l'hommage qne le vice payait à la vertu. L'hypocrisie du comte Orloff était un hommage qu' une vanité bien entendu payait à l'esprit». Впрочем, перевод басней Крылова есть его творение. В этом предприятии есть ум и чувство, и патриотизм, и европейская замашка» (Полн. собр. соч., т. IX, стр. 78-79).
Биньон (стр. 125, 130) ссылается на следующее сочинение гр. Орлова: «Mémoires historiques, politiques et littéraires sur le royaume de Naple», 5 v. Paris. 1819-1821.
Приведенная корреспонденция напечатана в Journal des débats от 28-го января н. с.
Подробности уличного скандала, устроенного Donnadieu герцогу Ришелье, см. в Conservateur Impartial 1821, № 12, p. 54.
«Разставщики ковык и строчных препинаний» – стих из пиесы И. И. Дмитриева: «Послание от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту».
Приведенный стих. взят из пиесы А. Ф. Воейкова: «Послание к жене и друзьям», написанного в Дерпте 20-го августа 1816 г. и напечатанного в Сыне Отечества 1821 г., ч. 67, № 4. Дальнейшие указания кн. Вяземского относятся к следующим стихам «Послания»:
Веселых ужинов врылатые часыИ дружеских бесед за чашкой чаю!Я вам предпочитаюНепостижимые и тайные красыМинут, в которые, забыв и свет, и дело,От счастья, от хлопот и разговоров телоМое уставшее, на креслах нежась, спит;Но дух, игрою струн могущих окрыленный,Под небеса парит:Над бездной солнцев – солнцев бездннИ океаны звездныС благоговемьем сладким зрит;Дерзает подлететь Создателя к чертогу,Где серафимов тьмы кипят,И в хоре их поет: «Трисвят»И «Слава в вышних Богу!»О, память сих минут святых,Чистейших и духовных,В кругу земных друзей, в кругу друзей бесплотных,Я сохраню до поздних дней моих!Неодобрительный разбор Воейковского «Послания», написанный в Ропше Семеном Осетровым (О. М. Сомов), появился в Вестнике Европы, ч. 116, № 4, a «Замечания» на разбор Сомова были напечатаны Изм. Ив. Срезневским в Сыне Отечества, ч. 69, No№ 16-18.
355. Тургенев князю Вяземскому. 9-го февраля [1821 г. Петербург].
Новорожденную дочь Карамзина действительно назвали Елизаветой. Впоследствии она была фрейлиной и скончалась 12-го августа 1891 г. в имении Кореиз, Таврической губернии (Гражданин 1891 г., № 224; Новое Время 1891 г, № 5558; Старина и Новизна, кн. I, стр. 110).
Послание к Жуковскому – то, о котором упоминается в 351-м письме.
В Вестнике Европы (ч. 116, январь, № 2) напечатано «Послание ко мне от к. Вяземскаго», с подписью «Dixit» и с следующим примечанием Каченовского: «Из 2-й книжки Сына Отечества. Сему скромному, благонамеренному и дельному «Посланию» по всей справедливости подлежало бы явиться прежде в Вестнике Европы; но знаменитый автор, как уже известно публике, произнес обет перед издателями Сына Отечества нигде, кроме их журнала, не печатать своих стихотворений».
Самый текст «Послания» сопровождается следующими примечаниями Каченовского:
После 1-го стиха: «Благодарность издателям Сына Отечества! Поставив запятую и знак восклицательный, они отвели ругательство от меня и подозрение в дурном умысле от г. Вяземского, которого выспренний гений, презирающий правила и грамматики, и синтаксиса, легко мог просмотреть ничтожные знаки препинания».
После 3-го стиха:… «Чалмоносна Порта!
Но что же в ней прибрать мне в рифму, кроме чорта?Из Соч. Дм.».
После 27-го стиха: «Браво, браво! Charmant! Надобно только заметить здесь (для потомства), что стихотворец разумеет не Лужники Троицы, не Замоскворецкие, а Лужницкую слободку, что за Девичьим полем, иначе – Малые Лужники, где живет известный Старец».
После ряда точек: «Пропуски ничем невознаградимые! Но мы утешаемся надеждою увидеть сие «Послание» дополненным, исправленным и приумноженным в так называемых «Образцовых Сочинениях».
После 51-го стиха: «Ну, этого я не скажу. Чужих дел я не знаю и знать не стараюсь. От клеветы можно защититься законами и преследовать виноватого, а еще и того лучше – простить его».
После 52-го стиха: «Te veniente die, te decedente canebam.
Vet. Poёt».
После 74-го стиха: «Протестую! Этого я не говорил и не скажу, ибо тут есть слова, к которым иные могут привязаться, могут взять их на свой счет. И вы сами… Но зачем вы хотите меня ссорить с вашими вралями?»
После 77-го стиха: «Вот сунуло куда!»
К Воейкову относится следующая заметка: «Господин Д. и господин ББ. при благосклонных письмах доставили в редактору для помещения в Вестнике Европы две эпиграммы. В одной из них «компания издателей журнала, взявшая на откуп поэзию, как некогда капиталисты брали на откуп продажу вина пенного и полугарного, угрожается недобором»; в другой эпиграмме объявляется, что «какой-то журналист же пропустил молву, якобы Фома, Денис, Кузьма и Сидор ему помогают, но в самом деле он взял имена сии на прокат». Избегая всяких толкований, мы приняли за правило в журнале своем не печатать никаких пиес, сколько впрочем ни были бы они замысловаты, если содержатся в них такие остроты или шутки, даже не язвительные, которые можно относить насчет особ, известных публике, и если сии шутки составляют главное в сочинении, а не принадлежность какого-нибудь разбора статьи или книги, одним словом, если остроумие тратится по-пустому».
Письмо Дмитриева с Тургеневу (от 30-го января) напечатано в Сочинениях Дмитриева, изд. 1893 г., т. И, стр. 272-273.
Дмитриев, негодуя на московского стихотворца Александра Абрамовича Волкова, без сомнения, имел в виду рукописную статью последнего, так как в Вестнике Европы (ч. 116, Л?2, стр. 161-163) напечатана только следующая заметка Каченовского, заключающая в себе отрывок из упомянутой статьи Волкова: «В примечании к статье «Нечто об авторах и авторской славе» (статье, присланной для Вестника при письме от сочинителя, но которая, к сожалению, не может быть напечатана в сем журнале) г. В. изъясняется таким образом: «К разряду сих людей должно по всей спрааедливости причислить и г. сочинителя статьи «Историческое и критическое обозрение российских журналов», помещенной в 1 и 2 нумерах Сына Отечества на сей год. Упоминая о Вестнике Европы 1814 г., не знаю почему, угодно ему было поставить меня в число сентиментальных писателей, тогда как все мои сочинения, известные публике, доказывают тому противное. Но всего более изобличает г. сочинителя в его неисправности, может быть умышленной, именно то, что будто бы в этом же году я получил право гражданства в Вестнике Европы, между тем как ни одной моей строчки не было тогда напечатано. Потом, немного далее, г. сочинитель делает мне большую честь, поставивши бедное мое имя на ряду с громкими именами г. Гл…а, г. Маздорфа и прочих превосходных писателей. Такая снисходительность очень похожа на насмешку. Ясно вижу, что моя «Освобожденная Москва» всему виною».
Да утешится почтенный автор «Освобожденной Москвы»: в так-называемом «Историческом и критическом обозрении российских журналов», помещенном в первых двух книжках Сына Отечества на сей год, столько же правды (Vitam impendere vero! Magis arnica veritas!), сколько в «He любо – не слушай». Имя бывшего издателя (П. Сумарокова) там пропущено, a завербованы в издатели Вестника Европы такие люди, которые никогда ими не были; авторам приписаны пиесы, которых они от роду не сочиняли и от них же отписаны действительно им принадлежащие. В этом «Обозрении» почти ничего нет в своем виде и на своем месте; все представляется в нем точно как бы в городе, из которого только лишь выступил неприятельский корпус, не знающий дисциплины. Несправедливость в похвалах никого не удивит, ибо причина известна; гораздо страннее то, что и в порицаниях беспристрастный обозреватель отступает от любезной своей истины: слог мой, например, ему угодно было назвать несколько тяжелым, между тем как я сам нахожу его не несколько, a очень тяжелым и потому-то, перепечатывая свои пиесы, обыкновенно много в них поправляю. К обозревателю я не имею той доверенности и уважения, какие питаю в душе моей к известному ученостью своею г. доктору и профессору А. Ф. Воейкову, которому благоугодно было сперва включить мои пиесы в избранные, a потом даже возвести их на степень образцовых; но и сему опытному знатоку в древней и новой словесности я не хотел верить, когда он в кругу общих приятелей наших, назад тому восемь лет, с особенным удовольствием и с излишними уже похвалами отзывался о моем слоге. Я любил слушать поучительную его беседу, но похвалы его казались мне не иным чем. как только великодушным и снисходительным ободрением».
Об инструкциях Казанскому университету см. примечание к 303-му письму.
В торжественном годичном собрании Российской академии, 5-го февраля, известный переводчик греческих и римских классиков Ив. Ив. Мартынов (род. в 1771 г., ум. в 1833), бывший членом Академии с 1807 г., читал не о воспитании в России, как говорит Тургенев, а «Разсуждение о качествах, писателю потребных», напечатанное в ѴИИ-й части Сочинений и переводов Российской академии 1823 г. и отдельно.
Карамзин читал отрывок из ИХ-го тома своей «Истории» об осаде Баторием Полоцка и Пскова.
Гнедич читал свой перевод отрывка из ИХ-й песни Илиады (посольство к Ахиллесу), а также и Воейковскую поэму.
Шишков открыл заседание чтением речи о пользе разыскания производства слов по корням. Отчет о заседании 5-го февраля см. в Благонамеренном, ч. XIII, прибавление к 3-му номеру, стр. 13-15.
О «Petit dictionnaire des grands hommes» Ривароля см. примечание к 54-й странице.
Ермолов – Алексей Петрович (род. в 1776 г., ум. в 1861), генерал от-инфантерии, главноуправляющий гражданскою частию и пограничными делами в Грузии и губерниях Астраханской и Кавказской, командир отдельного Грузинского корпуса. Он приехал в Петербург в половине февраля и чрез несколько времени получил приказание явиться в Лайбах, чтобы принять начальство над армией, которая предназначалась к отправлению в Италию для подавления восстания в Пиемонте и Неаполе. Ермолов явился в Лайбах в конце апреля, когда восстание было уже подавлено австрийцами. Таким образом новое назначение Ермолова не состоялось, и он отправился из Лайбаха в Вену и Варшаву, а потом снова приехал в Петербург, где и прожил до первых чисел сентября, когда отбыл в Грузию (Записки А. П. Ермолова, ч. II. М. 1868, стр. 124-126).
Князь Вяземский, лично знавший Ермолова, характеризует его следующими чертами: «Внешностью своею, несколько суровою и величавою, головою львообразною, складом ума, речью, сильно отчеканенною, он был рожден действовать над народными массами, увлекать их за собою и господствовать ими. Ему было бы место в древней римской истории. В истории новейшей, омногосложенной, подчиняющейся строю административного порядка, он иногда сбивался с надлежащей почвы. В последние годы служения своего он сделал несколько промахов. Главнейший состоял в том, что он, в выражениях уничижения паче гордости, просил о увольнении своем от звания члена Государственного совета. Это звание ни в чем его не обязывало; он мог даже оставаться на жительстве в Москве; но в минуты решения важных государственных вопросов имел бы он возможность подавать свой голос. Но со всем тем, если под раздражением неблагоприятных и щекотливых обстоятельств мог он быть в рядах оппозиции и даже казаться стоящим в главе её, то это было одно внешнее явление, которое многих обманывало; в сущности он был человек власти и порядка. В нем была замечательная тонкость и даже хитрость ума, но под конец он слишком перетонил и перехитрил. Этим самым дал он против себя оружие противникам своим. Но как бы то ни было, он отделяется высоким историческим лицом в числе сверстников своих. Будущему историку, художнику такая личность будет драгоценною находкой в изображении русской картины действий и деятелей и закулисных проделок на театре текущего столетия» (Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 170-171).



