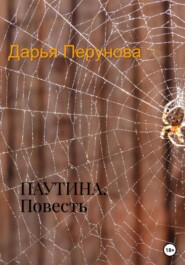 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Паутина
Знаю, кто может мне помочь – Вера Николаевна. Она психолог, любую ситуацию может разобрать, как механизм, по деталям. После неё всё становится простым. И я всегда все ей рассказываю, начиная с детских влюбленностей.
Так вышло, что рядом с нашим подъездом она однажды открыла свой частный кабинет психоанализа для консультаций людей, имеющих психологические проблемы. На первом этаже, где размещены кофейни, пекарни, барбершопы, – располагается и её маленький офис с небольшой верандой. Администраторша её уже знает меня. Да и сейчас у Веры Николаевны, по счастью, временное сезонное затишье. Иначе мне пришлось бы ждать неделю. Косяком обычно идут осенью, да еще в марте. А сейчас рано начавшееся прекрасное лето успокоило-утихомирило завсегдатаев ее заведения.
Вера Николаевна всегда так радуется моему приходу, словно тысячу лет меня не видела. Говорит на равных – не как учитель или родители – и этим очаровывает меня.
– Салют, Катюха!
Когда я вижу ее чудесную улыбку – понимаю, что могу рассказать ей все, даже то, что скрываю от близких.
У Веры Николаевны – белоснежный кабинет. Белые стены, чудесные мохнатые бежевые ковры на полу. В просторном помещении имеется черная кожаная кушетка для проведения психосеансов. Здесь же – черный стеллаж с книгами и статуэтками. Чего только на нём не найдёшь. Тут тебе и скульптурка Бу́дды, и образ индуистского бога Гане́шы. А вот маленький, в ладонь величиной, портрет О́шо в тюрбане – современного индийского религиозного и духовного учителя по избавлению от генетической памяти, в другом углу – фото современного израильского специалиста по каббале́ Ла́йтмана. А между ними – фен-шуйный «треугольник багуа» и жаба с прилипшими к брюху монетками. Кажется, такую жабку надо эротичными движениями гладить по животу – тогда будет «шастье» – от слова «шасть», и нет его.
Зайдя в кабинет Веры Николаевны и немного потоптавшись, продолжаю потом бродить по всем его уголочкам. Заглядываю и на веранду. Это настоящая краса офиса Веры Николаевны, на неё ведёт высокая стеклянная раздвижная дверь. Там уже расстелены в ожидании лета индийские циновки, расставлены плетеные кресла-качалки, подвешено такое же плетеное огромное кресло-яйцо, в котором может порезвиться ребенок, если в таком нежном возрасте ему понадобится психологическая помощь. А что удивительного? Время стрессовое, дети нервные…
Затем возвращаюсь к этажерке с книгами. Тут вспоминаю прошедшее ток-шоу Веры Николаевны с батюшкой и удивлена обилию различной религиозной символики в кабинете. Висит на стенке за этажеркой даже небольшая картина с мефистофелевским изображением, олицетворяющим дьявола. Тот, с красной искусительной улыбкой от уха до уха, кажется, вот-вот сойдёт в комнату… И это у неё-то, у такого непримиримого бойца с мракобесием. Я не без ехидства обращаю её внимание на это.
– О! – она, улыбаясь, ничуть не смутившись, с готовностью объясняет, – ты не понимаешь, Катя, я ведь молюсь всем богам, всем. Я отношусь ко всем религиям, как к бесконечному богатству культур. Я словно бы на пиру у огромного стола. Ну, представь себе – пробуешь немножко того, другого, третьего, но, заметь, на зубок, только пробуешь, по чуть-чуть, смакуя. Не как обжора – а как гурман. Я только против фанатизма. Фанатики уцепятся за одну какую-нибудь веру, идею – и другого уже не видят… К сожалению, такой фанатизм, такая нетерпимость характерна и для православия… Ну что, скажи на милость, дает мне православие? Да ничего. Еще и забирает. Отнимает радость, заставляя чувствовать себя жертвой, проповедует жертвенность. Внушает ненужные сомнения, вину пестует… А вот… видишь Ла́йтмана… – всего полгода назад я увлеклась каббало́й… Вот каббала́, едва я только к ней подступилась, принюхалась, уже дала мне ощущение всемогущества…
Я неуверенно:
– Каббала́ – это религия?
– В том-то и дело, что нет. Это, как объяснили мне, наука. Наука… управлять миром.
– Вы, Вера Николаевна, масштабно мыслите, а я обычный маленький человек. У меня и проблемки плёвые, куда уж мне до власти над миром, – пытаюсь я спрятаться в иронию.
– Ну-ну… Рассказывай-ка, с чем пришла. Приляг на кушеточку. Только сними кеды. – Она с тревогой смотрит, как я собираюсь завалиться в обуви на её баснословно дорогую кушетку дизайна модной марки Фенди Каза.
Пока я снимаю кеды, она вполголоса, будто себе самой:
– Интересно, интересно…
– Что именно?
– Да что тебя вдруг так побудило даже в праздничный день 9 Мая, заглянуть ко мне..? Ну ладно… разберёмся…
Я легла. Взгляд попал на большой плоский монитор, вмонтированный на стену. Там какой-то странный видеоролик. Вроде бы фэнтэзи. На экране извивается противное многощупальцевое насекомое. Оно испускает из своих бесчисленных ног нити белёсого клея, чудовищно барахтается в этом клею, всего себя в него закутывая.
– Это – видеоарт, – объясняет мне Вера Николаевна. – На последнем биеннале приобрела.
«Биенна́ле», «видеоа́рт», часто от Веры Николаевны слышу и другие загадочные, не совсем понятные и магнетизирующие меня слова: «инсталля́ция», «перфо́манс», «реди-мейд», «энва́йронмент», «хе́ппенинг», «интенти́зм»… Меня обволакивает их зыбкий туман, неуловимость этих слов приводит в некоторое смятение, затемняет сознание, и в то же время мягко подчиняет себе, сковывают невидимыми путами, воздействуя на меня почти гипнотически. Они, словно бы ве́шки-камертончики, за которые зацепляется моё затуманенное приглушённое сознание, не в силах не прислушиваться к ним и не в состоянии выйти за их границы. Чувствую, что невозможно отрешиться от этих ве́шек, не показавшись невеждой. И вот вслушиваюсь, вдумываюсь в непонятное, незаметно подпадая и подчиняясь…
А на экране – этот безобразный паук лепит из своих выделений кокон, и полностью в него закутывается, заворачивается. И уже висит в нем, как в сопле, этакой болванкой. Потом камера приближается к болванке из слизких нитей, которых уже и не различишь-то – не нити, а одно цельное вещество в виде какой-то уже кожурки или, скорее, тонкой скорлупки. И в этой жуткой скорлупке что-то бьётся, разрастается – скорлупа вспучивается. Сначала она с куриное яйцо величиной, потом пухнет до страусиного, и, наконец, заполняет все пространство монитора. Я уже с ужасом жду, как свершится рождение – я понимаю, что вылезет далеко не чудесная бабочка. И действительно угадала – пупырчатая рептилия с драконьими крылами прогрызает скорлупу, кусает, жует ее, флегматично поглощая кусок за куском. Фу! Я отворачиваюсь.
– Это ведь метафора, – смеется над моей реакцией Вера Николаевна, – каждый из нас, и в этом кабинете тоже, должен пройти через перерождение.
– И стать чудовищем..? – фыркаю я.
– Стать самим собой, – спокойно поправляет Вера Николаевна, – что-то кажется нам чудовищным в самих себе только потому, что мы желаем всем нравиться. Если бы на экране появилась хорошенькая, сладенькая бабочка, это было бы банально. А тут – смысл ина́ковости… Нужно не бояться стать тем, кто идет новой дорогой. А тот, кто идет новой дорогой, в глазах других почти всегда – чудовище.
Я засомневалась:
– Наверно, зря я беспокою вас в праздничный день..?
И тут, едва я говорю эти слова, меня осеняет: именно из-за 9-го Мая я к ней и пришла. И я рассказываю ей все, как на духу, немного путано, сбивчиво и противоречиво. Я еще и сама не во всем разобралась, что именно меня тяготит. Просто в последнее время ощущаю беспокойство, тревогу, сердце не на месте – словом, я во мраке отчаяния.
Кушетка расположена так, чтоб клиент был повернут спиной к психологу – так будто бы заведено у психоаналитиков еще со времён Фрейда. Но Вера Николаевна уже знает, что меня не только не смущает, но даже успокаивает ее лицо, румяное, белокожее, с веснушками в тон золотистым волосам. Поэтому мы с ней располагаемся по-другому, видя друг друга и глядя в глаза.
Выслушав меня, на сей раз она не улыбается, не пытается успокаивающе похлопать меня по плечу, – мол, какая всё ерунда, Катя. Нет, она некоторое время молчит, нахмурившись, потом говорит:
– Катя, ты выражения моего лица не пугайся. Но я не буду тебя уверять, что все чепуха. Нет-нет, как раз впервые дело очень серьезное. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Я ведь сама заметила, что ты пришла в праздник 9 Мая. Я сразу почувствовала, что с ним что-то связано у тебя. Так и есть. Я знаю, тебе покажется чудовищным то, что я сейчас скажу… В общем, Катя, я считаю этот праздник деструктивным, и не только для тебя, вообще для людей. Ты ведь умная девочка, будущий журналист, ты понимаешь, что такое – деструктивный?
Ошалелая, я уставилась на нее.
– Конечно, я понимаю, но…
– Я знаю, – щелкая от волнения суставами пальцев, произносит Вера Николаевна, – ты сообразительная девочка, но все же я скажу попроще. Я считаю этот праздник не просто бессмысленным и ненужным, но даже вредным.
Я от изумления даже привстала.
– Но… почему? – только и могу выговорить я. Честное слово, первый раз слышу такое, да еще от настолько проша́ренного человека, как Вера Николаевна.
– Потому что этот праздник государство использует, чтобы воспитать из людей жертв и покорных рабов. Она использует этот, в сущности, рудимент распавшегося СССР, чтобы удержать свою власть. Ему надо сделать из нас смертников, идущих на любую бойню ради его интересов. Он этим и занимается, приводя в пример Зою Космодемьянскую, Александра Матросова, других… Внушает, что жизнь человека ему не принадлежит. Ее надо отдать государству, совершить подвиг, и желательно всю жизнь превратить в подвиг – как Николай Островский… Кать, я понятно объясняю? Ты знаешь, что такое рудимент?
– Д-да, – неуверенно бормочу я, – кажется что-то ненужное, какой-то старый хлам…
– Ты – умная девочка. Да, ты права, этот праздник и есть старый совковый хлам, – подвела итог она, приписав мне якобы вполне ясно сформированное представление о Дне Победы как о ненужном хламе, хотя я так и не думала никогда.
Меня, конечно, ошарашили ее слова, и я даже не успела что-то возразить по этому вопросу, как тут, словно бы для того чтобы подтвердить ее правоту, с улицы раздался противный фанерно-дребезжащий испорченный звук из динамика бравурно-казенной патриотической песни, исполняемой детьми, возможно, из какого-то районного коллектива самодеятельности. Голоса орали вразнобой. Звук из радиорепродуктора скрежетал, подобно металлу по стеклу, хрипел, зажёвывался, как старая заезженная пластинка, то растягиваясь и замедляясь, временами совсем затихая, то вдруг неожиданно взвизгивая на большой громкости, вновь продолжал озарять всю улицу.
Вера Николаевна насмешливо кивнула на раскрытые окна веранды. Я улыбнулась. Улыбка слегка ослабила появившуюся было во мне напряжённость. Выглянув на улицу, мы видим, что прямо перед нашей верандой степенно и чинно маршируют первоклашки в военной форме, в маленьких гимнастерочках и пилоточках, девочки в бантиках и юбочках цвета хаки. Проходят мимо – такие хорошенькие, такие пухлощекие, молочные, но серьезные, точно маленькие старички, исполняющие свою миссию, а по сути, показуху, организованную кем-то из взрослых. Меня, накушавшуюся подобного формализма в школе, так и подмывает погрозить кулаком куда-то в пустоту и возопить: мол, не суй, показуха, свою фальшивую морду в детскую искренность! Но я понимаю, как глупо и не к месту это прозвучит. И, прикусив язык, молчу.
Вера Николаевна же продолжает своё:
– Детей не жалеют, чинуши тупые! Туда же их, в эту мясорубку милитаризма…
– Меня мучает другое, – робко пытаюсь я вернуться к своим затруднениям. – У меня всё началось… начались мои постоянные мысли о моей собственной неправильности, неправоте… с того фильма «Спасённые в Кракове», с того, что тот фашист показался мне привлекательным…
– Да, я понимаю, – кивнула Вера Николаевна, – но проблема совсем не в том, что он тебе таким показался. Проблема в том, что общество навязывает тебе чувство вины и стыда за твои мысли, чувства, фантазии по поводу персонажа, не отвечающего установленным идеологическим нормам. А стыд и вина идут от того пафоса Победы и традиции праздновать 9 Мая как самый великий день страны.
– Н-не знаю… Но, по мне так, мерзко находить привлекательным человека, облачённого в униформу СС, а эту форму брутально-притягательной, зная, какой шлейф тянется за ней, – возразила я.
– Нет, – покачала головой Вера Николаевна, – нет в этом ничего мерзкого. Тебя мучает не привлекательность эсэсовца, а запрет тоталитарного государства на удовольствия.
– М-м… – мычу я в ответ недоумённой коровой, – а о каком государстве речь?
– Ну, конечно, о советском.
– Так ведь его уже нет давно… Я и 90-е-то не помню, не то, что советское, я родилась в 96-м. Как же может советское влиять на меня?
Мне ее рассуждения кажутся странными. Может, она в чем-то и права?!
Снова возвращаюсь на кушетку, поворачиваюсь к стеллажу с его духовным иконостасом и вполне себе символическими финтифлюшками. Среди десятка уже знакомых мне фигурок вижу новые.
Человечек с двумя лицами – спереди и на затылке; одно лицо улыбающееся, приятное, вызывающее доверие, а сзади – злое, даже зловещее.
Ещё одна фигурка, которой я не видела здесь раньше, держит маски в своих руках. Одну – гневную, нахмуренную, с глубокими носогубными складками. А другую – пухлощекую, маленькую, детскую. У этих масок вместо глаз прорези, но мимика их очень выразительна. Эта последняя скульптурка чем-то напомнила мне обложку книжки по психологии «Сам себе Взрослый, Ребенок и Родитель», которую я видела в маминой спальне. Фигурка с двумя масками в кабинете у Веры Николаевны, по-видимому, и есть Взрослый. Выражение его волевого лица какое-то благожелательно-нейтральное, я бы даже сказала, безликое и, пожалуй, тоже похожее на маску, а не на живого человека. А эта детская в его руках, смешная и наивная, – вернула меня мыслью к только что увиденной процессии пухлощёких.
Потом я зацепилась взглядом за другую маску – на подставке – с длинным носом, полными африканскими губами и закрытыми тяжелыми веками. Маска словно бы дремала в блаженном и мудром покое. Это, как я узнала ещё месяц назад, копия посмертной маски Пушкина. С каким-то неприятным чувством отметила: странно, Пушкин-то тут зачем, тем более мертвый?
А Вера Николаевна продолжает объяснять – четко, ясно, логично. Заслушаешься.
– Так ведь психология-то сохранилась советская. Представления о жизни у нас у всех всё те же.
– Но я не могу же помнить СССР. И представления того времени тоже мне неизвестны.
Вера Николаевна вдруг становится очень печальной.
– Вот это-то как раз меня и неприятно поразило. Вот от этого-то, Катя, я и призадумалась. Насколько живуч этот наш несчастный менталитет… Он держит в своих лапах даже ваше поколение…
– Но… понимаете, – тщусь объяснить я – Мне и вправду стало стыдно, особенно в ту секунду, когда я сегодня наблюдала за ветеранами, увидела их седи́ны, их лица, простодушные, открытые, с морщинами пережитых невзгод. И… ну, в общем, я вспомнила своего прадеда, которого не знаю… С другой стороны, как я могла его вспомнить, если не знаю… – окончательно запутываюсь я.
– Вот именно, – улыбается Вера Николаевна, – как можешь ты вспомнить то, чего не видела. Речь идет исключительно о фантоме, о коллективном внушении. Извини, что перебиваю. Продолжай, продолжай…
– Он пропал без вести, – говорю я, – и мне кажется, я должна хоть что-то о нем узнать, хоть что-то найти в архивах. У меня нет даже фотографии.
– Но… зачем? – пожала плечами Вера Николаевна, – зачем вдруг тебе это понадобилось?
А ведь точно. Не было нужды – и вдруг понадобилось.
Пытаюсь не столько объяснить, сколько понять сама:
– Я словно бы хочу… заслониться, защититься им, его образом, пока еще смутным – от этого гадкого чувства восхищения нацистом, а через этого нациста я как бы замазалась самими фашистскими воззрениями.
Вера Николаевна опять кивает.
– Я тебя поняла. Это чувство вины. Это – внушенное, – потом смотрит, молча, в окно, как будто что-то обдумывая, и предлагает:
– Вот что, Катюха. Сегодня в девятнадцать часов в кофейне-клубе при книжном магазине откроется лекторий, будет историк Кононенко. Он расскажет о первых днях войны. Я думаю, тебе обязательно нужно узнать правду, ту правду, которую наша власть и наши учебники скрывают. Он будет говорить и о пропавших без вести, о пяти миллионах пленных… Понимаешь, в первые дни войны вся наша армия была взята в плен… Взята, или все-таки сдалась, не желая защищать сталинизм? Вот вопрос. Послушав его, ты, может быть, лучше поймешь что-то о своём прадеде… И, Катя, родная моя, твой прадед не герой, как ты думаешь – а жертва, как и всё то несчастное поколение.
От такого заявления я так и обмерла вся, даже холодок пробежал по телу. Неприятно слушать. Я совершенно не готова к такому повороту – это вонзилось в меня занозой, в самое сердце.
Отвернулась, уставилась в окно – по чудесному яркому синему небу без единого облачка плывут праздничные воздушные красные шары, штук десять, веселые, нарядные, с изображением победного салюта. Один, правда, сдулся, одряб и медленно опускается в наш двор. Подростки, смеясь, начинают хлестать его ветками, потом пинать, и из него выходит оставшийся воздух. И вот он уже лежит на земле жалкой сморщенной шкуркой. Смотрю на это, и в душе шевельнулось нечто вроде чувства жалости, и даже сопричастности.
– Герой и жертва, – почти шёпотом размышляю я вслух, – иногда их трудно отличить.
– Это одно и то же, – невозмутимо замечает мне Вера Николаевна.
Гомон концерта из репродуктора с улицы время от времени продолжает врываться к нам вместе с дребезжанием, и в эти моменты она с мученическим видом прижимает пальцы к вискам и зажмуривается.
Заметив мой понурый вид, она крепко-крепко меня обнимает, обволакивая туманом дурманящего аромата своих духов, и мы идём пить кофе на веранду. Солнце, живое, настоящее, ослепляя, бьёт в глаза, – я как-то незаметно для себя немного расслабляюсь, чуть успокаиваясь, отторжение слов Веры Николаевны и эмоциональный дискомфорт притупляются, постепенно в голову вползает блаженная пустота, хочется только потягиваться и щуриться, как кошка. Но все же заноза в душе мешает полностью забыться этим блаженством солнечной ласки.
***
Заинтригованная – пришла в клуб-кофейню на лекцию историка Кононенко.
Люблю наш клуб-кофейню. Он в двух шагах от нашего подъезда. Это место совмещает в себе два помещения – отличный книжный магазинчик и собственно кофейню, в которой иногда устраиваются лекции. Год назад, когда шли митинги, здесь тоже сильно шумели, люди собирались, спорили. И мне нравилось сидеть тут же со своим капуччино и, не вслушиваясь, не всегда понимая, ощущать электрические токи бунтарства. Потом митинги как-то завяли, толпа растворилась в повседневности буден, и только по-прежнему нет-нет да и выступит здесь то джаз-бэнд, то модный блогер, то зазвучит блюз, то какое-нибудь накачанное существо зачитает свой рэпчик, то прозвучит другая урбан-музыка, или кто-то выступит с лекцией.
Ой! Кого я вижу! Женя. С какой-то девицей нафуфыренной за соседним столиком. Вперилась взглядом – что-то уж очень он натужно-скованный какой-то. Первое свидание, что ли? Беспокойный такой, напряженный – и эти его узкие брючки на худосочных ляжках; и модная челка, из-за жары прилипшая сосульками ко лбу; и очочки, которые всё время норовят съехать вниз, и он то и дело поправляет их, снова водружая на переносицу, в этот момент придают ему не вид стильного хипстера, как обычно, а потерянного задо́хлика.
Всмотревшись в девушку, замечаю, нет, это не свидание, это нечто вроде собеседования. Похоже, она – наниматель. Она немного старше, очень зрелая, уверенная, довольно привлекательная волевая блондинка с волосами, жестко стянутыми в конский хвост. Женя егози́т на стуле. Блондинка же каменная. Уж не её ли визиточку он выцыганил тогда у фи́фы на ток-шоу с Верой Николаевной, чему я была невольным свидетелем. Я так понимаю, это его будущая начальница. Он пробует приударить за ней в надежде, что его возьмут на работу.
Минут через десять блондинка поднимается с кресла и, демонстрируя обтянутый брюками мощный круп, царственно, с чувством своей значимости удаляется. Вижу, как Женя сразу с облегчением выдыхает и расслабляется, некоторое время, правда, ещё продолжая следить за ее статным силуэтом в кожаном пиджаке с подкладными квадратными плечами. Но едва она скрывается, он заказывает легкий коктейль, пьет жадно, с удовольствием. Лицо довольное. Свою задачу, похоже, он выполнил.
Я некоторое время выжидаю – не хочу его смутить, не хочу, чтобы он знал, каким глупым я его видела.
– Женя! – окликаю, наконец, через промежуток.
Он оборачивается, и, улыбаясь, подсаживается ко мне. Болтаем.
– Это Алиса, – говорит, – ты видела?
– Видела, ты с кем-то сидел, но не разглядела…
– Редактор одного интересного для меня телевизионного канала, – поясняет Женя не без самодовольства, – мне надо ее обаять, и работа – моя.
– Это, должно быть, непростое дело.
Женя, кивая и смеясь, издаёт нарочито шумный выдох, сопровождая его утрированным жестом якобы стирания пота со лба ладонью и стряхиванием с неё воображаемых капель испарины.
Когда появляется историк Кононенко, мы уже забываем о грозной Алисе. Историей я не особо увлекаюсь, и фамилия Кононенко мне совершенно ни о чём не говорит.
Кононенко оказывается неплохим оратором с артистизмом Радзинского. Он взмахивает руками-крыльями. И лёгким кругленьким шариком, рассказывая, перекатывается по залу.
Я и не заметила, как собралась приличная толпа, даже в дверях стоят. Многие тянут руки, снимая все на телефоны. Пахнет отличным кофе. Но душно, несмотря на то что окна открыты.
Мы с Женей берем себе по прохладному кофейному коктейлю, чизкейку и маффину. Он ест лениво, без аппетита, я же – наоборот, словно заедаю тревожное состояние последних дней. Рядом с нами парень с выщипанными бровями, наманикюренной рукой держит бокал с чем-то мутно-зеленым. Тоже, видимо, из этих, из метросексуалов.
– …Они жертвы! Жертвы! – восклицает Кононенко и его поставленный голос реет над толпой, – но только не думайте, что жертвы – это нечто возвышенное и благородное. К слову сказать, уважающий себя человек не позволит превратить себя в жертву. Нет, я скажу просто и грубо – эти люди просто мясо, пушечное мясо и рабы Сталина. Я, конечно, жалею их, но с оттенком брезгливости. Когда в спину тебе дышит заградотряд с пулеметом, когда тебя и таких же несчастных, как ты, с одной винтовкой на троих гонят под пули, ну какой же тут героизм. Тут у этих несчастных нет выбора. Нет героизма там, где нет личности, и нет личности там, где нет выбора. Я вам больше скажу – когда поблизости не оказывалось заградотряда, все эти герои хваленые массово сдавались в плен. Никто не хотел воевать за страну рабов и свое рабское в ней положение…
Я оборачиваюсь, смотрю на Женю, стараюсь понять, какое все это производит на него впечатление. Он не слушает, явно скучает и с большим интересом рассматривает копии обложек раритетных пластинок, которыми дизайнерски украшена стена в нашем углу. Кирпичная, простая, грубая, а на ней висят эти копии легендарных альбомов – молодые патлатые Роллинги, Битлы, длинноносый Леннон, Пол Маккартни, смешной, похожий на цыпленка.
Женя незаметно тянет руку к пластинке Дюка Эллингтона – и, перехватив мой вопрошающий взгляд, понимает его по-своему. Шутливым жестом он прижимает указательный палец к губам и пытается снять пластинку, но она чуть ли не вмурована в стену. Своими действиями он лишь умудряется привлечь осуждающее внимание людей с соседних столиков. Пара слушателей оборачивается на Женю, но тот довольно ловко тут же делает вид, будто уронил айфон и уже ползает под столом на полу на корточках.
Я поражаюсь Жениному нахальству и его явному равнодушию к словам лектора. А меня задели высказывания этого историка Кононенко. Бог ты мой, неужели и мой прадед – загнанный «раб с винтовкой на троих»?!…
Лекция закончилась. Женя едва-едва высидел ее. Зачем он на ней остался – ему же явно скучно. Может, отнести на свой счет? О, нет, я не в его вкусе, мы просто приятели. Наверно, потому, что в его ту́се модно ходить на такие лекции. На телевидении, возможно, ценят обрывки знаний, понахватанных, где попало.
После мероприятия все тянутся со своими книжками к лектору за автографом. Я уже жалею, что пришла сюда – ощущение: в душу наплевали. С другой стороны – а если все это правда? И Вера Николаевна тоже говорила – люди неспособны вместить страшную правду. Наверно, надо купить книгу Кононенко.
И когда я растерянно стою в очереди среди других страждущих росчерка его пера, всё приближаясь к его столику, вижу, что историк оказывается довольно неприятен при ближайшем наблюдении.
Кислолицый глинообразный дядечка лет пятидесяти, легкости и в помине нет – все грузное, массивно-грубое, густо-плотное, тяжело дышащее. Лицо красноватое. Мясистый нос. Рот во всё лицо – тоже разбухший, точно разваренные сарделищи, как будто бы разожратый вусмерть постоянной привычкой к обильному чревоугодию. Мокрая губастая улыбочка, смоченная невысыхающей слюной, так и вопиет о способности проглатывать, перемалывать, переваривать всё и вся. Вплоть до противоположных историку умонастроений и возражений несогласной с ним аудитории. А сомнительную темку он сможет обсосать так, что любо-дорого. Его искушение приложиться своим пищеварительным аппаратом к истории, возможно, столь велико, что при поступлении заказа по определённому вопросу – извольте, уж и разжёвал, а вонючая отрыжка при этом подастся как «последние архивно-исторические данные» или «новые современные исследования». Глаза у него равнодушны и холодны. И руки – будто клешни краба, такие зацепят – пожалуй, и не вырвешься. Он отирает пот со лба, охает и то и дело отхлёбывает минеральной водички. Иногда фарисейская приторная улыбочка сползает с его лица и за этой маской проступает что-то жёсткое, нахраписто-свиномордое. Но лишь ненадолго. Вот он уж опять и улыбчив. Держится несколько развязно, не как ученый, а как шарлатан, продающий сомнительное снадобье.



