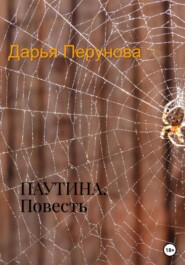 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Паутина
Я возражаю:
– Но для меня-то, для нас всех это важно, очень важно… это такое счастье… Ты знаешь о Победе?
– Знаю, – он кивает как-то отрешенно.
– И что ты чувствуешь… ну, после смерти… после всего…
– О! – оживляется он. – Вот об этом-то я и хочу поговорить с тобой. Я ведь видел и чувствовал, как ты мучаешься, как зовёшь меня. Я должен тебе помочь. Могу дать только один совет – освободись.
– От чего? – я в недоумении, но готова впитать все, что он скажет.
Он замолкает, задумывается. И замирает на время. Я, ожидая ответа, слегка касаюсь его рукава. И он пробормотал как бы сам себе:
– Меня-то ведь только смерть освободила от рабской жизни.
Нет, что-то тут не то… Ответ его приводит меня в недоумение. И в то же время кажется знакомым, где-то уже слышанным. Совершенно точно, я его уже от кого-то слышала.
А он, не замечая моей растерянности, не реагируя на неё, продолжает:
– Когда я умер, я освободился. Родина, долг, победа – всё это перестало существовать для меня, всё было – веригами, цепями. Ты не представляешь себе, что такое жить при Сталине. От такой жизни освобождение – лишь в смерти.
Опять возникает ощущение, что где-то я уже это слышала. Его слова вызвали у меня отвращение. Тут, действительно, что-то не то. Не может мой прадед, герой войны, говорить такое…
Бог ты мой, так это и не он вовсе! Это – подмена. Передо мной – обманка, кукла. Вот отчего глаза его выглядят чересчур уж ярко-синими. И такая нестественная стать, с такоой прямой спиной. Это всё искусственное. Да это же го́лем, запрограммированная кукла-робот, она лишь механически раскрывает рот, а записанный чей-то голос, вставленный в неё, вещает в ней.
От этого своего горестного открытия, сразившего меня, я сразу проснулась…
Протирая глаза, окончательно пришла в себя. Я всё ещё сижу у себя в комнате перед компьютером. Видимо, задремала: сказывается напряжение последнего времени и хронический недосып. Мой сон длился совсем недолго.
Но он помог мне понять, что, к сожалению, у меня нет, и никогда уже не будет, возможности познакомиться со своим прадедом, увидеть хотя бы фотографию. А ведь я уже почти срослась с мыслью о нём. Горько и печально. Ощущение какой-то потери.
Но я всё равно узна́ю о прадеде. Пороюсь в архивах. Тем более что сейчас уже стали появляться кое-какие оцифрованные документы тех лет на сайтах разных архивов. Было бы желание. Уж лучше так, чем верить всяким небылицам, фокусам, обманкам, поддаваться на манипуляции, подмены. Сыта уже по горло подобными подменами, да хотя бы в том же фильме, заставившем меня пережить немало страшных дней.
***
А подмены легко смастерить – стоит только немножко приврать, приукрасить, напустить туману, романтического флёра, тео́рийкой «новейшей» окутать, сместить акцентики. И вуаля – совсем другой раскрас получается. Так же происходит и при создании образов киношных нацистов, сплошь и рядом. Их всегда изображают эффектными, даже пригламуренными, ценителями искусства, музыки, со вкусом, прекрасно одетыми, и с этакой благородной выправкой – ну просто «сливки» человеческой эволюции и развития мысли. Существует даже особая эстетика и стилистика подачи таких персонажей в фильмах.
Вопрос лишь в том: зачем? почему это делается? Я пока что не очень это понимаю.
А сегодня случайно узнаю, что в нашем кофейне-клубе некая кинокритикесса Марина Минц выступит с лекцией как раз на эту тему, будет рассказывать об «эстетике нацизма в кино». Срочно иду!
К шести вечера заглядываю в кофейню. Помыкалась немного и по смежному с ней книжному магазинчику. Как давно я тут не была, раньше заходила почти каждый день. Последний раз была десятого мая, но кажется, это было так давно. Будто целая вечность прошла. Я тогдашняя, с любопытством слушавшая, потягивая коктейльчик, эрзац-историка Кононенко, – теперь кажусь себе безмозглым порхающим мотыльком. Тогда ещё кошмары не коснулись меня, не перемолотили мою психику.
Теперь я, находясь в этом интеллигентном приятном месте и оглядываясь назад на всё пережитое, вдруг осознаю, насколько непрочной может быть стена реальности. Та, что закрывает нас от хаоса. И меня тоже. Ведь стоило мне задремать – я уже старалась даже не спать, что было тоже не айс, и сидела на кофеине – а меня уже что-то тащило в хаос непостижимой жути сновидческих миражей, разрушающих мою веру, волю и радость жизни, и я превращалась в безгласную вещь, которой можно играть как хочешь…
Публики на эту лекцию собралось не так много, как на Кононенко, но все же достаточно. Человек тридцать.
Кинокритикесса Марина Минц показалась мне довольно приятной. Стриженая ежиком, в просторной рубашке и широких рэперских штанах, размером с Атлантический океан, выглядит артистически-богемно, и всего лишь лет на восемь старше меня.
Сначала её выступление течёт более-менее удобоваримо. Но потом у меня с ней неожиданно возникает довольно несуразный диалог, и мы совершенно не понимаем друг друга – когда она касается темы дизайна фашистской униформы в кино.
– …Фильмы вроде «Ночного портье» и «Гибели богов», и не только эти, придают нацистской униформе сексуальную притягательность латентного фе́тиша.., – вещает она со своего небольшого возвышения.
Все вокруг такие спокойные, кажется всё, что тут ею говорится, воспринимается как нечто нормальное, естественное. Я же человек наивный, киноведчески безграмотный, не удерживаюсь и восклицаю – с позиции обычного простого зрителя:
– Разве это не ужасно? И что же с этим делать?
Марина Минц, демонстрируя голливудскую улыбку и изящные манеры, спрашивает приветливо, тоном салонной беседы:
– Что вас конкретно ужасает?
– Ужасно, – поясняю я, – ужасно то, что эти режиссеры именно так всё показывают. Разве должна быть эта нацистская униформа так подана, чтоб нести в себе оттенок сексуальности и притягательности для зрителя?.. И благодаря этому её сейчас ещё стали использовать и в рекламе, и в моде… появилось даже такое модное направление как «нацистский шик»… Разве это нормально? Она ведь связана с убийством миллионов людей – и мирных, беззащитных, и воинов, наших соотечественников.
Фешенебельная улыбка Марины Минц всё так же цветёт на её милом лице. Во время моей реплики девушка холёной ручкой берет смузи, цедит сквозь трубочку и, чуть усмехаясь своими ровными прекрасно отбеленными зубками, благожелательно осведомляется, всё так же поддерживая паркетный тон:
– И… что вы предлагаете? Вы просто хотите высказать замечание… или… Не понимаю, в чем суть вопроса?
Да ей все равно, ей просто-напросто это безразлично. Ей нет дела до действительной жизни. Ей нравится кружиться в хороводе абстрактных концепций и понятий, она увлечена лишь созданием понятийного шума в построении своего лекционного спектакля – вот её дело. Зачем ей реальные проблемы? Она, конечно, с воодушевлением и интересно рассказывает. Но она занимается всем этим опосредованно, чисто теоретически, как искусствовед и критик, отвлечённо.
Я же этим терзалась вживую, не могла спать.
– Как режиссеры могут так снимать! – запальчиво вырывается у меня. – Разве они не понимают, что так происходит смещение смысловых акцентов, а затем и смещение оценки самого фашизма: грубо говоря, оценка его меняется с «плохо» на «хорошо»! Разве создатели фильмов не догадываются, что участвуя в «эстетизации фашизма», – распространяют его, дают ему новую жизнь?!
Среди публики раздаются смешки. Я оглядываюсь – никакого гопничества, лекцию пришли послушать интеллигентные умные люди. И у всех такие рассудительные благолепные лица. Им вряд ли снятся кошмары. Они воспринимают и фильмы, и эту лекцию – лишь как изящную игру смыслами. И ценят они не столько сами смыслы, сколько игру по поводу этих смыслов.
Зря я всё это влепила здесь. Я-то как раз хотела не этих интеллектуальных игр с понятиями – фетишизмом, симуляциями, имитациями, кодами, инверсиями, деструкциями и другими подобными словами, замещающими реальность и оторванными от неё, о которых толкует эта Минц и которыми она так ловко пересобирает мозаику содержания образов, искажая и подменяя это самое содержание. Я шла сюда за обнажением реальности от заслоняющих её покровов, за самой обнажённой реальностью с её реальными смыслами. Ну не деревенщина ли я! И это придавливает меня бетонной плитой неловкости за свою культурную неподкованность.
Потом я уже помалкиваю. Обо мне, к счастью, скоро забывают, никто уже не таращится в мою сторону, не изучает как чудо из глухомани.
Но вскоре другие люди тоже начинают высказываться. Марина Минц – светски всех выслушивает с лёгкой затаённой улыбочкой, не опускаясь до комментариев.
Один из присутствующих обращается к сидящим в зале с таким замечанием:
– Сильно табуированная в своё время нацистская символика и униформа почему-то сегодня оказывается всё более и более трендовой в сфере искусства, кино, фешн-индустрии… Она, правда, принимает стилизованные, не столь явные формы, как прежде… Но видно, что ею стали вдохновляться дизайнеры, модельеры, киношники, рекламисты, шоубиз, поп-звёзды… Это ж, по сути, распространение культурного вируса с нацистской начинкой… Не кажется ли вам это достаточно тревожной тенденцией?
Пожилой мужчина с острой «бородкой Ван Дейка» указывает на иные моменты эстетизации фашистской символики:
– На самом деле, униформа фашистов, – отмечает он, – часть политического мифа… И нельзя забывать, несмотря на то что форма и символы есть воплощение мрачного очарования, стиля и эстетического кайфа, – содержание этого политического мифа всё же уже дискредитировано в глазах всех нормальных людей…
Тут из аудитории начинают выкрикивать с мест, что, мол, сегодняшняя молодёжь вовсе и не в курсе этой дискредитации, скорее наоборот.
Встает корпулентная животрепещущая дама лет сорока в платье от Прада и заявляет:
– Знаете, я хотела бы тоже подчеркнуть недопустимость такого сильного эстетического воздействия нацисткой униформы на зрителя, особенно неокрепшего умом, – говорит она. – Когда я была молодой девчонкой, меня в фильмах про войну, прежде всего зарубежных, просто ошарашивало впечатление от вида немцев. У них была очень эстетически впечатляющая форма, она была элегантна и пугающа, она вызывала страх, и одновременно просто кричала о силе, авторитетности, воле и железной дисциплине. Она придавала подтянутость и такую выправку, которая сама по себе пугала, подчиняла… То есть я хочу сказать, и нацистская форма, и грим, и актеры в любом фильме – всё это тщательно продумано… Сейчас-то я понимаю, что это всё винтики в огромной пропагандистской машине, это элементы пропаганды военной, и даже ментальной, мощи «арийской расы»… И может, поэтому именно нашим военным западные кинематографисты не уделяли такого же пристального внимания при создании их внешнего образа… В силу своей пропагандистской задачи… Их показывали как-то более аморфно, порой даже мятыми, грязными… чтоб подчеркнуть их слабость, скорее всего… Кстати, такими образами грешат и наши отечественные фильмы. Часто наших солдат жалко. А так быть не должно…
– Вот именно, – подхватывает щуплый, прыщавый парень моего возраста в черной футболке с изображением хе́ви-ме́талл-группы «Ария» и поставленным на макушке небольшим панк-гребнем, опускающимся на лицо хохлом длинной чёлки. – Наших жалко. Это мученичество всё и сгубило. На него зачем-то делали ставку. Зачем этот культ жертвенности?! Люди тянутся к силе, а не к жертве. Потому коммунизм и провалился в 90-е, как до него христианство в 1917, когда утвердился атеизм…
– Глубоко копаете, – замечает Марина Минц.
– А тут и копать не надо, – невозмутимо продолжает парень. – Вот Христос – измученный, худой на кресте, ребра выпирают. Мученик, раб. Никакой победности, никакой силы. Христианство, как и коммунизм, совсем не понимало природу человека. Потому обе идеологии и проиграли. Они, эти идеологии, – рабские.
Для меня это звучит как отголоски хорошо знакомых мне мыслей Веры Николаевны.
***
После лекции я разговорилась с этим парнем. Он оказался из соседней школы, математической. Так и выглядит, как все бота́ны – тощий, с худой длинной шеей, на которой резко выступает адамово яблоко, сутулый, взъерошенный, в пубертатных прыщах и с серьёзным сосредоточенным взглядом. Плюс явное страстное увлечение хе́ви-ме́таллом, особенно группы «А́рия». Её темы апокалипсиса, ужасов битв, войны, религиозной мрачной мистики находят в нём жаркий отклик.
Внешне он мне совсем не понравился.
Замечу в скобках – у меня губа не дура. Хотя я сама далеко не модель, но мне непременно подавай красавца. Да не такого, как Макс. А красавца – умного. Тщусь, как всегда, совместить несовместимое, смиренно принимая всю безуспешность сей несуразной затейки. Опять оказалась в лапах причуд оксюморона.
Надо сказать – говорю без всякой обиды – Егору, так зовут моего нового знакомого, я тоже не приглянулась. Такие задро́ты обычно мечтают о грудастых блондинках, но с интеллектом Эйнштейна, что даже приблизительно не про меня. Да и ладно. Мне фиолетово.
Но зато он оказался интересным собеседником. И мы очень хорошо поболтали. Я легко вычислила замороченность Егора – он бунтарь со всеми возможными «анти»: анти-коммунизм, анти-меркантильность, анти-мода, анти-гламур. И у него дело совсем не в группе «А́рия» с её чёрной мистикой, всё гораздо серьезней и забористей. Он считает себя «анти-христианином», «сатанистом», и даже служил, по его выражению, «черные мессы».
– Ух ты! – слова про «черную мессу» тут же взвинчивают мою иронию.
– А кошек ты не вешал? – подстёбываюсь я. Он, несмотря на весь свой «сатанизм», в разговоре открыт и добродушен.
Он с самым серьезным видом:
– Нет, конечно. Делать мне больше нечего. Будто весь смысл – в кошках. Попсо́вые у тебя представления. Смысл всегда не во внешнем – а в том, что внутри.
– Ну ты сам себя так подаёшь, – смеюсь я, – этот ваш… как его… Энтони Ла Вэй, ну, автор вашей «философии сатанизма» – замечен как раз в своей попсо́вости. В Голливуде тусовался, несмотря на весь свой пафос основателя и жреца сатанинской церкви. И проповедовал «религию плоти и инстинктов» – это ли не попсо́вость?! Как раз – для массового обывателя.
– Меня не Ла Вэй перепахал, – морщится Егор, – хотя он на своем маленьком уровне полезное дело делал. Он продвигал наше учение в массы. Тут попсо́вость как раз нужна. А меня, так же как Чернышевский Ленина, перепахал другой чел – Джон Ми́льтон. Ты, наверно, слышала, – серьезно и с запалом произносит Егор.
– Слышала, но не читала. Кажется… «Потерянный рай»… Так?
– Ну да. Почитай, – снисходительно кривит он рот.
– А ты, должно быть, читал его в подлиннике? – опять пытаюсь язвить я.
– Зачем в подлиннике, – пожимает плечами Егор, – в отличном русском переводе. Май инглиш из бэд, из бед и огорчений.
Я хохочу. Мне импонирует болтология с этим чудаком. Под его бунтарской гримасой, чувствую, скрывается открытая добрая душа, жаждущая, ищущая. Нет у него чёрного камня за пазухой, несмотря на «сатанинский» антураж.
– И в чем там смысл у этого Мильтона? – спрашиваю, – у него же вроде сюжет из Библии?
– Да, – кивает, – из Библии. Ну, там о противостоянии падших ангелов богу, о борьбе ангелов света и демонов тьмы. А бунтарский образ Сатаны такой могучей силы, настолько вдохновенно потрясающий, словно бы автор не богобоязненный пуританин, а сам – из наших. Этот Мильтон жил в XVII веке – как его на костре не сожгли, уму непостижимо.
Мы незаметно переходим к планам на каникулы, вспоминаем всякие уморительные школьные проделки, комичные казусы. Егор, как и я, заканчивает десятый класс. Затронув эту тему, он со смешком роняет:
– Слышал я кое-что про вашу школу…
– И что же ты слышал, скажи-ка на милость?
– Да вот про Макса вашего, Мироненко – слава-то его мажорская по всему микрорайону шагает, впереди него.
– Да? – удивилась я, и добавила не без гордости. – Он мой одноклассник. И, кстати, встречается с моей подругой.
– А тебе-то чем тут гордиться? – подкалывает уже и он меня. – Ты огорчаться должна… что не с тобой такой красавчик встречается. И завидовать подруге. Наверно, и так завидуешь.
– Вот ещё! Он для меня глуп, – отмахиваюсь я, невольно задетая его словами. – У его родителей слишком много денег, и он привык, что всё валится на него без усилий его мозгов. Это делает его скучным.
– Лиса и виноград… – флегматично отзывается Егор.
– В таком случае, скорее, ты должен ему завидовать – такому красавчику и мажору.
Егор качает головой и ровным голосом равнодушно сообщает:
– Не в моих правилах завидовать пошлым глупым людям, разбухающим в своей популярности на дерьме. В моей жизни есть занятия поинтересней. Ну… например, паломничество…
Я остолбенела от слова «паломничество» у семнадцатилетнего скромняги-зау́чки: всё-таки его эксцентричность зашкаливает. А он сдержанно и терпимо мне поясняет, как бы вскользь.
– Как только каникулы… через три дня еду в Бельгию, в город Льеж. Хочу увидеть статую, о которой наслышан – Льежский Люцифер.
– Увидеть где, в городе? Или в храме? – ещё не врубаюсь я, потрясённая неожиданным ходом в его планах на предстоящие каникулы.
– В храме, конечно, где ж еще, – смеется Егор. – Католики-то – креаклы ещё те, покреативней наших православных ребят оказались. Прямо в само́м католическом соборе для верующих Люцифера и впендюрили… не взирая на святость этого места… Толерантность в действии – и к богу, и к дьяволу… А в действительности, у них получается – по поговорке: и нашим и вашим, а вернее всего – ни богу свечка, ни чёрту кочерга.
Мне любопытна парадоксальность его мыслей, хочется и своими поделиться:
– Так католики не только внутри своих храмов всякую демоническую нечисть впендюривают – у них и снаружи, на фасадах, не дай бог, её сколько…всякие гаргульи, змеи, химеры, монстры, демоны… Может, это у них игра такая для прихожан – и высокое, и низкое; и рай, и ад; и бог, и сатана… Заигрывание какое-то с нечистью, с демонами… с дьявольским… Я слышала, что даже в Ватикане, так сказать, в самом сердце католичества, есть музей Люцифера. Мрачнейшие экспонаты… И, как ни странно, общедоступны для осмотра… Двусмысленно как-то… А может, это форма подмены под прикрытием – для воздействия на подсознание, и даже для вовлечения? Может, это такой своеобразный «троянский конь» у них?
– Да, толерантность для этого удобна… она размывает всякие границы… и снаружи, и внутри. И реально сбивает с катушек…
Мы с азартом чешем языками, не задумываясь, что, возможно, кому-то со стороны может показаться, что по нам явно плачет психбольница.
– Послушай, – вспоминаю вдруг, – а ведь я тоже первого июня буду в Бельгии, только в Брюсселе. Папа едет туда на какой-то экономический симпозиум. И он нас с мамой с собой берёт. А его банк львиную долю поездки оплатит.
– Так, может, увидимся… если заглянешь в Льеж … – неуверенно предлагает Егор.
– Пожалуй, – отзываюсь я. – Хоть я и не любительница ходить по музеям и соборам.
Вот так штука! Я заинтересовалась такой седой древностью, как «Потерянный рай» Ми́льтона. Да ещё и льежской скульптурой Люцифера. А всё – Егор.
И вот через неделю я с родителями уже в Брюсселе, а через три дня собираемся в Льеж, как я и договорилась с Егором.
Из номера гостиницы общаюсь с Егором по скайпу. Он прилетит в Льеж чуть позже. Задержали какие-то дела, и он пока еще в России. Мама, сидящая со мной рядом, заглянула в монитор, и в момент, пока Егор ушёл за своей записной книжкой, шутит:
– Ухажер, что ли, новый?
Я смеюсь. Ну никак не могу представить Егора в роли «ухажера». Слишком уж он странен и невзрачен, хоть и неплохой человек.
Во время сеанса скайпа краем глаза можно углядеть тесную кухоньку типовой пятиэтажки, где обретается Егор… Мельком замечаю даже его мама́н. Пожухлую женщину с лицом-квашнёй, хотя и не толстая. Скорее, даже худая.
Папа мой, сидящий неподалёку, тоже цепко всматривается в обстановку этой кухни. Он у нас человек практический, смотрит на всё и будто прикидывает что-то в уме. Он, проглотив тарталетку с осетриной и лимоном, запив это сухим белым вином и довольно крякнув, про себя прозорливо отмечает какие-то признаки отсутствия отца в доме Егора. Едва я отключила связь, папа тут же выкладывает нам свои наблюдения о неполной семье моего приятеля, отмечает некачественный кухонный гарнитур из местного магазина хозтоваров. И, наконец, высказывается полувопросом-полуутверждением:
– Катерина, ну зачем тебе это?!
В слове «это» чувствуется тончайший неповторимый оценочный оттенок. Я так и вижу, как он им смахивает Егора со стола, словно досадную мошку, небрежным щелчком пальцев. Мама тоже бросает реплики, ей не нравится проблемная кожа Егора и растянутый балахон футболки.
Папа продолжает:
– Сын разведенной женщины… Нет отца – не будет в парне мужского начала… Катерина, понятно, парень совсем неглуп, но начисто лишён здорового влияния нормальной полноценной семьи. И это рано или поздно проявится. – И как бы оправдывая свою тираду, многозначительно заключает, – всего лишь предостерегаю, не более того!
Мама сначала посмеивается, но потом ей становится жаль бедолагу Егора, и она пытается вступиться:
– А, может быть, отца попросту нет дома?
Папа отметает это предположение:
– Да в банке через меня проходит столько разных людей, что я там психологом стал не хуже нашей Веры, то бишь Николаевны. Здесь – точно разведёнка.
– Не говори «разведёнка»! – слегка протестует мама. – Это как-то грубо и неуважительно по отношению ко всем женщинам. Ты бы так же стал говорить, если б я с тобой развелась?
– Это исключено, – с весёлой улыбкой отшучивается папа, демонстрируя свою, хоть и игриво выраженную, но непоколебимо устойчивую уверенность в прочности их союза.
Маме, конечно, нравится эта его уверенность, но она всё-таки намерена расставить все точки над «и»:
– Это почему же?
Папа подкупающе смеётся, не говоря ни слова, легко целует её. И ей уже и не хочется ничего выяснять.
А я в том же шутейном тоне добавляю ещё и свой маленький выкрутас-коленце ко всей этой словесной чехарде:
– Папа, ты такой крепкий домостроевец! Жену и дочь из терема – ни-ни! Салфетки в зубы – и вышивать-вышивать-вышивать! Чтоб «разведёнками» и не пахло…
Мы уже все хором хохочем и начинаем без стеснения перемывать косточки другу нашему сердешному и его маменьке. Папа, гениальной интуитивист, угадывает, что она учительница, это через три дня и подтвердилось.
– Как ни прискорбно, но она классическая жертва на маленьком окладе, – прорывается неодобрение папы.
– Что ж ты хочешь – бюджетница, – пожимает плечами мама, – знаю этот типаж, сталкивалась.
– Вот уж точно, – в унисон вторит папа, – это, как правило, в массе своей, неинициативные персоны. Я навидался их в 90-е – учителя, медсестры, болтуны из НИИ… – им зарплаты задерживают, месяцами не платят, а они, дурачьё, на работу таскаются. Нет, чтоб попытать счастья… Чего они там хотели высидеть?! Им, видите ли, стыдно было на базаре торговать.
– А знаешь, что Вера говорила? – добавляет мама. – Вера очень точно о таких людях сказала, что вот стоит только им пообещать платить чуть бо́льшую зарплату, даже хоть на какие-то копейки больше, и они тут же проголосуют за возвращение «совка».
Я, слушая их, подтруниваю:
– Ну, вы, оказывается, оба ещё и маститые социологи!
– Мы просто предостерегаем тебя, Катерина, – примирительно отвечает мама.
– От чего?
– Чтобы ты не портила гены… – резюмирует папа.
Четвёртого июня я уже еду в автобусе из Брюсселя в Льеж. Родители отправляются со мной неохотно, только чтоб меня сопровождать.
Мы с Егором – перед собором: уже говорю стихами, да еще и звучит-то как-то двусмысленно. Почему-то там перерыв. Кое-где снуют гиды, но нам неприятно их надоедливое занудство.
Я без родителей. Они уже списали Егора как неперспективного. С нами лишь немного побыла мать Егора, а ведь папа угадал – она учительница в школе.
Очень милая женщина, хоть и несколько чудаковатая. Почему его мать выглядит такой старой?! Высохшая, с впалой грудью. А лицо-то при такой худобе как будто опухшее, с брыластыми щеками. Плюс очень светлые глаза, до белёсости. Но у этой уставшей, изможденной женщины прелестнейшая девичья улыбка. Никто из моих одноклассниц так не улыбается, с такой застенчивой нежностью и открытостью, у Егора, кстати, очень похожая на неё улыбка, явно по наследству передалась. Мать его всё никак не может поверить, что оказалась в Европе, ей дальше Сочи никуда не приходилось выезжать.
Егор, видно, ее очень любит. Он каким-то чудом, частным образом ремонтируя компы и заворачивая гамбургеры на подработке вечерами, ухитрился скопить определённую сумму для поездки сюда с матерью.
Мама Егора вскоре захотела вернуться в гостиницу на обед, входящий в стоимость путёвки, и оставила нас вдвоём. После её ухода Егор признаётся мне:



