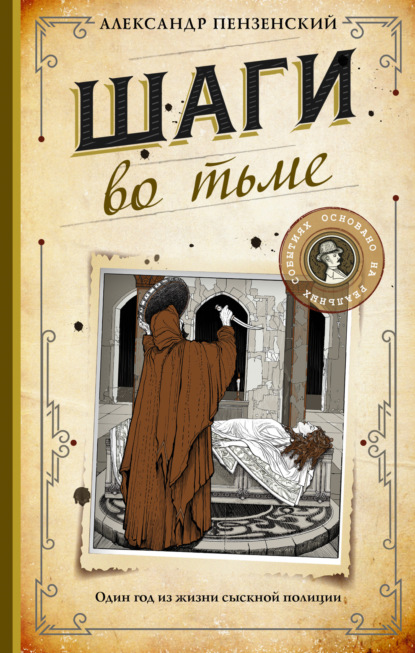
Полная версия:
Шаги во тьме
Из другого кармана Маршал вытащил длинный седой парик и такую же бороду.
– Это из гримерки Афанасия Фаддеевича. Ваш пристав говорил, что господин Северский был превосходен в роли Тургенева. Думаю, вас, Антон Савельевич, в театральной ложе, на изрядном удалении от свидетелей, он сыграл в тот вечер не менее блистательно.
В повисшей тишине было слышно, как во дворе садовник поливает из шланга клумбу. Заусайлов растерянно переводил взгляд с Маршала на Ильина и обратно, но те молча смотрели друг на друга. Безмолвную дуэль прервал вернувшийся дворецкий. Он бесшумной тенью скользнул к хозяину, протянул тоненькую пачку конвертов, перевязанных атласной лентой. Управляющий молча проводил его взглядом, а после закрыл лицо руками, взъерошил волосы, снова провел ладонями по лицу, будто пытаясь что-то стереть.
– Я не думал его убивать, – тихо, еще сквозь руки, заговорил Ильин. – Хотя… Наверное, не исключал такого варианта. Раз нанял этого пьянчугу Северского. Вы правы, я шел за письмами. Этот паршивец… Мало ему было того, что он с ней сотворил… Он угрожал мне, что я не смогу найти Нине жениха, что он сразу после объявления помолвки передаст ему ее письма… Я их не читал. Не смог. И вы не читайте, прошу. Вы правы, у меня не хватило решимости их сжечь. Я готов был заплатить. Честно. У меня и сумма при себе имелась, все десять тысяч. Можете проверить, я в тот день их забрал из банка. Я просто не верил, что он отдаст. Я же и про письма не сразу поверил, не думал, что Нина могла повести себя так неосторожно. Ведь было бы из-за кого!..
Антон Савельевич облизнул сухие губы, оглянулся на столик у зеркала – там стоял графин с водой. Маршал молча подал ему стакан, не торопил, пока Ильин пил. Вытерев усы тыльной стороной ладони, тот продолжил:
– Вы правы, у него был ключ. Не понимаю, как вы догадались, но это так.
Константин Павлович пожал плечами:
– Если б ключ был у вас, вы и говорили бы с ним внутри. А то, что убийство случилось в другом месте, не в комнате убитого, понятно стало еще по отсутствию крови на коврике. Потом при осмотре тела я обратил внимание на синяк на скуле. Предположил, что Бондарева ударили по лицу, тот упал и обо что-то раскроил череп. Вспомнил ограду палисадника во дворе аптеки – там как раз похожие шары на столбиках. Еще раз наведался, чтоб удостовериться – размер подходящий, да еще и кое-что нашел. – Константин Павлович в очередной раз запустил руку в карман, достал оттуда спичечный коробок: – Смотрите – кровь дождь, конечно, смыл, а вот волосы задержались в трещинах краски. – От вытащил из коробка тонкую каштановую прядь.
Заусайлов брезгливо поморщился, но все же приблизился, сощурился сквозь очки на улику.
– Признаю – цвет похож. Но если все так, как вы говорите, то тут нет преднамеренности. Ну повздорили два человека, один другого ударил, тот упал, а дальше на все воля Божья.
– Все так и могло бы трактоваться, если бы Антон Савельевич не подготовил себе алиби и не опоил сторожа. И вот это уже явно свидетельствует о преднамеренности действий. Да и устранение потом своего невольного соучастника тоже не похоже на случайность. За что вы его убили? Он тоже стал вам угрожать? Как он вас связал с убийством? Ведь вы же наверняка ему изначально что-то менее криминальное рассказали, объясняя, для чего вам понадобились его услуги?
Ильин снова провел рукой по лицу, ответил:
– Про роковую страсть придумал. Я же на встречу с ним ехал, чтоб сотню обещанную отдать – да и все. А он пришел заведенный, ершистый, начал кричать, что денег ему не надо, имя его честное ему дороже и что убийцу он покрывать не станет. Какого, говорю, убийцу, что ты несешь, проспись ступай. А он в ответ, что, мол, с вечера не разговлялся, глоток, мол, в горло не идет от осознания всего ужаса. И опять про имя Северского, которое он не позволит в крови марать. Я даже его за лацканы потряс, чтоб хоть чуть эту словоохотливость поубавить. Ну он и спокойно так мне прямо в лицо заявляет, что видел вас в участке, когда к брату жены покойной заходил, и на него озарение снизошло. Что я, может, и не убийца, а все ж дознанию нелишним будет знать, где я вчера ночью был и для чего он, артист, три часа с фальшивой бородой в театре просидел. И руки мои так аккуратно от пиджака оторвал и зашагал через мост. И я затрясся аж, в глазах потемнело. Пронеслось в голове, что из-за одного негодяя я дочь потерял и убийцей сделался, а из-за второго и меня семья потеряет, по миру пойдет, пока я на каторге кайлом махать буду. И как в тумане все. Помню только, как склонился над ним, а он уже и не дышит. Как через перила перевалил его – помню. Всплеск этот в ушах до сих пор стоит. Очнулся только у конторы уже. Александру Николаевичу про собаку сообразил сказать. – Помолчал, глядя на руки, продолжил: – Думал, не усну. А не поверите: только голову на подушку опустил – и как умер. Матушка-покойница снилась. Как будто сидит она в саду под яблоней, молодая, красивая, в белом платье и шляпке кружевной. Столик перед ней летний, плетеный, чай на нем, самовар, мед блестит, как янтарь. Помните, Александр Николаевич, янтарь – мы в Риге видели в девятьсот четвертом, когда станки встречать ездили? И сидит, значит, матушка за столиком этим в кресле и что-то на пяльцах вышивает. Оглянулась на меня, отложила шитье и зовет: «Антошенька, сынок». И рукой машет. А я маленький, в матроске, и с другого конца сада бегу к ней – а добежать не могу. Ноги как ватные, и будто не воздух кругом, а вода, не растолкать грудью, сил не хватает. И солнечный зайчик от самовара прямо по глазам. Так до утра и не добежал. Проснулся – солнце на подушке… Что же будет теперь?
Он смотрел не на Маршала – на хозяина. Тот растерянно вертел в пальцах незажженную сигару, не обращая внимания на сыплющиеся на пол табачные крошки. Видно, что нечасто этот сильный человек бывал в ситуации, когда не знал, что сказать. Молчал он долго, но наконец встал, бросил на стол вконец измочаленную сигару и заговорил короткими рублеными фразами:
– Знаю, что не про себя спрашиваешь. Но сперва о тебе. Адвокат будет лучший. Кони[2] или даже Карабчевского[3] выпишу. От каторги спасем. Теперь про то, что тебе важно. Дарью и Нину не брошу, не бойся. Флигель их. Жалованье твое им как пенсию платить буду. Бог даст, еще на свадьбе погуляем. Вместе. А теперь едем. Пока Шаталин обедать не ушел.
– Ушел, но не обедать. – Маршал удивленно смотрел на Заусайлова. – Если честно, я не был уверен в вашей реакции, потому пригласил его сюда. Он ждет в фойе.
Пока Савва Андреевич, извиняясь и кланяясь хозяину дома, уводил Ильина, Заусайлов молча смотрел на своего управляющего, хмурясь и будто надеясь поймать его взгляд. Но Антон Савельевич так и не поднял головы. Когда же за воротами стих цокот копыт, Александр Николаевич, глядя на закрытые двери, медленно произнес:
– Не постигаю. Хоть режьте меня. Если б он сам не признался, я бы вам не поверил.
– Почему? – удивился Маршал.
– Антон Савельевич – математический гений. Он мог бы преподавать в Московском университете, не меньше. Если бы он задумал убить этого Бондарева, вы бы в жизни его не вычислили.
Константин Павлович развел руками:
– Ну вы же слышали – оба убийства были не вполне запланированными. А когда человек в состоянии ажитации, всего предусмотреть невозможно, что-то да упустишь.
Заусайлов покачал головой:
– Обычный человек – да. Но не Ильин. Он – ходячий арифмометр. Он однажды на стройке три часа доказывал подрядчику, что тот привез не тот лес. Тот на него и орал, и ногами топал, даже плюнул на ботинок. Антон Савельевич вытер плевок, аккуратно засунул испачканный платок грубияну в карман пиджака и даже не прервал реплики. Хотя тут речь о чести семьи…
– Чужая душа всегда потемки. А уж когда речь идет о любви…
* * *После обеда, рассказав финал истории Зине, Константин Павлович вышел в сад, сел под яблоней в плетеное кресло. В лучах перевалившего зенит солнца блестели маковки собора, мелькали в розовом воздухе запятые стрижей. С прибрежных лугов принесло горячий пряный запах каких-то степных трав. Почему-то вспомнился сон, рассказанный Ильиным, про солнечное детское воспоминание. Странно – каждый раз, разоблачив очередного убийцу, Маршал спрашивал себя: а каким был этот человек в младенчестве? Ведь не родился же он сразу извергом и врагом человеческим? Когда происходит та метаморфоза, которая отделяет одну дорогу от другой? И сколько таких развилок приходится преодолеть, прежде чем окончательно выбрать свой путь? Думается, что у всех свое количество перекрестков. Кому-то и одного бывает достаточно. Вот жил себе мальчик Антоша, вырос в Антона, потом в Антона Савельевича. Встретил девушку Дашу, обвенчались, родилась у них дочь. Служил – и не за жалованье, а потому что любил то, что делал. И вдруг – две жизни вычеркнул за два дня.
Теплая рука коснулась его щеки, взъерошила волосы. Он поймал Зинину ладонь, поцеловал.
– Доволен собой?
– Как всегда.
– Жалеешь его?
– Пытаюсь понять.
– А что тут понимать. Он защищал дочь. Я бы на что угодно пошла ради ребенка.
Маршал кивнул, достал портсигар, зажигалку, но так и не донес огонек до папиросы. Вместо этого вскочил, хлопнул себя по лбу:
– Черт! Какой же я болван!
* * *Покой публики, чинно прогуливающейся после суетливого вторника, был самым бесцеремонным манером нарушен приличного вида господином, который вел себя совершенно невообразимым образом. Он не просто бежал – он несся по Торговой с непокрытой головой, задевая прохожих и даже не извиняясь.
Через двадцать минут красный от бега Маршал влетел в калитку заусайловского дома, чуть не сбив с ног Захара, крикнул высунувшемуся на шум дворецкому:
– Хозяин дома?
Из окна кабинета свесился Александр Николаевич:
– Константин Павлович? Что?..
Но Маршал бесцеремонно перебил:
– Куда Ильин увез дочь?
– Нину? Но зачем вам?
– Я идиот, Александр Николаевич! А вы наполовину правы! Ильин не убивал провизора! Актера – да, но не Бондарева! Он защищал дочь! И продолжает это делать!
* * *Последняя весенняя суббота была по-летнему жаркой. Парило так, что воздух кисельно густел от предвкушения приближающейся грозы. Маслянистый запах сгоревшей на солнце сирени провоцировал мигрени. К вечеру небо над заливными лугами вдоль низкого берега Сосны потемнело, за дальним пролеском уже посверкивало и погрохатывало. Антон Савельевич подвел последнюю горизонтальную черту под дневной сводкой, аккуратно написал итоговое число, подул на чернила и переложил лист в бумажную папочку. В ту же минуту часы в столовой отыграли гимн и отзвонили семь раз. Пора. Он вышел из кабинета, прошел коридором к двери – ровно шесть шагов, три ступеньки, двадцать шагов до угла, от него еще тридцать, пять ступенек, фойе, четыре шага, левая дверь. Он замер на мгновение, восстановив дыхание, постучал ровно три раза.
– Входите, Антон Савельевич.
Александр Николаевич отложил перо, хлопнул крышечкой чернильницы.
– Ну как там у нас дела? Славно поработали?
Ильин протянул хозяину папку, ответил:
– И поработали, и заработали. Мне к девяти в театр, я предупреждал, помните?
Заусайлов кивнул:
– Конечно-конечно. Только у меня к вам просьба – принесите мне из аптеки рублей четыреста-пятьсот. Сегодня игра у Карла Арнольдовича, а я забыл в банк заехать. У вас же есть там такая сумма?
– Там как раз пятьсот. Сейчас переоденусь и схожу.
Спустя пятьдесят четыре шага и семь ступенек – то есть уже, собственно, на крыльце флигеля – со счета пришлось сбиться. Распахнулась дверь, и из дома вылетела Нина, чуть не сбив отца с ног.
– Ох, папа, прости.
– Ты к своим лебедям?
Дочь рассеянно кивнула, поправила шаль.
– Не сиди до темноты. И возьми зонт, кажется, будет гроза.
Сменив у себя серый костюм на фрак и белый жилет, он взял галстук и направился в комнату жены – за столько лет так и не научился справляться с этими удавками, а ее узлы были идеально симметричны.
В этот раз, правда, с первого раза у Дарьи Кирилловны не вышло. Антон Савельевич перехватил дрожащие пальцы, поцеловал:
– Такая жара, а ты все мерзнешь. Руки совсем ледяные. Завтра же отправимся к доктору, с твоей мигренью нужно что-то делать. Точно не поедешь со мной? Ну хорошо. Тогда ложись, не жди меня.
Антон Савельевич поцеловал подставленную щеку, отметил про себя, что жена серьезно потускнела за последние недели, и снова пообещал себе непременно свозить ее завтра в больницу. Постоял в прихожей перед вешалкой, все-таки перекинул через локоть плащ и взял большой зонт, постоял на крыльце, прислушиваясь к далеким раскатам и вдыхая посвежевший воздух.
До аптеки ближе было через двор – двести шестьдесят семь шагов против трехсот девяносто двух. Потому Антон Савельевич направился к калитке, отмеряя счет ударами трости. Взялся за скобу, потянул и нахмурился: невидимые за развешенным бельем, о чем-то спорили два голоса, мужской и женский. Последний показался очень знакомым. Антон Савельевич замер в нерешительности: возвращаться и обходить через улицу, теряя время, не хотелось, двигаться дальше и стать свидетелем семейной сцены тоже. Промедление же делало ситуацию и вовсе неприличной: выходило, будто он подслушивает. Разрешиться сомнениям помогло то, что спорящие стали ругаться громче, и женский голос был опознан. Решительно отодвинув тростью первую сохнущую простынь, Антон Павлович пошел на голос дочери.
– То, что вы подлец, я уже поняла! – звенел, подрагивая от сдерживаемого гнева, Нинин голос. – Верните письма – и больше меня не увидите!
– Нина, послушай! Успокойся! Почему ты веришь не мне, а этой дуре? Я люблю тебя! Ну хочешь, я завтра к твоему отцу пойду и попрошу твоей руки? Он не отдаст тебя за меня, конечно, но я пойду!
– Прекрати немедленно! Я вас видела в саду!
– Нина!
Пощечина в весенних сумерках прозвучала оглушительно звонко, за ней последовала возня, похожая на звуки борьбы, да еще и сопровождавшаяся сдавленными просьбами убрать руки. Антон Савельевич ускорил шаг, споткнулся, запутался в очередной то ли простыне, то ли пеленке, оборвал веревку – поднял невероятный шум, который прервал полный ужаса короткий девичий крик. Рванув изо всех сил пленившую его ткань, Ильин наконец освободился – и замер. У задней двери аптечного склада, раскинув руки, неподвижно лежал на спине мужчина, а перед ним, упав на колени и зажав руками рот, сидела Нина. Из-под головы лежащего растекалось черное пятно.
Антон Савельевич приподнял голову мужчины, автоматически зафиксировав личность – ночной провизор Евгений Бондарев. Посмотрел на рану, проверил пульс. Только после этого повернулся к дочери, взял за плечи, поднял. Та продолжала смотреть на лежащего юношу, не моргая и не отрывая ладоней ото рта.
– Нина! – Ильин решительно встряхнул девушку, заставил посмотреть на себя. – Нина, он мертв. Тихо! Это несчастный случай. Ты слышишь?
Кивнула. Ильин осмотрелся: слева и сзади глухой забор, окна наверху не горят. Точно, аптекарь на водах. До дома около двухсот шестидесяти шагов. Две минуты туда, минуту на инструктирование жены, минуту на звонок, минуту обратно, потому что бегом. Нет, обратно надо через улицу и шагом. Три с половиной минуты. Всего семь с половиной минут.
Дарья Кирилловна охнула, увидев дочь, но выслушала молча, без вопросов, и тут же начала исполнять. Антон Савельевич этого уже не видел, так как крутил ручку телефона, но был уверен – жена уведет Нину в комнату, отсчитает капель и просидит у постели, пока дочь не уснет. Пожалуй, что и дольше будет сидеть.
На том конце сонный голос побурчал:
– Афанасий Северский у аппарата.
– Афанасий, это Ильин. Слушай и не перебивай. Ты мне должен сто рублей. Закроешь этот долг и завтра получишь еще столько же. Надевай фрак, гримируйся в меня. Да, как тогда на юбилее. Тебе надо опоздать на десять минут, просидеть в ложе и уйти за десять минут до конца. Да, чтоб ни с кем не встретиться. К любовнице мне надо. Да, представь. Сто, не торгуйся. Отбой.
Посмотрел на часы. Черт, просил же не перебивать – разговор занял на полминуты больше. Открыл ящик стола, достал «Веронал»[4]. Ровно через три с половиной минуты он дважды нажал на кнопку звонка справа от двери аптеки.
* * *– Меня подвели наука и жара – доктор ошибся во времени смерти.
– Что сказал Ильин? – Зина протянула мужу чашку мятного чая, села рядом в плетеное кресло, накинула плед.
– Стоит на своем. Все берет на себя.
Зина кивнула.
– А дочь?
– Нам призналась. Рыдала по бедному Бондареву. Но после разговора с отцом молчит. Заусайлов потом рассказал, что Ильин попросил его отправить жену с дочерью куда-нибудь на время суда. Боится, что она порушит его версию. Александр Николаевич ему пообещал.
Зина снова кивнула. Константин Павлович взял жену за руку:
– Что делать мне?
– Решай сам. Я бы оставила за ними право на выбор. Но думаю, он уже сделан. Хотя как Нина сумеет жить с таким грузом, я не знаю.
Вокруг подвешенной к потолку террасы лампы кружилась пара мотыльков, затрещали цикады. Пузатая луна осторожно карабкалась по черному небу, отталкиваясь от ненадежных ступенек просыпающихся звезд. Зина уселась мужу на колени, прижалась к груди.
– Костя. Пообещай, что ты не будешь меня бранить?
Он отстранился, посмотрел на жену – в ее глазах плясали чертики.
– Тебя? За что?
– Зажмурься. Крепко. И не подглядывай.
Легкие шаги прошелестели по молодой траве, скрипнула дверь, снова шаги.
– Открывай.
В плетеной корзинке, с голубым шелковым бантом на шее, тихо посапывал мокрым носом черный щенок. Константин Павлович посмотрел на застывшую в ожидании жену.
– И как мы его назовем?
Зина захлопала в ладоши, даже подпрыгнула.
– Умный у нас в семье ты, ты и имя придумывай.
– Да уж, умный…
На столике рядом с креслом стоял забытый с субботы набор для преферанса. Константин Павлович откинул крышку, не глядя вытащил карту – трефовый валет. Ну нет, Валет – слишком по-фартовому. Полицейскому, хоть и бывшему, не к лицу.
– Пускай будет Треф. Тебе нравится?
ЛЕТО 1912 года
Кошерное золото
Александр Павлович Свиридов погибал. Да что там погибал – уже погиб, и никакие превосходные степени, приставки и прочие грамматические конструкции не требовались для описания глубины этого несчастья. После возвращения господина Свиридова из безымянности и беспамятства прошло уже полгода[5], с благословения профессора Привродского и Владимира Гавриловича Филиппова он вернулся на службу – благо начальнику уголовного сыска столицы империи теперь как раз полагалось два помощника, и мир вокруг Александра Павловича только-только упокоился в некотором равновесии. Шумный Петербург убаюкивал своей суетливостью и видимостью беспорядка, работа в два счета привела в боевое состояние несколько заржавевшее сознание, еженедельные встречи с профессором уже носили больше формальный и даже отчасти дружеский характер, нежели в действительности были потребны для здоровья бывшего пациента. Но грянул гром! Тот самый спокойный, вертикальный и преимущественно прямоходящий мир совершил новый кувырок, будто акробат в полосатом трико под куполом цирка. Александр Павлович Свиридов, мужчина тридцати пяти лет, холостой, православного вероисповедания по рождению и атеист по убеждениям, влюбился!
Безусловно, ничего ужасного или предосудительного в самом таком положении нет – все мы когда-нибудь испытываем приступы особой нежности к какой-либо особе, теряя сон и аппетит. Порой это даже длится очень долго, переживая и «горе и радости, богатство и бедность, болезни и здравие» – и даже последующее восстановление потребностей организма. Несколько хуже, ежели упомянутая особа оказывается несвободна. Но натур пылких и это обстоятельство не всегда способно остановить. Совсем уж плохо, когда чувство ваше не находит ответа. Однако когда супругом вашего предмета обожания является ваш же близкий друг, то тут уж действительно погибель! Ни о каком поиске взаимности человек честный не смеет и помышлять, а лишь страдает одиноко, сгорает, выжигаемый изнутри то ли любовью, то ли чувством вины, то ли обоими этими огнями одновременно или поочередно.
И Александр Павлович пал жертвой именно такой болезненной страсти, приведшей к появлению под глазами темных кругов от бессонницы, рассеянного взгляда и увеличению каждодневных трат на папиросы. По долгу службы и долгу дружбы вынужден он был почти ежедневно встречаться и с той, что лишила его покоя, и с тем, к кому он изо всех сил старался не испытывать зависти. Встречи эти были и сладостны, и мучительны, делали Александра Павловича еще молчаливее и задумчивее, нежели его сотворила природа.
Вот и теперь, сидя в своем кабинете, он вдруг понял, что уже полчаса смотрит на фотографический портрет императора на стене, мусолит незажженную папиросу, но так и не перевернул первую страницу взятого из несгораемого шкафа дела.
– Черт знает что, – пробормотал Александр Павлович, сунул измочаленную папиросу в латунную пепельницу и расстегнул воротничок. – Любовь-морковь. Этак недолго и стишки начать сочинять.
Он поднялся, распахнул окно. С улицы, разгоняя по углам кабинета собравшийся сумрак, ворвались утренний свет, звуки города и сырой запах канала. Цокали по мостовой копыта, посвистывали и пощелкивали кнутами «ваньки», по тротуарам фланировали парами барышни, приятно шурша юбками светлых летних платьев. На Львином мостике два балбеса-реалиста[6] состязались, кто дальше плюнет в канал. Свиридов хотел было кликнуть городового, но пожалел лоботрясов и лишь тряхнул головой да глубоко вдохнул заоконные ароматы. После этого «моциона» он вернулся в кресло и снова взял листок протокола осмотра места преступления. Перечитывал Александр Павлович его уже раз в десятый, притом что составлял его сам, и все пытался найти в документе что-то новое, что-то упущенное. Дело было не просто странное – дело было мистическое. Хоть попа вызывай, даром что ограблен еврей-ювелир.
Вчера утром, явившись после шаббата в лавку в зеркальной линии Гостиного двора, ювелир Ицхак Шейман с младшим приказчиком, племянником жены Эзрой Симоновичем, увидели страшную картину: дверь отперта, стеклянные витрины выпотрошены («Господь, конечно, высушит руки этих непотребцев, но что там взяли, то ж дешевка для кухарок»), громадный напольный сейф бесстыдно распахнут и пуст («А это же полный гембель[7], пан полковник, там же не просто золото и камни, там же экспонаты Эрмитажа, предметы искусства, но для воров они ж просто цацки»), а на полу, прямо посреди комнаты, на куске беленой рогожи аккуратно разложен полный комплект медвежатника: и фомки, и отмычки, и ручные сверла, и даже масленка с тонюсеньким горлышком – в замочные скважины капать да петли от скрипа предохранять.
Александр Павлович, которого воскресным утром командировали на осмотр места преступления, не сильно обрадовался такому своему повышению до «пана полковника». Поначалу дело казалось и странным, и простым одновременно. Английский дверной замок без ключа открыть можно было только изнутри, и сам он оказался в абсолютном порядке: ни царапин, ни следов смазки. А драгоценностей на полмиллиона рублей как не бывало – выгребли даже простенькие запонки и булавки для галстуков. В воздуховод с трудом протиснулась бы средней откормленности кошка, а других незапертых ходов во внешний мир в лавке не имелось. Эти странности, казалось, должны бы решаться просто: обчистил магазин кто-то из своих. Всего-то выяснить у хозяина, кому он доверял ключи, да опросить пристрастно всех из списка. Но рушило эти стройные умозаключения одно обстоятельство. Все похищенные изделия – авторские. Шейман – ювелир известный и авторитетный, все, сделанное своими длинными пальцами, клеймил буковками «ИШ». Продать такие вещицы не просто сложно, а почти невозможно: после того как полиция возьмется за дело, никто из скупщиков просто не примет товара с клеймом. И свои об этом не знать не могли. И окончательно похоронил версию о «семейном» воре еврейский бог Яхве, что для атеиста Свиридова было прямо-таки ударом под дых: комплект ключей от входных дверей был всего один – у самого Шеймана! Хозяин всегда сам отпирал лавку по утрам и закрывал замки вечером. Ключи держал при себе, не доверяя ни жене, ни сыновьям, Лейбу и Меиру, ни молодому Эзре Симоновичу. И по субботам лавка не работала – шаббат! Все, баста! Круг замкнулся. Либо Шейман сам себя ограбил, либо вор был бестелесным духом. Но, как известно, духам материальные ценности ни к чему, да и перетаскать их через замочную скважину тоже не получилось бы. На окнах решетки, стекла и рамы целы, да и та самая отдушина с обеих сторон затянута частой сеткой, тоже нетронутой. Оставалось подозревать хозяина.
Александр Павлович решительно отложил протокол, захлопнул папку и зычно гаркнул:
– Дежурный! – У просунувшейся в дверь головы в фуражке спросил: – Явился ювелир? Заводи!



