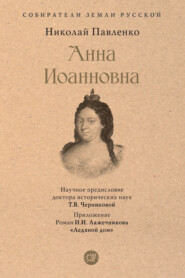
Полная версия:
Анна Иоанновна
Бирон после смерти Головкина в 1734 году пытался найти ему замену в лице человека, который не только информировал бы его, Бирона, о делах Кабинета, но и представлял бы в нем его интересы, был способен иметь собственное мнение и упорно защищал бы его. Таким человеком, по мнению Бирона, мог стать П. И. Ягужинский, и он, вопреки желанию Остермана, 28 апреля 1735 года был введен в состав Кабинета министров.
Необходимость создания противовеса Остерману вынудила Бирона забыть об инциденте, происшедшем в 1731 году, когда Ягужинский, находясь в гостях у обер-камергера, по словам Манштейна, «выпив лишнее, не удержался и насказал ему грубостей. Ссора дошла до того, что Ягужинский вынул уже шпагу против хозяина дома; их разняли, и Ягужинского отвезли домой». Если бы подобный поступок совершил кто другой, ему было бы не миновать опалы, но императрица еще помнила об оказанных ей услугах Ягужинским в 1730 году и ограничилась выговором дебоширу.
В своем выборе Бирон ошибся: Ягужинский к 1736 году утратил качества, которыми обладал ранее, – энергичность, твердость воли, настойчивость, честолюбие. Вероятно, его энергии доставало на то, чтобы держать в курсе дела своего покровителя, но не хватало на то, чтобы вникать во все детали работы правительственного механизма и противостоять Остерману. Во всяком случае, в делах Кабинета отсутствуют следы его противоборства с Остерманом; он не высказывал своего особого мнения, противоположного мнению Остермана, и выполнял такую же пассивную роль, как и Черкасский. К тому же должность кабинет-министра Павел Иванович занимал только несколько месяцев – в апреле 1736 года он скончался на 53-м году жизни. В начале февраля он уже был тяжело болен[158].
Подлинным противовесом Остерману стал назначенный 3 апреля 1738 года новый клеврет Бирона – А. П. Волынский, личность, бесспорно, столь же талантливая, как и наделенная множеством пороков. Он сумел привлечь на свою сторону Черкасского, и делопроизводство Кабинета министров стало регистрировать либо особые мнения, подписанные Волынским и Черкасским, либо несогласие с их мнением Остермана. Волынский, как мы убедимся в дальнейшем, не довольствовался ролью ставленника Бирона, угодничеством завоевал доверие императрицы и в своих честолюбивых замыслах был готов оттеснить от кормила правления не только Остермана, но и всемогущего фаворита императрицы Бирона.

Якоби Валерий Иванович.
А.П. Волынский на заседании кабинета министров. 1875 г.
Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Омск
Артемий Петрович явно переоценил свои силы, он уступал Остерману в способностях к придворным интригам, и последний руками Бирона не только сумел убрать опасного соперника, но и подвести его к эшафоту.
Кабинет министров вновь действовал в составе двух человек, правда недолго, Бирон подобрал нового ставленника – А. П. Бестужева-Рюмина, личность весьма сомнительных нравственных качеств. О свойствах его натуры Шетарди писал: «Он настолько тщеславен, что не пожелает играть такую же роль, как князь Черкасский». А в депеше Шетарди от 5 августа 1740 года читаем: «Бестужев, судя по тому, что думают о нем многие, один из людей, не признающих никакой узды, сдерживающей людские пороки; поэтому большинство убеждено, что он кончит трагически, как и его предшественники. Полагают, кроме того, что Бестужев скорее будет подчиняться влечению гнева, нежели долгу признательности»[159].
Сведения, которыми располагал Шетарди, оказались ошибочными – Бестужев после смерти Анны Иоанновны стал одним из организаторов процедуры провозглашения Бирона регентом: убедил вельмож обратиться к нему с просьбой согласиться с их доводами принять регентство.
Итак, мы видим, что на протяжении десятилетнего существования Кабинета только два из трех министров постоянно участвовали в его работе. Место третьего министра не менее шести лет из десяти оставалось вакантным, его последовательно занимали Головкин, Ягужинский, Волынский, Бестужев-Рюмин. Иными словами, создавалась благоприятная обстановка для хозяйничанья в нем Остермана, руководящего под покровом Кабинета министров всеми сферами деятельности правительства.
Обратимся к ответу на другой вопрос: как формировалась компетенция Кабинета министров? В докладе императрице Елизавете Петровне упоминавшаяся выше комиссия не находила существенных различий между Кабинетом министров и предшествовавшим ему Верховным тайным советом: «Хотя имена разные, а действо почти одно с обоих было»[160].
Между тем в деталях эта оценка требует значительных уточнений, относящихся прежде всего к определению компетенции обоих учреждений.
Права и обязанности Верховного тайного совета были очерчены тремя указами. Учредительный указ 6 февраля 1726 года определял обязанности создаваемого учреждения в самом общем виде – он возникал «при дворе нашем как для внешних, так и для внутренних государственных важных дел, в котором мы сами будем присутствовать». Второй нормативный акт, известный под названием «Мнение не в указ о новом учрежденном Тайном совете», составленный самими членами «нового учреждения», в 13 пунктах раскрывает его права и обязанности, а также место в правительственном механизме. Верховный тайный совет учреждался «для облегчения ее величества в тяжком бремени правления». «Мнение не в указ…» определял дела, подлежавшие рассмотрению в Верховном тайном совете, в которых «есть немалый труд»: по этим делам министры дают «тайные советы» прежде всего по вопросам внешней политики, а также по делам, которые могла решить только императрица, то есть не имевшим прецедентов. Три первейшие коллегии (Иностранная, Военная и Морская) подчиняются не Сенату, а Верховному тайному совету. Сам Сенат переводили из положения Правительствующего в разряд Высокого, подчинявшегося Верховному тайному совету. «Мнение не в указ…» определял и дни заседаний совета: внутренние дела надлежало рассматривать по средам, внешние – по пятницам. Однако «когда случится много дел», то назначается чрезвычайный съезд. Определен также порядок делопроизводства.
Третий указ, обнародованный в 1727 году, вносит одно уточнение в компетенцию Верховного тайного совета, как бы отвергавшую присвоенную ему «Мнением не в указ…» функцию контроля за законодательством: «Никаким указам прежде не выходить, пока они в Верховном тайном совете совершенно не состоялись, протоколы не закрепились (не подписаны. – Н. П.) и ее величеству для всемилостивейшей апробации прочтены не будут и потом могут быть закреплены и разосланы действительным статским советником Степановым» (секретарем Верховного тайного совета. – Н. П.). Указ 1727 года еще раз напоминал: Верховный тайный совет должен выполнять обязанности совещательного органа, он учрежден «при боку нашем не для чего иного, только дабы оной в сем тяжком бремени правительства во всех государственных делах верными своими советами и бесстрастным объявлением мнений своих нам вспоможение и облегчение учинил и тако все дела по довольном зрелом рассуждении от нас решены и их тому отправлено быть могли».
В этой пространной формуле обращают внимание на два «ударных» положения… «при боку нашем» и «своими советами и бесстрастным объявлением мнений». Оба положения подчеркивают значение Верховного тайного совета как совещательного органа и ограничивают его роль подачей советов.
Ничего подобного нет в законодательстве о Кабинете министров. В единственном указе 10 ноября 1731 года, расплывчатом и аморфном, сформулирована цель создания Кабинета министров: «Для лучшего и порядочнейшего отправления всех государственных дел к собственному нашему всемилостивейшему решению подлежащих и ради пользы государственной и верных наших подданных»[161].
В учредительном указе не расшифрованы ни права, ни обязанности нового учреждения, не определено и его место в структуре государственного аппарата, в частности его отношение к Сенату. Вряд ли опытный делец Остерман допустил такую элементарную оплошность случайно. Думается, это было сознательное умолчание, ибо раскрытие компетенции нового учреждения и его отношение к Сенату означало возврат к практике Верховного тайного совета о низведении Сената в ранг Высокого, то есть возвращение к практике, осужденной манифестом 4 марта 1730 года. Между тем манифест сохранял за Сенатом звание Правительствующего, чем формально устанавливал своего рода двоевластие: юридически высшими правительственными учреждениями являлись и Сенат, и Кабинет министров, грань между ними отсутствовала. В этом формальном двоевластии отразилась манера Остермана выходить из тупикового положения: действовать осторожно, постепенно подчиняя Сенат Кабинету министров, лишая противников возможности упреков в возрождении осужденной системы.
Роль Остермана в этой системе определялась не только его деловыми качествами, отсутствием в составе Кабинета личностей с беспредельным честолюбием, за исключением А. П. Волынского, но и неумением и нежеланием императрицы управлять государством.
Принято делить историю Кабинета министров на два этапа. Первый из них продолжался со времени его учреждения 10 ноября 1731 года до указа 9 июня 1735 года, приравнивавшего подписи трех кабинет-министров к именному указу[162]. Не отрицая правильности этого деления, все же следует отметить наличие большего количества этапов на пути самоотстранения императрицы от дел. Первый, протяженностью в пару месяцев, отличался присутствием императрицы на заседаниях Кабинета министров: в ноябре она навестила Кабинет министров 7 раз, а в декабре и того больше – 19. Впрочем, с самого возникновения Кабинета министров было положено начало хождения министров к императрице, а уже с января 1732 года, то есть со времени переезда двора из Москвы в Петербург, посещение покоев Анны Иоанновны стало обычной практикой ее общения с первыми вельможами государства. Из этого можно сделать вывод, что присутствие императрицы на заседаниях Кабинета ее утомляло, было непосильной обузой, от которой она освободилась слушанием докладов и подписанием указов, а также подготовленных резолюций. К тому же присутствие императрицы не было необходимостью – документы Кабинета не отметили ее законодательной инициативы либо замечаний по обсуждаемым вопросам. Следовательно, указу 9 июня 1735 года предшествовала практика отстранения Анны Иоанновны от участия в делах.
Эта линия поведения императрицы продолжалась и после 1735 года. Она отмечена сокращением времени ее занятий делами, узаконенными двумя указами – от 11 июля и 7 декабря 1738 года, объявленными Волынским Кабинету министров. Первый из них извещал министров об отъезде императрицы из Петербурга в Петергоф «для своего увеселения и покоя». Поэтому министрам запрещалось тревожить ее делами, а поскольку им «дана полная мочь», то разрешалось доносить только о делах, «которые они сами решить не могут».
Второй указ устанавливал для докладов министров три дня в неделю, причем министров указ обязывал являться к ней с указами и резолюциями, ими подписанными, что освобождало ее от слушания докладов, и она, обнаружив три подписи, ставила свою: «Анна»[163].
Характеризуя деятельность Кабинета министров, откажемся от обстоятельного ее изложения – это будет весьма скучно для массового читателя, а приведем слова кабинет-министра А. П. Волынского, который как-то заявил, имея в виду себя и своих коллег: «Мы натащили на себя много дел и не надлежащих нам». Комиссия, составлявшая доклад для Елизаветы Петровны, почти дословно повторила наблюдение Волынского: «Кабинет-министры натащили на себя много дел и не надлежащих им».
Обе оценки бесспорны: Кабинет министров нередко на своих заседаниях наряду с вопросами государственного масштаба обсуждал такие, которые могли решить Сенат и даже коллегии. Отчасти Кабинет стал жертвой собственной нераспорядительности – отсутствие актов, определявших его функции; отчасти вкоренившейся в сознание населения веры в справедливость решений самой высокой инстанции.
Мы не станем перечислять множество важных вопросов, обсуждавшихся на заседаниях Кабинета министров, а ограничимся констатацией пестроты, разномасштабности и в известной мере случайности повестки дня его заседаний.
Так, к войне за польское наследство, как к важному внешнеполитическому акту, было приковано внимание Кабинета министров на протяжении всей акции, от подготовки к вторжению до выяснения причин, как удалось Станиславу Лещинскому бежать из Данцига. Двор проявлял интерес не только к осаде Данцига, но и высказывал свои сомнения относительно обстоятельств успешного бегства короля из осажденного города. 6 июня 1734 года был отправлен рескрипт командовавшему русскими войсками фельдмаршалу Миниху, подписанный императрицей, но, конечно же, составленный Остерманом, с выражением сомнения и подозрительности: «Весьма невероятно, чтоб город или магистрат оного о таком уходе не ведал». 24 июля Кабинет даже высказал Миниху недовольство результатами деятельности комиссии, учрежденной для следствия о бегстве Лещинского и отсутствии на этот счет донесений фельдмаршала: «Без того быть невозможно, чтоб у него, Станислава, не токмо при нем, во Гданске, но и в других местах не было довольно скарбу, вещей и пожитков». Видимо, у Кабинета министров было подозрение относительно причастности Миниха к бегству короля и стремлению последнего замять дело, ибо 4 августа Кабинет вновь напоминал: «Ожидаем от вас обстоятельного известия… об уходе из Гданска Лещинского»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
РА. 1887. № 10. С. 180, 181.
2
Семевский М. И. Царица Прасковья // Тайная служба Петра I. Минск, 1992. С. 45, 54, 71–84.
3
Корб И.-Г. Дневник путешествия в Московию в 1698 и 1699 г. СПб., 1906. С. 158.
4
Юст Юль. Дневник. М., 1899. С. 96.
5
Юст Юль. Дневник. М., 1899. С. 256–263.
6
РИО. Т. 50. СПб., 1885. С. 401.
7
Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. 2. М., 1862. С. 41, 42.
8
Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. 2. М., 1862. С. 52, 53, 123, 124, 139.
9
РС. 1884. № 11. С. 375–380.
10
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IX. М., 1993. С. 216.
11
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IX. М., 1993. Кн. X. М., 1993. С. 130.
12
Письма русских государей… С. 118, 130, 142, 143.
13
Письма русских государей… С. 214, 224, 249, 252, 254, 259.
14
РИО. Т. 66. СПб., 1889. С. 71, 115.
15
РИО. Т. 75. СПб., 1891. С. 447.
16
Осмнадцатый век. Кн. 3. М., 1869. С. 27.
17
РС. 1909. № 1. С. 200. 5РИО. Т. 66. С. 19.
18
РИО. Т. 66. С. 19.
19
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 77.
20
РС. 1873. Т. VIII. С. 39.
21
Феофан Прокопович. История об избрании на престол Анны Иоанновны // Сын отечества. Ч. 184. № 5. СПб., 1873. С. 31, 32.
22
РИО. Т. 66. С. 5.
23
Щербатов М. М. Соч. Т. 2. СПб., 1898. С. 178, 179.
24
РС. 1873. Т. VIII. С. 38.
25
РИО. Т. 66. С. 28.
26
Осмнадцатый век. Кн. 2. М., 1869. С. 183, 188, 190, 193.
27
РИО. Т. 75. С. 429.
28
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 191, 192.
29
РИО. Т. 66. С. 158, 159.
30
ЧОИДР. 1865. Кн. 3. С. 37–40; Осмнадцатый век. Кн. 2. С. 197, 151.
31
РС. 1909. № 1. С. 210.
32
РА. 1866. Т. I. С. 2.
33
РИО. Т. 75. С. 464.
34
Корсаков Д. А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. Казань, 1880. С. 4, 5, 17, 18.
35
Безвременье и временщики. Л., 1991. С. 100.
36
РИО. Т. 81. СПб., 1892. С. 169.
37
Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 122.
38
Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 43, 33.
39
РИО. Т. 5. СПб., 1870. С. 349–352.
40
Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 36, 37.
41
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 199.
42
РИО. Т. 5. С. 356.
43
РИО. Т. 5. С. 355.
44
Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 50, 55.
45
Источниковедческие работы Тамбовского педагогического института. Тамбов, 1971. С. 73.
46
Юхт А. И. Государственная деятельность В. Н. Татищева в 20-х – начале 30-х годов ХVIII в. М., 1985. С. 274, 275.
47
РИО. Т. 66. С. 136.
48
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 211.
49
Ученые записки Тамбовского пединститута. Вып. 15. Тамбов, 1957. С. 226–231.
50
ПСЗ. Т. VII. № 5030.
51
Д. А. Корсаков. Указ. соч. С. 158–161.
52
Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 184–188; Юхт А. И. Указ. соч. С. 282–289; Источниковедческие работы Тамбовского пединститута. Вып. I. Тамбов. 1979. С. 67–103.
53
Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 184–188; Юхт А. И. Указ. соч. С. 282–289; Источниковедческие работы Тамбовского пединститута. Вып. I. Тамбов. 1979. С. 67–103.
54
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 213.
55
Манштейн Х. Г. Записки о России. СПб., 1875. С. 25.
56
РС. 1909. № 2. С. 288; Соловьев С. М. Указ. соч. С. 215.
57
РС. 1909. № 2. С. 292.
58
РС. 1909. № 3. С. 548; Осмнадцатый век. Кн. 3. С. 62.
59
ПСЗ. Т. VIII. № 265.
60
Соловьев С. М. Указ. соч. С. 203.
61
РИО. Т. 66. С. 157, 158.
62
С. М. Соловьев. Указ. соч. С. 211.
63
РГАДА. Госархив. Разряд VI. Д. 276. Ч. 2. Л. 38.
64
Феофан Прокопович. Слова и речи. Ч. 3. СПб., 1769. С. 48, 53, 146, 152, 158, 188 и др.
65
ПСЗ. Т. VIII. № 5916; Т. IX. № 6647; Т. X. № 7151.
66
РИО. Т. 66. С. 182.
67
Безвременье и временщики. С. 210.
68
ЧОИДР. 1867. Кн. 3. С. 59.
69
Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны. СПб., 1997. С. 91, 92.
70
Манштейн Х. Г. Записки о России. С. 194.
71
РИО. Т. 75. С. 240.
72
Безвременье и временщики. С. 58, 59.
73
Там же. С. 262; Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII в. Казань, 1898. С. 364.
74
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 264.
75
ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 135, 136, 160, 173, 177, 224, X.
76
03. 1873. № 11. С. 9.
77
ПСЗ. Т. X. № 7819.
78
РГАДА. Госархив. Разряд IX. Оп. 5. Д. 24. Л. 5, 6.
79
Там же. Разряд VI. Д. 252. Л. И, 13, 18, 20 и др.
80
РИО. Т. 126. С. 594; Т. 130. Юрьев, 1909. С. 41.
81
ПСЗ. Т. XI. № 8010; Т. X. № 7580; РИО. Т. 104. С. 43; РИО. Т. 111.
82
РГАДА. Госархив. Разряд IX. Оп. 5. Д. 22. Л. 5, 6.
83
РИО. Т. 111. С. 41, 42.
84
Там же. С. 58, 59; ПСЗ. Т. IX. № 7009.
85
РГАДА. Госархив. Разряд IX. Оп. 5. Д. 22. Л. 6.
86
Соловьев С. М. Указ. соч. Т. X. С. 643, 644.
87
ПСЗ. Т. IX. № 6753.
88
РА. 1871. № 2. С. 037–070.
89
ЧОИДР. 1878. Кн. I. С. 136.
90
РИО. Т. 114. С. 351–354.
91
Готье Ю. В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. Т. I. М., 1913. С. 138.
92
РГАДА. Ф. Кабинета министров 1735 г. Д. 4.
93
Там же. 1736 г. Д. 4. Л. 4, 8.
94
РИО. Т. 81. С. 221, 222.
95
Пекарский П. Маркиз де да Шетарди в России в 1740–1742 годах. СПб., 1862. С. 1.
96
Миних Б. Х. Записки. С. 63.
97
РИО. Т. 76. С. 129.
98
РИО. Т. 81. С. 221.
99
РИО. Т. 76. С. 129.
100
Миних Э. Россия и русский двор в первой половине XVIII века. СПб., 1891. С. 94.
101
Анисимов Е. В. Россия без Петра. СПб., 1994. С. 236, 237.
102
Пекарский П. Указ. соч. С. 50, 51; РГАДА. Госархив. Разряд VII. Д. 444. Л. 59.
103
РИО. Т. 80. С. 442.
104
Безвременье и временщики. С. 61.
105
Русская беседа. 1860. № 2. С. 197, 201, 202.
106
Манштейн Х. Г. Указ. соч. С. 32.
107
Шаховской Л. Записки. СПб., 1872. С. 5, 6.
108
ИВ. 1893. № 9. С. 841, 842.
109
РИО. Т. 80. С. 361, 416, 449.
110
РИО. Т. 61. С. 191.
111
РИО. Т. 5. С. 353, 374.
112
РИО. Т. 76. С. 102.
113
Пекарский П. Указ. соч. С. 2, 3.
114
РГАДА. Госархив. Разряд VI. Д. 321. Ч. I. Л. 8–11; ИВ. 1884. № 9. С. 611.
115
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. X. С. 301, 302.
116
РИО. Т. 81. С. 308.
117
Голиков И. И. Деяния императора Петра Великого. Т. 10. М., 1839. С. 87.
118
Хмыров М. Фельдцейхмейстерство графа Миниха // Записки фельдмаршала графа Миниха. С. 231, 318.
119
РИО. Т. 66. С. 507.



