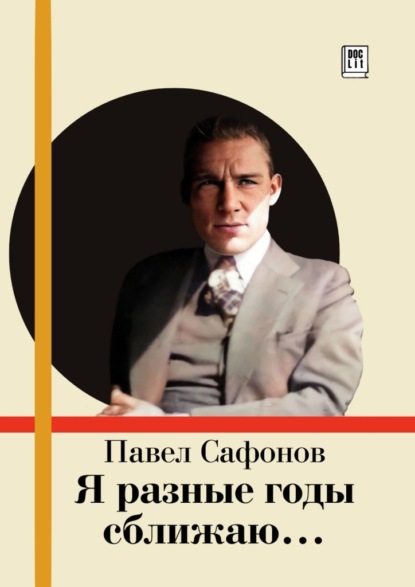
Полная версия:
Я разные годы сближаю…
Пришлось делать резьбу… трёхгранным напильником, предварительно разметив её шаг на болтах белой ниткой. Конечно, это был жуткий примитивизм. На нарезку одного болта вместо нескольких минут уходило несколько часов. О качестве, разумеется, и говорить не приходится. Но что нам оставалось делать? Шли на этот, казалось бы, нелепый, поистине египетский труд, ибо до зарезу нужен был электрический ток. И мы его дали.
Теперь думаю, что какой бы ничтожной ни показалась эта работа с высоты современного размаха и уровня техники, но без этих примитивно нарезанных болтов, без жившего тогда в нас духа дерзкого поиска, видимо, и наш завод строился бы и развивался значительно медленнее.
У читателя может возникнуть вопрос, почему я всё время пишу о стройке на Дзёмгах и почти ничего о другой, в селе Пермском, где закладывался судостроительный завод? Раньше эти две стройки, ставшие центрами двух основных районов Комсомольска, действительно существовали почти независимо друг от друга, хотя их разделяло всего 7—8 километров. Между строительными площадками пролегала глухая болотистая тайга, протекала весьма своенравная речка Силинка, и при тех скудных средствах передвижения, которыми мы тогда располагали, общение было весьма затруднено. Да в этом и не возникало особой необходимости, так как даже партийные и комсомольские организации обеих строек подчинялись непосредственно краевым организациям. А органы советской власти, которые могли бы как-то объединить территориально наши стройки, на местах ещё не был созданы.
Мы на Дзёмгах, конечно, знали, что в те первые месяцы 1932 года многотысячный коллектив Дальпромстроя – так называлось тогда строительство судостроительного завода в Пермском – по составу был таким же, как и наш, – в основном комсомольским, переживал те же трудности, решал схожие проблемы. И даже получалось, что при решении аналогичных строительных проблем они применяли те же приёмы, что и мы. Например, они пришли к тем же методам рубки и корчёвки леса.
Дальпромстроевцы тоже вначале были нацелены на слишком короткие сроки постройки своего завода, и так же, как и мы, пережили потом довольно тяжёлое разочарование. Размах работ на Дальпромстрое был покрупнее нашего и коллектив побольше. Комсомольцы там на месяц раньше нашего провели свою первую конференцию, избрали крепкий комитет (в него вошли С. Поликарпов, И. Сидоренко, С. Шефтелевич, М. Эрлих, А. Шанауров и другие) и по-хозяйски взяли дела стройки в свои руки.
На Дальпромстрое уже выходила своя многотиражная газета, называвшаяся «Амурский ударник», были и свои специфические проблемы, и интереснейшие события. Когда автономия наших первых двух строек будет отходить в прошлое, обе станут первоосновой создания единого города, носящего имя комсомола. Но это будет позже, а пока нас разделяла бурная речка Силинка. По обе её стороны комсомольцы под руководством коммунистов вели настоящий штурм вековой тайги.
Стихия вносит свои поправки
Надвигалась суровая дальневосточная зима. Было очевидно, что встречаем мы её недостаточно подготовленными. К тому же осенью произошло большое наводнение. Уровень воды в Амуре поднялся на несколько метров выше обычного для этого времени года. Значительная часть площадки, где проектировалось строительство корпусов завода, и прилегающая территория были затоплены. Это означало, что площадку завода нужно переносить подальше от Амура, и сроки строительства удлиняются. Но и без того стало ясно, что первоначально намеченный план сооружения завода был нереален из-за отсутствия надёжных транспортных связей, необходимой техники, материалов и ограниченности ресурсов рабочей силы. Сейчас, когда воскрешаешь в памяти картину положения того времени, то многое кажется невероятным.
Оставались недели до того, как покроется льдом Амур и прекратится единственная транспортная связь – пароходное сообщение. Мы будем на всю долгую зиму отрезаны от «Большой земли». Между тем жилье должным образом не подготовлено, бараки не утеплены, продуктов завезено мало, да и те негде хранить…
И снова некоторые ребята, потеряв веру, дрогнули, спасовали и с последними пароходами, уходившими в Хабаровск, дезертировали со стройки. Их было немного, но бегство вызывало тяжёлое чувство у всех. И до этого каждый такой случай оказывался для нас полной неожиданностью, но особенно горько было теперь: уходили те, которые уже прошли первое испытание, хорошо показали себя на стройке, стали нашими товарищами.
Мы выставляли комсомольские посты у пристани, когда приходили пароходы. Однажды вечером у парохода, отплывающего в Хабаровск, мы с Костей Короленко заметили двоих ребят с рюкзаками. Один из них, Геннадий Соловьев, – из моей бригады.
– Никак собрался назад, Гена?
– А по мне девчата на «Большой земле» плачут, – нагловато-напускным тоном отвечал он. Я поразился – таким его ни разу не видел.
Потеря Гены Соловьева казалась нам особенно ощутимой: это был первоклассный гитарист. Послушать его песни приходили к нашему костру изо всех бригад. Всё снимала его могущественная гитара: тоску по родным, усталость, скуку.
Гитары с ним почему-то не было.
– Что же гитару-то не взял?
– Оставляю вам. Осваивайте! – равнодушно махнул он рукой. – А я и так не заскучаю.
Трудно было сдерживаться. Столько вместе, столько уже сделано, спето, а чужой, выходит, человек.
– Но ведь вчера мог? А позавчера обязательство брал, с порезанной рукой вкалывал! Что же ты, Гена…
Не укладывалось в голове: ведь не симулянт, не болен, ехал сюда из Ленинграда с восторгом. И вот перед нами другой, незнакомый вовсе человек… Соловьев вдруг стал злым и откровенным.
– Да мне вот этими руками, – и показывал нам руки. – Да грешно мне эту чёртову тайгу корчевать. Можете вы это понять?! Да мне, может, консерватория судьбой предназначена! А я тут, в тайге, да? Комаров кормить? Да катись вся эта ваша стройка!..
Признаться, в ту минуту мы растерялись. В том, что у Генки талант, никто не сомневался. И лишь позднее вспомнилось это противопоставление в его словах: мой талант – ваша стройка.
Короленко закончил разговор резко:
– Нет, братишка, это называется предательством! – В сердцах махнул рукой, и добавил совсем тихо: – Да ты же сам об этом пожалеешь.
Так в суровую осень 1932 года в преддверии первой, самой тяжёлой зимы, произошёл ещё один жестокий отсев из нашей среды тех, кто не готов был принять и вынести все испытания, через которые суждено было пройти первостроителям. Тогда-то я впервые ощутил великое воспитательное значение нашей стройки. Позднее пришла точно сформулированная мысль: мы не только строили завод и город, мы также себя строили.
Основная масса комсомольцев встретила новые обстоятельства без паники, мобилизовала всю свою силу воли и выдержку на преодоление предстоящих трудностей, поняв, что выполнить нашу задачу можем только мы, и пока подкреплений ждать неоткуда. Укрепиться в этом нам помогла небольшая, как я уже говорил, но крепкая партийная организация с её комсомольскими вожаками, такими, как Саша Михайлов – секретарь комитета комсомола, Костя Короленко, Иван Аничков, Николай Бычков и другими.
Именно в эти тяжёлые осенние дни Сергея Смирнова, плотника, тоже ленинградца, и меня приняли кандидатами в члены ВКП (б).4 И с тех пор я считал себя коммунистом, безо всяких скидок. (Забегая вперёд, отмечу, что хотя меня приняли с шестимесячным кандидатским стажем, моё партийное членство было оформлено только в 1939 году. Тому причиной были прошедшие вскоре чистка партийных рядов, обмен партийных документов, когда приём в партию был приостановлен, и далее мои командировки в Москву и Америку.)
Говорю о своих товарищах – молодых коммунистах – и первым опять вспоминаю Костю Короленко, с которого я во многом старался брать пример. Не могу ни вспомнить, ни представить Костю грустным, опустившим руки. Внешне он вроде спокоен, даже медлителен, но это его состояние можно было сравнить с состоянием сжатой пружины, способной быстро и неожиданно развернуться.
Вот такой эпизод.
В сентябре 1932 года к нам по Амуру стали сплавлять лес—кругляк в плотах. Мы складывали бревна на берегу в огромные штабеля. Неподалёку находились временные склады продовольствия и некоторых строительных материалов. Почти у самой воды сложены ящики, мешки и тюки, только что сгруженные с парохода. Едва мы расположились на ночлег, как в барак влетел Костя:
– Полундра, братишки! Свистать всех наверх! – закричал он и пронзительно свистнул.
Все вскочили со своих нар и в мгновение ока оказались на берегу, благо не надо было одеваться, так как спали в основном одетыми. Амур преобразился, мы никогда не видели его таким сердитым. Сильный ветер вспенил крутую волну. Уровень воды быстро поднимался, уже вплотную подступив к складам и снятым с парохода грузам. Признаюсь, ребята запаниковали.
И вот тут-то Костя, яростный и хладнокровный, взял команду на себя.
– Вставайте в цепочку!
Прежде всего он организовал спасение только что прибывших продуктов. Другую группу возглавил сам, увлёк на спасение стройматериалов.
В ту ночь он был всюду. По грудь в холодной воде – выкатывает оттуда свалившиеся бревна. На берегу – с бревном на плече. На штабеле, как на капитанском мостике, – отдавая команды. И поднял, и организовал он добровольцев раньше, чем весть о бедствии облетела все бараки. Ещё не раз мне пришлось убедиться, что лучше всего Костя действует именно в таких критических ситуациях.
Секретарь комитета комсомола Саша Михайлов был его полной противоположностью. Саша – это трезвая, глубокая мысль, это умение анализировать «сегодня» и заглядывать в день завтрашний, это своего рода генератор идей. Но вряд ли на реализацию хотя бы одной из них он смог бы поднять ребят. Тут нужен был Костя – человек действия. «Лёд и пламень», – говорили о них, и в работе они хорошо дополняли друг друга. Сходны они были в одном – в твёрдости своих убеждений, и уж если спорили между собой Михайлов и Короленко – остальные воздерживались: возникало ощущение, что правы оба.
(В канун 50-летия Комсомольска из Ленинграда пришла печальная весть: К. И. Короленко скончался в возрасте 70 лет. До последнего дня своей жизни он работал на одном из ленинградских судостроительных заводов. Во время Отечественной войны воевал на Балтике, был заместителем командира корабля по политчасти. Всю жизнь влюбленный в технику, он, видимо, и в этой должности много уделял ей внимания – в одном из писем, дошедших до меня в первые месяцы войны, он в шутку назвал себя «политмехаником».
Тогда же мне удалось навести справки о судьбе Саши Михайлова. Во время войны он выполнял в тылу врага в Прибалтике особое задание и погиб там трагически).
…Зима была морозная, метельная. Из-за этого порой останавливались работы на стройке и люди оставались в бараках подле жестяных печек «буржуек». К середине зимы стало ясно, что продуктов до конца зимовки не хватит. Пришлось экономить, существенно снизить нормы питания.
Начала свирепствовать цинга. Почти каждый из нас испытал на себе эту отвратительную болезнь. Уже во второй её стадии десны сильно опухали и кровоточили, а всё тело, особенно ноги, покрывались тёмными пятнами и опухолями. В третьей стадии наступала диспропорция тела, и больной практически уже не мог передвигаться. Несколько бараков пришлось превратить в цинготные больницы. Но у нас тогда не было ни опыта, ни эффективных средств борьбы с цингой. Каких отличных ребят пришлось потерять! В эту зиму безжалостная болезнь вырвала из наших рядов таких замечательных парней, как Четвертак, Москалёв, Гаврилов и другие.
Навсегда запомнились мне похороны Гаврилова. Его знала вся стройка. Коренастый, крепко сложенный, обладавший большой физической силой и выносливостью, добродушный и всегда неунывающий, он был хорошим, авторитетным бригадиром одной из лучших бригад стройки. Когда страшная весть о его кончине облетела стройку, не хотелось верить, что этот богатырь был побеждён цингой. Ещё вчера его навещали ребята, и, хотя цинга у него дошла до последнего предела, он старался быть весёлым, горячо интересовался работой своей бригады, обещал, что скоро выздоровеет, строил планы на будущее.
В день похорон метель крутила как никогда. Ртутный столбик показывал минус 40. Но огромная процессия двигалась за гробом. Шли молча, стиснув зубы. Дробный стук падающих в могилу комьев мёрзлой земли – как печальная барабанная дробь. Николай Бычков, ближайший друг Гаврилова и во многом, даже внешне, очень похожий на него, говорит прощальные слова и не выдерживает – плачет. Смотреть на этого мужественного человека нет сил. Смерть Гаврилова долго отдавалась в наших сердцах мучительной болью…
Невероятно трудной была эта первая зима. Из-за мороза и по многим другим причинам строительные работы приостановились. Но вот почувствовалось слабое дыхание весны, и мы с нетерпением стали ждать, когда начнёт вскрываться ото льда Амур, придут первые пароходы с грузами.
Под лучами солнца на опушках леса стали появляться проталины с первой робкой травкой. Вот эта-то травка очень помогла в борьбе с цингой, а некоторым она, пожалуй, спасла жизнь. Цинготники, кто как мог, вылезали на эти проталины и буквально паслись на траве. Они выщипывали её нежные побеги, растирали в ладонях, и эту кашицу сразу проглатывали, ведь из-за поражения дёсен и зубов, из-за опухолей во рту многие не могли жевать. Очень помог против цинги кедровый настой, который готовили в изобилии и в обязательном порядке давали пить в столовых перед едой: никому не отпускалась положенная миска похлёбки или каши, пока он не выпьет большую, граммов на 350, жестяную кружку этого настоя. Всё делалось под строгим контролем представителей общественности и администрации, без всяких скидок.
Наконец наступили дни великой радости. Мощный ледовый покров Амура начал трещать, потом зашевелился, и с оглушительным шумом, ломаясь на куски, образуя огромные нагромождения, медленно, а потом всё убыстряясь, поплыл вниз во всю его величавую ширину, достигающую у Комсомольска двух километров.
Не забыть охватившее нас ликование, когда мы увидели дым парохода, который приближался к нашим берегам по широкой глади Амура, ещё не очистившейся полностью от плавающих по ней ледяных глыб. Наконец пароход, развернувшись, причалил к берегу, и все мы ринулись к трапу. Каково же было наше удивление, огорчение, а затем и негодование, когда мы увидели, что из-за головотяпства снабженцев главным грузом, доставленным на пароходе, было несколько тысяч колес к крестьянским телегам, тогда как на стройке насчитывалось в ту пору не более двух десятков лошадей и, соответственно, столько же телег.
Наша радость встречи первого парохода была сильно омрачена. Вскоре начали подходить другие пароходы, доставившие действительно нужные грузы, и мы стали вспоминать о злосчастных колёсах со смехом…
Меня часто спрашивают: что же помогло нам тогда выстоять? Порой приходится даже слышать: то поколение советской молодёжи было фанатичным. Но первостроители не считали и не считают себя фанатиками. Конечно, охвативший тогда всю страну всеобщий пафос созидания, сама социалистическая новь, сообщения о вводе в строй первых гигантов советской индустрии усиливали наш энтузиазм, вызывали гордость и прилив энергии.
Главной же причиной наших побед, на мой взгляд, было наше чувство высокой личной ответственности за состояние дел и на стройке, и во всём государстве. Мы, двадцатилетние парни, хорошо понимали, что всё находится в наших руках, от нас зависит. Понимали, что являемся участниками принципиально нового строительства: ведь Комсомольск был первой чисто комсомольской стройкой. И за все промахи мы спрашивали с себя. Всё дело в том, что нам доверяли и не баловали излишней опекой. А на основе своего жизненного опыта я убедился, что чем больше мы доверяем людям, особенно молодым, тем ответственнее они относятся к порученному делу.
Начало большой индустрии
1933 год был переломным в строительстве завода, большинство трудностей и неприятных сюрпризов осталось позади.
Работа пошла более организованно и планомерно: шаг за шагом создавалась техническая база для строительства авиазавода – лесозавод, деревообрабатывающие мастерские, кирпичный завод, временная электростанция, механические мастерские.
Полным ходом шли работы и у наших соседей – на Дальпромстрое. 10 декабря 1932 года село Пермское было переименовано в город Комсомольск-на-Амуре, куда вошли и Дзёмги. И мы по обе стороны реки Силинки понемногу начали привыкать к тому, что обе стройки – составные части единого комсомольского города. Но всё же процесс нашего сближения шёл медленно. Летом 1935 года в городе было создано оргбюро крайкома ВЛКСМ в составе И. Минкина, С. Шефтелевича, А. Медведевой, А. Шанаурова, И. Сидоренко и других, а горком ВЛКСМ почти в том же составе мы избрали в январе 1936 года на первой городской конференции ВЛКСМ.
12 июня 1933 года дальпромстроевцы произвели торжественную закладку первого корпуса будущего судостроительного завода. Я был в числе представителей нашей стройки, участвовавших в этих торжествах. По этому случаю в Комсомольск прибыли Амурская военная флотилия и самый почётный наш гость – командующий ОКДВА5 В. К. Блюхер6.
Почётное право закладки первого кирпича в фундамент будущего завода и было предоставлено ему и бригадирам лучших ударных бригад. Эта торжественная церемония сопровождалась продолжительными гудками кораблей Амурской флотилии и пушечными залпами её бортовой артиллерии.

Тем временем я не переставал мечтать о работе по специальности. Не упускал случая, чтобы побывать на пристани, где под навесами стояли пахнущие свежей краской и тавотом новенькие токарные и другие металлообрабатывающие станки.
Об этом моём желании знали главный механик Эремяш и его заместитель Костя Короленко и заверяли, что считают меня первым кандидатом в токари, как только начнётся установка станков.
И вот настал этот радостный день: комитет ВЛКСМ и партком дали согласие на мой переход на работу в отдел главного механика. Костя Короленко сказал, что нужно срочно заняться обработкой трансмиссионных валов, из-за которых задерживается монтаж и пуск лесозавода. Быстро сдавая дела по общепиту своему преемнику, я уже обдумывал, как организовать обработку валов. Ведь длина их была более 6 метров, а самыми большими токарными станками, поступившими на стройку, были станки московского завода имени Свердлова ТН-20 с длиной станин, допускающих обработку деталей до 2,5 метров. Пришлось, как это часто случалось в Комсомольске в первые годы, искать выход из безвыходного положения, мобилизовать смекалку, мудрить, изобретать. Даже Костя, не меньше меня влюбленный в технику, завзятый механик, не представлял себе, как решить эту задачу.
Я рассказал, как в Смольном, перед отправкой нас на Дальний Восток, познакомился с Сашей Ефременко, токарем с Выборгской стороны. Так вот, получив немыслимое задание, я пришёл посоветоваться к нему. Тихий, немногословный, он был из тех незаметных вроде людей, на которых, как говорится, земля держится. Не было, наверное, на свете дела, за которое он не взялся бы, если того потребуют обстоятельства. Мы присели на брёвнышко, закурили. Привыкнув уже понимать друг друга без слов, чертили на песке разные варианты расположения станков, молча прикидывали и так и этак. Решение в итоге было найдено простое – продольно спарить станины двух станков. Помог ленинградский опыт: несколько иначе, но мне уже приходилось обрабатывать детали, по своим размерам выходящие за пределы габаритов станка.
В помощь мне выделили несколько ребят, в том числе моториста Петра Вороничева, отдали под мастерские недостроенный барак. В нём-то, в нескольких десятках шагов от берега Амура, на так называемой «старой площадке» (названной так после переноса площадки под строительство завода), мы начали создавать «зачатки» механизации.
Волоком, по-бурлацки, притащили с берега станки. Вырыли ямы для фундаментов, залили их бетоном и через пару дней, не дав бетону как следует окрепнуть, начали устанавливать станки, добиваясь точной нивелировки станин в одну линию. С заднего станка сняли переднюю и заднюю бабки, но оставили на нём суппорт, соединив перемычкой ходовые винты обоих станков. Таким образом, получился как бы единый станок с двумя суппортами, которыми можно было пользоваться одновременно. Один конец обрабатываемого вала зажимался в патроне передней бабки первого (ведущего) станка, а остальная часть вала поддерживалась несколькими люнетами7, установленными через определённые интервалы по всей длине спаренных станин. Весь этот агрегат приводился в действие пятисильным, довольно капризным керосиновым мотором, которым виртуозно управлял Петя Вороничев.
И вот вся подготовка закончена, установлены в оба суппорта изготовленные нами самими резцы. Петя запускает мотор, включаем сдублированный станок. Попеременно перебегая от одного суппорта к другому, осторожно подвожу к вращающемуся валу резцы, и серебристой лентой начинают виться металлические стружки. Первый работающий станок на стройке! Первая стружка!
Тому, кто не побывал на нашем месте, трудно представить, как мы ликовали тогда, видя в этом какой-то «зародыш» будущего завода, будущей индустрии здесь в далёкой тайге. Я всегда с волнением вспоминаю эти минуты. Недавно о них ещё раз живо напомнили строки письма Петра Вороничева, который работал в Комсомольске до 1938 года, а потом трудился на Людиновском тепловозостроительном заводе.
«Вспомни, Паша, 1933 год, – писал он, – отдел главного механика, руководимый Эремяшем. Мастерские, деревянный барак, два токарных станка, переоборудованных тобой в один для того, чтобы проточить валы для лесозавода, ты тогда был главным в этой работе, я тебе помогал и своим пятисильным керосиновым движком крутил твой агрегат…»
Наш импровизированный агрегат был уже полностью освоен и работал полным ходом, когда на стройку прибыли высокие гости – бывший председатель государственной комиссии, выбиравший место строительства завода, заместитель наркома обороны Я. Б. Гамарник и командующий ОКДВА В. К. Блюхер. Они внимательно знакомились с состоянием дел на стройке. И вот начальник стройки К. Р. Золотарёв привёл гостей показать нашего первенца индустрии. Можно себе представить, с какой гордостью мы с Петром орудовали у своего агрегата, когда гости и сопровождающие их люди обступили его и внимательно наблюдали за нашей работой. Гамарник похлопал меня по плечу и сказал: «Мы ожидаем, что скоро комсомольцы стройки пустят в ход сотни таких станков».
Мелькали дни. Наступала вторая осень. Главный механик Эремяш поручил Косте Короленко и мне создать более солидную механическую мастерскую, которая могла бы не только полностью удовлетворить возросшие нужды стройки, но и послужить базой для развёртывания монтажа оборудования на будущем заводе. Настало время подключить к этому делу и других металлистов, продолжавших трудиться на стройке не по специальности. К нам на подмогу тогда пришли хорошие мастера – мой друг Ефременко, Бойцов, Бычков и другие. Работа закипела.
Деревянное здание мастерской ещё только начали строить там же, на «старой площадке», а мы уже расставляли в нём станки и верстаки. Прежде всего мы добились сооружения крыши, чтобы дожди не мочили станки, и только потом возводились стены. Для начала мы установили около полутора десятка различных металлообрабатывающих станков: токарные, строгальные, сверлильные, болторезный, распиловочный, фрезерный.
И здесь не всё шло гладко.
В ту пору из-за отсутствия силового электроснабжения на стройке нельзя было применять индивидуальные приводы для каждого станка. Поэтому решено было установить общую для всех станков трансмиссию из нескольких валов, подвешенных на кронштейнах к потолочным балкам вдоль станочной группы. А для привода трансмиссии в небольшом моторном отделении, примыкающем к станочному помещению, установили нефтедвигатель мощностью всего в 18 лошадиных сил.
Валы можно было изготовить из имевшегося на стройке круглого стандартного железа, но не было подшипников для них. Тогда родилась идея – сделать их из дерева. Кое-кто ухмылялся по этому поводу, но мы решили на деле доказать, что это выход из положения. Срубили в лесу подходящую берёзу, распилили её на бруски нужных размеров, просушили их на печке в старой нанайской избе (где, кстати, размещался комитет комсомола), затем соединили их попарно болтами и выточили в них отверстия по диаметру вала с масляными канавками. Таким образом получились разъёмные подшипники из двух половинок. Подшипники прокипятили в отработанном машинном масле и оставили в нём на сутки. Затем укрепили их на кронштейнах, изготовленных из полосового железа.
Эти подшипники неплохо работали более года. Тем не менее прибывший на стройку инженер-механик Погорелов ужасно раскритиковал наши деревянные подшипники, назвав такое решение «технически безграмотным». Конечно, обидно было слышать эти слова. На одном из собраний мы задали ему простой вопрос – а как бы он поступил в подобных условиях? Под возмущённые возгласы он ответил, что не разрешил бы пускать в ход станки, пока на стройку не были бы доставлены настоящие подшипники. Выходило, что мы запустили бы в работу станки на целый год позже. Если бы тогда подходили к делу с таких позиций, то, видимо, строили бы завод очень долго!



