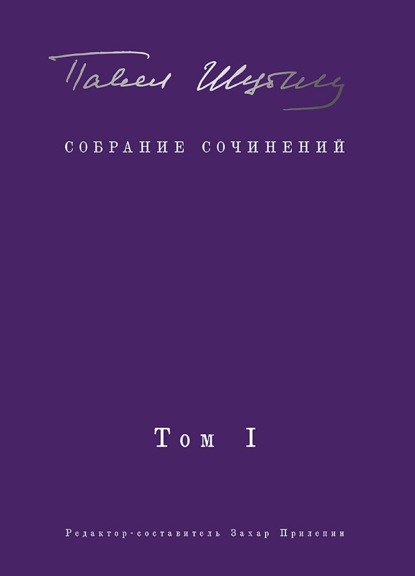
Полная версия:
Собрание сочинений. Том I. Поэтические сборники
«Работали лектории – литературный, музыкальный и др<угие> высококачественные, бесплатные и потому доступные для всех».
«Устраивались встречи с писателями и поэтами. Запомнился вечер стихов Н. Асеева, М. Светлова, И. Уткина. Уткин интересно рассказывал о своей жизни, а одет был так ярко, что в шутку студенты назвали его Индюковым. Были и другие встречи – с Б. Лавреневым, Н. Брауном и др.»
И неожиданно упоминает: «Шубин тоже выступал с чтением своих стихов».
Это были первые его публичные выступления.
Грищинский: «Если разобраться, чем жили мы в те годы, то нужно честно сказать, что жили мечтой. Молодёжь есть молодёжь. Нам хотелось и танцевать, и любить, страдать. Были не прочь и выпить после удачно сданного экзамена».
О герценовском институте Шубин напишет несколько блистательных стихов: то время явно заслуживало самого поэтического к себе отношения.
Даже невзирая на происходившее тогда в стране.
Пожалуй, именно благодаря институту, обучаясь с 1935 по 1939 годы, Шубин в известном смысле «пропустит» пик репрессий. Пребывавший пока ещё вне перипетий литературной и тем более политической жизни, не имевший ни должностей, ни связей, живший в общаге, непрестанно читающий, готовящийся к разнообразным экзаменам, подрабатывавший грузчиком, занимающийся боксом, молодой, истово верящий в социализм, безусловно счастливый – он вернётся к теме репрессий только после войны. Эта тема сама его нагонит.
Тогда же на повестке стояло совсем другое.
Грищинский: «Среди студентов тех лет почти не было равнодушных. Были споры, несогласия, ошибки и заблуждения, но так, чтобы плыть по волнам, таких примеров среди нас не было.
<…> к власти пришёл германский фашизм. А кто не понимал, что фашизм – война!
<…>
К военному обучению все относились спокойно. Как-то получалось, что если не занимаешься оборонной работой, то грош тебе цена как комсомольцу и студенту. Значок “Будь готов к труду и обороне” был таким почётным, что на обладателя смотрели как на орденоносца.
В институте было два больших тира. Один находился в подвальном помещении, второй – на чердаке. Каждый вечер под сводами нижнего и верхнего тиров раздавались резкие хлопки выстрелов. Студенты-осоавиахимовцы под руководством инструкторов терпеливо отрабатывали технику стрельбы из малокалиберных винтовок.
Чтобы стать “Ворошиловским стрелком”, надо было извести не один десяток патронов и основательно потренироваться в наводке. Со специальной вышки начиналась и учёба парашютному спорту. Ринуться вниз с вышки на парашюте должен был уметь каждый студент без исключения. Поэтому парашютныхвышек существовало в городе не менее чем полдесятка».
Шубин, ещё в детстве штурмовавший колокольни, с парашютом прыгал неоднократно. Имел значок ГТО.
«…В расписание наше, кроме обычных предметов, вошло и военное дело. Студенты наизусть изучали уставы, русскую трёхлинейную винтовку, овладевали строем».
И снова о Шубине: «Твёрдый характер и отличная физическая закалка выдвинули Павла и в армии. Он оказался на редкость требовательным помкомвзвода, неумолимым службистом. Едва горн на вышке лагеря проигрывал сигнал “Вста-а-в-а-й!”, как Шубин, носивший в петлицах три треугольничка, врывался в палатку».
(Три треугольника означали старшего сержанта.)
«“Гррыщинский! – рычал вбежавший в палатку Шубин. – А ну вылезай на физзарядку. Ещё раз опоздаешь – получишь два наряда вне очереди!” Я вылезал в трусах, босиком и мчался бегом на плац, покрытый утренней росой. “Вот тебе и товарищ!” – мелькала смешанная с чувством обиды мысль.
Однако “гроза” быстро рассеивалась. Через пару часов, на стрельбище, в ожидании своей очереди я ложился за бугорком подремать. В такие минуты ко мне подходил Пашка и устраивался рядом. Обычно мы говорили о поэзии…»
Шубин предельно серьёзно относился ко всему: учёбе литературной и учёбе военной. Он знал, что это и его личное будущее.
И ещё он чувствовал ответственность перед сокурсниками и преподавателями, что уже прошли то, к чему он себя готовил.
О чём отлично напишет в стихах:
…Но вот этот угрюмый, лобастыйЧеловек,Что за кафедру встал, —Он, тащившийся Нерченским, узкимТрактом,И в двадцать пять, облысев,Он поёт с нами и по-французски,Задыхаясь, читает Мюссе.Что сказать? —Разве в Пинских болотахБыли ночи на отдых добрей,ЕслиВыдержал сотни походов,Там,Под шквальным огнём пулемётов,Под огнём полевых батарей,Томик Пушкина без переплётаВместе с кольтом лежал в кобуре, —Что, романтик?Так – прочь эту патокуТрезвых:Сон от зари до зари;Наплевать нам на трезвость!Гори,Наша звонкая,Наша романтика,Наша молодость, чёрт побери!(«Студенты», 7 ноября 1936)Чьи имена в поэтическом смысле были тогда для Шубина определяющими?
Точно не Маяковский: не был тогда и никогда не будет.
Время от времени назывались в литературоведческом разговоре о Шубине имена Багрицкого и Тихонова. Односельчане вспоминают, что этих поэтов, наезжая домой, он мог декламировать буквально часами. Их влияние безусловно присутствовало, но и оно не стало основным.
Говорят также о влиянии поэтики Есенина на Шубина.
Однако есенинское воздействие сразу, с первых же публикаций Шубина, было преодолено.
Шубин вообще пропустил период эпигонства.
Влияние Есенина было скорей опосредованное – через трёх есенинских в самом широком смысле учеников: Ивана Приблудного, Бориса Корнилова и Павла Васильева.
Иван Приблудный (настоящее имя Яков Петрович Овчаренко) родился в 1905 году в Харьковской губернии, в малороссийской станице, успел застать Гражданскую и повоевать.
Борис Корнилов родился в 1907 году в нижегородском селе.
А Павел Васильев появился на свет в городке Семипалатинской губернии, в казахских степях, в 1910 году (по старому стилю – 23 декабря 1909 года).
Разница у всех троих с Шубиным – в возрасте и происхождении – совсем небольшая, но они первыми коснулись ставших ключевыми и для Шубина тем.
Гражданская война, стройки, эпоха свершений.
А также: полуголодная жизнь провинциальная – которая и горечью наделила, и стала великим даром – ведь до их появления из этих уголков в большую Россию, в её столицы не являлся ни один поэт.
А они явились! Ражие, яркие, все красивые, как на подбор. Цепкие, хвастливые, задорные.
Приблудный публиковался с 1923 года, первую книгу выпустил в 1926-м.
Корнилов начал публиковаться в том же 1923-м и первую книгу выпустил в 28-м.
Васильев публиковался в периодике с 1926-го. Несмотря на то что единственная его прижизненная книга вышла в 1934 году, с 1930-го он присутствовал на страницах самых престижнейших, «центровых» советских журналов и газет, явственно претендуя на звание первого поэта нового поколения.
Получалось в итоге, что к моменту, когда заявил о себе Шубин, каждый из них сначала пережил взлёт, а потом и падение, не всегда, впрочем, заметное для стороннего глаза – в том числе для студентов Герценовского института, которым никто, конечно же, не сообщал, что Васильева арестовали ещё в феврале 1937-го, Приблудного – в апреле того же года, а Корнилова – в ноябре.
Но стихи всех троих Шубин отлично знал, помнил наизусть, носил в сердце. О всех троих он был так или иначе наслышан.
Про Васильева и его хулиганские скандалы писали в центральных газетах.
Корнилов из нижегородской своей деревни в 1926 году приехал в Ленинград и славу приобрёл уже здесь. Шубин мог его видеть на поэтических вечерах и точно был знаком с его первой женой – поэтессой и красавицей Ольгой Берггольц: она публиковалась в журнале «Резец».
Приблудный тоже некоторое время жил и даже учился в Ленинграде, когда перевёлся из Высшего литературно-художественного института в Ленинградский университет – правда, это было задолго до приезда Шубина в город на Неве.
У Приблудного Шубин позаимствовал приём самоиронического отстранения. Когда лирический герой смотрит сам на себя со снисходительной улыбкой, как бы заранее понижая пафос. Тем же умением обладал, хоть и в меньшей степени, Корнилов, но у Приблудного этот приём возведён был в основной: тут, кажется, играло роль ещё и его малороссийское происхождение – сами эти, чуть дурашливые, интонации верхнедонскому Шубину, кстати, вполне себе прилично «размовлявшему», были изначально понятны.
Взгляните, к примеру, на эти вот стихи Шубина:
Это всё же как-то странно:Кто же встанет утром рано,Чтоб извлечь кусок штаниныВ кипятильнике из крана?Кто же, уподобясь гуннам,Спляшет, нашего быстрее,Перед идолом чугунным —Вечнохладной батареей —И, во сне увидев лето,Свирепея на морозе,До упада, до рассветаБудет спорить о Спинозе?Как смогу на свете жить яБез такого общежитья!(«Герценовцам», 1939)И теперь сравните эту интонацию с интонацией (в данном случае уместно сказать – с походочкой эдакой, враскачку, с папироской, зажатой в углу рта) Ивана Приблудного:
Монреаль, как вам известно(а известно это всем), —Живописнейшее местоДля эскизов и поэм.Он и в фауне и флореЛучше Африк и Флорид;Тут и горы, здесь и море,Синь и зелень, и гранит.Если б был я Тицианом,Посетив эти места, —На Венеру с толстым станомЯ не тратил бы холста.(«Случай в Монреале», 1927)Или его же:
Например: вчера, недаром,Репортера суетливей,Копошился во мне Байрон,С «Чайльд-Гарольдом» в перспективе,Жоржи Занд во мне галделиМягко, женственно, цветисто,И высказывался ШеллиПротив империалистов.И сейчас во мне томитсяЧто-то вроде «Илиады»,Но едва начнёт родиться,Как стеной встают преграды.И слегка коснувшись лиры,Пропадают, бесталанны,И Гомеры, и Шекспиры,И Гюи деМопассаны…(«Размышления у чужого парадного подъезда», 1928)Оба эти стихотворения из второй книги Ивана Приблудного «С добрым утром» (1931), которая (как вспоминала жена Шубина – Галина) имелась в его библиотеке.
Но ещё больше дали Шубину Васильев и Корнилов.
У них общая моторика стиха – с её повествовательностью и некоторым многословием: когда краски как бы набрасываются с размаху на холст, когда авторы «вытягивают» не по одной словесной рыбе, а сразу сетью – авось, поймается и золотая: если широко закинуть, водорослей и лиственной пади не боясь.
У них общая, почти нарочитая (точно не есенинская) – бодрость подачи. Ставка на преодоление, победительность.
Общий – географический (снова не есенинский) размах – когда поэт хоть в степи, хоть в море, хоть на горе чувствует себя своим, на своём месте.
Сравните, скажем, стихи Павла Шубина о преодолённой беспризорности, путешествиях, стройках, что мы цитировали выше, – с этими стихами Бориса Корнилова:
Я землю рыл, я тосковал в овине,Я голодал во сне и наяву,Но не уйду теперь на половинеИ до конца как надо доживу.И по чьему-то верному веленью —Такого никогда не утаю —Я своему большому поколеньюБольшое предпочтенье отдаю.Прекрасные, тяжёлые ребята, —Кто не видал, воочию взгляни, —Они на промыслах Биби-Эйбата,И на пучине Каспия они.(«Под елью изнурённой и громоздкой…», 1933)Есенин никогда б не стал писать стихов о горах или океанах. У него были «Персидские мотивы», но и те с постоянной оглядкой на рязанский месяц и рязанских кур.
Есенин много прожил в Петрограде, но не оставил, в отличие от Шубина, никакого «ленинградского текста», кроме разве что «Воспоминания» 1924 года, в то время, как у Шубина Ленинград – одна из ключевых тем наряду с казачьей, степной, наряду с орловской, наряду с карельской, наряду с владивостокской (и это не конец и даже не середина списка).
То же самое характерно и для Корнилова, и особенно для Васильева – у которого, как и у Шубина, наблюдается нарочитая географическая щедрость, присутствует и московская тема, и казахская, и казачья (степная), и владивостокская (морская), и сибирская, и много ещё какая.
И те метафорические ряды, что последовательно выстраивали Корнилов, Васильев и Шубин, иной раз делают их стихи родственными до степени смешения.
Борис Корнилов:
Всё цвело. Деревья шли по краюРозовой, пылающей воды;Я, свою разыскивая кралю,Кинулся в глубокие сады.(«Всё цвело. Деревья шли по краю…», 1933)Павел Васильев:
Сначала пробежал осинник,Потом дубы прошли; потом,Закутавшись в овчинах синих,С размаху в бубны грянул гром.(«Сначала пробежал осинник…», 1936)Павел Шубин:
Там ведут свои стаи на плёсыГолоса лебедей-трубачей,И бегут по лощинам берёзы,Словно вестники белых ночей;<…>(«Память! Всей своей далью и ширью…»,16 декабря 1942)У одного – деревья идут по краю воды, у другого – осинник убегает, прячась от дождя, берёзы бегут по лощинам. И как же это всё зримо, как прекрасно.
Животное чувство языка, животная, кровная метафорика роднит всех троих, и объяснение тому, пожалуй, самое элементарное: в детстве у всех троих – ну или у их соседей точно – скотина в доме жила, они знали её тепло и запах, они выбредали из своих изб к первой зелени и радовались ей, как живой, потому что она несла жизнь – и человеку, и зверью. У них общая зрительная, слуховая, обонятельная память.
Борис Корнилов:
Мы ещё не забыли пороха запах,мы ещё разбираемсяв наших врагах,чтобы снова Трипольене встало на лапах,на звериных,лохматых,медвежьих ногах.(«Триполье», 1933–1934)Павел Васильев:
У этих цветов был таинственный запах,Они на губах оставляли следы,Цветы эти, верно, стояли на лапахУ чёрной, подёрнутой страхом воды…(«Дорога», 1933)Павел Шубин:
А ночь всё плывёт и плывёт. Только глухо бормочетРека, выползая на мягких, на бархатных лапах,Из старого русла. Да первый взъерошенный кочетГорланит и гасит огни в керосиновых лампах.(«А ночь всё плывёт и плывёт…»,конец 1930-х)Ожившая природа (когда деревья ходят или бегут; река не только разговаривает, но и боится; и вместе с тем река, цветы, а то и людские сообщества имеют лапы) ведёт себя схожим, «животным» образом всюду, куда бы этих поэтов ни заносила судьба.
У Корнилова на дыбы встаёт вода, у Васильева дождь идёт горлом, у Шубина вздыбливается солёный морской ветер.
Борис Корнилов:
За кормою вода густая —солона она, зелена,неожиданно вырастая,на дыбы поднялась она…(«Качка в Каспийском море», 1930)Павел Васильев:
Да, этот дождь, как горлом кровь, идетПо жестяным, по водосточным глоткам,Бульвар измок, и месяц, большерот.Как пьяница, как голубь, город пьёт,Подмигивая лету и красоткам.(«Август», 1932)Павел Шубин:
На серую бухту туманы ложилисьОт Чуркина мыса до самой губы,С полно́чи росли, поднимаясь, приливыИ ветер солёный вставал на дыбы.(«Двадцатая верста», 1945)И такая словесная щедрость у всех троих! Как будто сам язык им по-женски отдался, по-звериному оказался предан, податлив и мягок – как глина в умных руках.
Даже если самым знающим людям прочитать эти стихи и спросить, чьё это – Корнилова, Васильева, Шубина, – уверен, большинство задумается:
И снова ночь дотла сгорела,А я и не заметил – как?Гроза,Стрельнув из самострела,Сползла на брюхе в буерак,И дождик,Худенький и русый,С охапкой ландышей в руках,Баштанами и кукурузойПрошёл на птичьих коготках.(«И снова ночь дотла сгорела…», 1940)Прекрасно же? Это Шубин.
…Когда Приблудного, Корнилова, Васильева не стало, Шубин принял их, в жизни не случившееся, рукопожатье.
Понёс горячие русские слова в горсти дальше – в будущее.
Он, конечно же, не знал про их страшные судьбы: всех троих расстреляли. Почти никто в стране не знал – об этом не сообщалось. Большинство думали: ну, сидят где-то.
В тот год, когда все трое утеряли свободу (а потом и жизнь), у Шубина начался настоящий прорыв в литературу.
Если в 1935-м у него были две журнальные публикации (в ленинградских журналах «Звезда» и «Литературный современник» вышло по два стихотворения), в 1936-м – четыре (два раза в «Звезде» и два раза в «Литературном современнике», всего одиннадцать стихотворений), то в 1937-м – вышла его первая книга!
Она называлась «Ветер в лицо». Выпустил её Гослитиздат.
Помимо того, Шубин защитил диссертацию по рассказам вернувшегося из эмиграции писателя Александра Куприна и стал кандидатом филологических наук. Скорей всего, это была первая диссертация по Куприну в СССР.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

