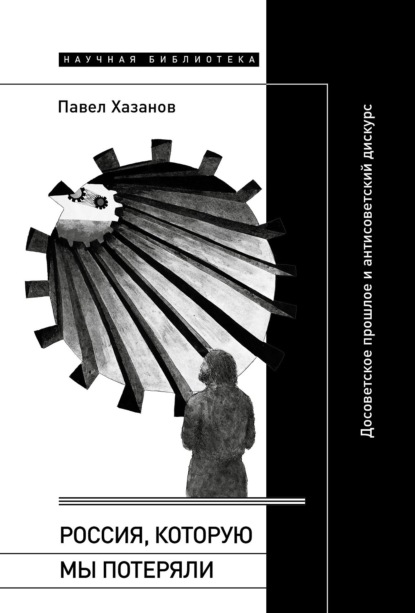
Полная версия:
Россия, которую мы потеряли. Досоветское прошлое и антисоветский дискурс
Как отметила Людмила Тригос, сам факт, что Лотман считает главным наследием декабризма культурность, а не вклад в последующее столетие революционной практики, как предполагал официальный советский марксистский дискурс, выдает в нем инакомыслящего либерала66. Мне кажется важным дополнить это наблюдение, уточнив Субъект этого инакомыслия – он может быть описан как досоветский интеллигентский Субъект культурности, или, может быть, представитель империи поэтов, или носитель хороших манер, или, в лучшем случае, речь идет о Субъекте лично принципиальном и порядочном, но не о Субъекте, оперирующем внятным массовым политическим дискурсом и практиками. Суть в данном случае не в том, чтобы «изменить мир», как говорил Маркс (к слову, и Померанцу одиннадцатый тезис Маркса не нравился), а в том, чтобы просто жить в нем, как подобает интеллигенту, чье социальное превосходство несомненно67. Можно разве что надеяться, что в конце концов присущий интеллигенции дух благородства просочится сквозь стены режима и убедит находящихся по ту сторону аппаратчиков разрешить свободную прессу, нефигуративное искусство или авторское кино.
Между тем, Лотман намеренно не останавливается на том, что ему хорошо известно: на существовании альтернативного коллективного проекта имперской интеллигенции, то есть социалистического проекта, который в публичной сфере некогда отстаивал зарождающийся и растущий слой образованных людей из небогатых, недворянских, словом, в том или ином смысле непривилегированных семей – так называемые «разночинцы», радикально изменившие социальный состав и политические настроения имперской интеллигенции. Лотман отвергает социалистический проект разночинцев как чуждый культурности, и Базаров, конечно, как нельзя лучше подходит на роль пугала. Само собой, Лотман знает, что среди разночинцев немало людей, внесших в русскую культуру куда больший вклад, чем декабристы на сибирском базаре. Возможно, Лотману кажется, что нет необходимости рассказывать эту историю, поскольку ее присвоила советская власть. Однако именно из‑за такого манихейского дискурсивного противостояния окостенелому советскому государству контрреволюционный, антисоциалистический интеллигентский Субъект дискурса о досоветском прошлом рисуется особенно отчетливо.
2. История не злопамятна
Правая вариация на тему о неоимперском интеллигентском Субъекте
История памятлива, но не злопамятна.
Старый большевик Петров в фильме «Перед судом истории»Разве вы провозгласили коммунизм для того, чтобы летать на Луну?
Василий Шульгин Владимиру Ленину во сне 1959 годаПатриотическая интеллигентность
Примерно в то же время, когда Ахматова писала «Слово о Пушкине», другой ее современник, семидесятилетний Василий Шульгин (1878–1976) – сначала крайне правый монархист и депутат Государственной думы, затем идеолог Белого движения, затем видная фигура эмиграции, затем неприметный житель Сербии, затем советский политзаключенный и, наконец, старик, после амнистии 1956 года живущий во Владимире, – записал в дневник следующий сон:
Я представил какой-то театр, совершенно пустой (в смысле публики), а на сцене расположился суд. Слева от суда – прокурор, справа – место защитника, но защитника нет. <…>
Будто бы входит Ленин. Я его спрашиваю: «У вас есть защитник?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Так нельзя, судить без защитника. Хотите, я вас буду защищать?» А он говорит: «Защищайте!»
В воздухе висят весы… Весы правосудия. Говорит прокурор:
– Ленин учредил ЧК <…> Сколько крови пролила эта так называемая ЧК…
<…>
– Затем убили царя, царицу, всю семью, династию… Всех убили, кто не успел сбежать за границу…
И крови в чаше обвинения прибавляется так, что она начинает течь через край. <…>
Прокурор кончил. Председатель говорит:
– Слово защитнику.
Моя речь состояла всего из двух слов: «Брест. Нэп».
<…>
– Смотрите, прокурор, смотрите, судьи! Чаши добра и зла уравновесились. Они стоят на одном уровне.
Ленин виновен? – Виновен. Ленин не виновен? – Не виновен.
Он оправдан?
Не оправдан. Но и не обвинен. Он пойдет на суд Божий, и только Бог, Который светит добрым и злым, вынесет ему Свой приговор68.
Сон Шульгина – неотъемлемая часть его попытки найти язык для разговора с советской властью: Шульгин полагал, что, пройдя уникальный жизненный путь, он может дать тем, кто руководит его страной, ценный совет69. Как отмечал Шульгин в другом месте, советские «стражи бутылки» с ядерным «джинном» вызывали у него уважение, поскольку даже «самая плохая власть лучше анархии», к тому же «во второй половине ХX века партия многое делает правильно»70. Что касается советской власти, трудно сказать, часто ли ей снился Шульгин (хотя некоторым ее представителям, может, и снился), но она точно не имела ничего против разговора с ним71. Насколько мне известно, занимавшие высокие посты «стражи бутылки» никогда не встречались со стариком лично, зато с ним встречались на удивление многие советские аппаратчики и представители культурной элиты – от сотрудников КГБ в 1950‑е годы до режиссера Фридриха Эрмлера и всех, кто участвовал в съемках фильма «Перед судом истории» (1965), не говоря уже о ключевых фигурах позднесоветского русского национализма, таких как художник Илья Глазунов и писатель Владимир Солоухин. Даже Мстислав Ростропович, виолончелист с мировым именем, был знаком с Шульгиным и обещал на столетний юбилей сыграть для него частный концерт; правда, «последний очевидец» имперской России, к сожалению, не дожил двух лет до своего столетия72.
Что бывший враг советской власти имел сказать третьему поколению советской элиты? Сам Шульгин считал, что хочет поделиться некоторыми политическими истинами – касающимися главным образом необходимости повторить «Брест» и «нэп», то есть оставить Восточную Европу и отказаться от плановой социалистической экономики. До некоторой степени к тем же выводам к тому времени уже пришли советское руководство и многие диссиденты. Как мне представляется, Шульгин не был особенно уникальным или красноречивым выразителем этой идеи, поэтому она не объясняет, почему он приобрел скромную известность в определенных кругах73. Думаю, собеседников интересовала в Шульгине его личность – в той мере, в какой он олицетворял основания потенциального позднесоветского консервативного ответа на преобладающий дискурс либеральной интеллигенции. Этот ответ можно воссоздать по собственным словам Шульгина, но особенно по их восприятию, которое я анализирую, двигаясь от записей приставленных к Шульгину агентов КГБ к фильму Эрмлера о нем, а затем к советскому мини-сериалу 1967 года «Операция „Трест“». Все эти тексты выражают смысл консервативной интеллигентности, воплощенной в фигуре Шульгина, – а именно: мысль, что можно претендовать на статус интеллигента, поддерживая авторитарный политический проект. Такая переоценка становится возможной потому, что процесс ухода либерального дискурса от ценностей социализма и веры в исторический прогресс завершается консерватором. Складный нарратив истории интеллигенции обездействован, что позволяет такому человеку, как Шульгин, в 1960‑х годах слыть интеллигентом.
***Если исходить из собственных слов Шульгина, его сон о Ленине служит поставленной Шульгиным цели принести пользу своим советским собеседникам, обездействовав собственные исторические суждения – совершив намеренный, кто-то сказал бы – циничный (а сам Шульгин сказал бы – «мистический»74), акт абстрактного отказа. Это отражено в метафоре суда, фигурирующей в его сне: Шульгин, юрист по образованию, готов «защищать» Ленина, добившись ситуации, когда присяжные не могут прийти к единому мнению – «не оправдан, но и не обвинен». От суждений о ходе истории намеренно воздерживаются и его собеседники. Агент КГБ Шевченко, приставленный к Шульгину, в январе 1991 года вспоминал, как ему поручили «сопровождать» Шульгина во время поездок последнего в 1960‑е и 1970‑е годы. Шевченко утверждал, что во время этих поездок обнаружил «объединяющее начало», составлявшее основу его общности с подопечным. Оказывается, Шульгин всегда был «истинным патриотом России», хотя и заблуждался:
…Судьбе было угодно, чтобы именно Шульгин принял отречение от престола императора Николая II. Поэтому, исходя из своих убеждений, Октябрьскую революцию Шульгин не воспринял, как не восприняло ее казачество, восставшее почти поголовно, часть офицеров, с которых сорвали погоны, и часть интеллигенции, не стерпевшая позора Брестского мира75.
Маневр Шевченко здесь напоминает адвокатскую уловку самого Шульгина – он не оправдывает Белое движение, но призывает отложить советский историографический учет. «Восстание» белых перестает быть частью большого советского нарратива, где старорежимная буржуазия проиграла революционному пролетариату. Те, кто был «неправ» в 1917 году, просто пришли в патриотическое негодование из‑за капитуляции перед немцами.
Агент КГБ счел, перефразируя знакомую сталинскую формулу, что убежденный правый антикоммунист был «патриотичен для своего времени»76. Как стал возможен столь явный ревизионизм? Когда Шульгин показывает, что присяжные не могут прийти к согласию относительно приговора Ленину, ему важнее всего, чтобы советская авторитарная власть продолжила разговор с ним. Как заявляет Шульгин, он «последовательный контрреволюционер», а значит, все исторические суждения должны подчиняться реакционной тактике здесь и сейчас, пока советское государство стабильно и контролирует ситуацию77. Поэтому, что бы Шульгин ни думал по поводу неистовства большевиков в 1917 году, сейчас это не верно и не ошибочно – скорее неопределенно. Однако, с точки зрения Шевченко, писать панегирик старому монархисту куда сложнее. Конечно, у агента та же стратегическая мотивация, что и у его подопечного. Если говорить шире, именно циничная антилиберальная тактика по большому счету и побудила высшие эшелоны советских спецслужб поддерживать в печати русских националистов в позднесоветскую эпоху. Проблема в том, что представители советского государства не могли позволить себе роскошь открыто участвовать в реакционных кульбитах «мистиков» вроде Шульгина. В конце концов, у СССР был великий революционный нарратив, и при всем желании спасти Шульгина этот нарратив накладывал свои ограничения. Борьбу с такими ограничениями можно наблюдать в документальном фильме Фридриха Эрмлера о Шульгине «Перед судом истории», снятом в 1965 году78. Фильм в конечном счете успешно снят, несмотря на ограничения, потому что в случае Шульгина режиссеру важно было показать не столько идею об обездействовании советского исторического нарратива о Белом движении, сколько переиначить социальный образ интеллигенции на консервативный лад. Шульгин, известный монархическими взглядами, не стесняющийся своих фашистских симпатий, убежденный антисемит, не должен был принадлежать к интеллигенции и, конечно, не принадлежал к ней в 1910‑е годы, – зато в 1960‑е годы он вхож в эту группу в качестве «патриотически настроенного интеллигента», потому что сами либералы пересмотрели это социальное понятие.
Выход фильма «Перед судом истории» на экран не прошел удачно. Документальная картина о Шульгине, снятая Эрмлером, бывшим чекистом и многократным лауреатом Сталинской премии, была изъята из проката уже после нескольких показов, поскольку, как предположили сочувствовавшие Шульгину русские националисты, «суд Истории» над старым монархистом не удался79
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
«Адмиралъ» (2008), реж. Андрей Кравчук (Москва, Дирекция кино).
2
Архангельский А. Был порядок // Коммерсант. 2008. 19 октября. https://www.kommersant.ru/doc/2301567.
3
Там же.
4
Robin C. The Reactionary Mind: Conservatism from Edmund Burke to Sarah Palin. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 7, 16, 29.
5
Архангельский А. Был порядок.
6
О раннем «Коммерсанте» и его решении использовать эстетику имперского ретро см. документальный фильм Леонида Парфенова «С твердым знаком на конце» (2007; Москва, Первый канал, Ростелеком, 2009): https://www.youtube.com/watch?v=BMLdc89clvY. См. также: Прядко И. П. Дореформенная орфография и современная реклама // La Revue russe. 2006. № 28. Р. 91–94.
7
«Адмиралъ», 01:55:30.
8
Чехонадских М. Товарищи прошлого: советское просвещение между негативностью и аффирмацией / Пер. К. Меламуда // Художественный журнал. 2018. № 106. https://moscowartmagazine.com/issue/81/article/1786.
9
Шинкарев Л. Записка от Колчака // Новая газета. 2014. 24 декабря. https://novayagazeta.ru/articles/2014/12/24/62501-zapiska-ot-kolchaka.
10
Социальное определение «класса ИТР» я позаимствовал у Марка Липовецкого, чье эссе в значительной мере повлияло на замысел этой книги. См. Lipovetsky M. The Poetics of ITR Discourse: In the 1960s and Today // Ab Imperio. 2013. № 1. P. 109–139.
11
Как неоднократно отмечали исследователи, события, подобные пушкинскому юбилею 1937 года, – яркие примеры, показывающие, что сталинская эпоха в принципе могла допустить к управлению досоветским каноном широкий круг участников. Среди них были как филологи старой гвардии, так и социалистические активисты, думавшие, что они могут с легкостью произвести переоценку досоветского канона, втиснув его в протосоциалистические рамки – скажем, объявив произведение «прогрессивным для своего времени». Сталин, со своей стороны, по-видимому, прибегал к такого рода языку в практических целях – чтобы постепенно сдвинуть господствующую идеологию на позиции русского этнонационализма; среди работавших в сталинской парадигме были и диалектики, в частности Михаил Лифшиц и Георг Лукач, стремившиеся, прославляя великие, вошедшие в канон культурные достижения прошлого, сохранить дистанцию между досоветской и советской культурной парадигмой. См.: Brooks J. J. Greetings, Pushkin! Stalinist Cultural Politics and the Russian National Bard. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2016; Epic Revisionism: Russian History and Literature as Stalinist Propaganda / Eds. D. Brandenberger, K. M. F. Platt. Madison: University of Wisconsin Press, 2006. О месте Лифшица и Лукача в этой парадигме см.: Кларк К. Москва, Четвертый Рим. Сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931–1941) / Пер. А. Фоменко, О. Гавриковой. М.: Новое литературное обозрение, 2018; см. также: Khazanov P. Mikhail Lifshitz and the Dialectical Politics of Art in the USSR // Pushkin Review. 2018. № 20. P. 67–73.
12
О советской экономической истории, в целом укладывающейся в эти рамки, см.: Allen R. C. Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009; Feygin Y. Building a Ruin: The International and Domestic Politics of Economic Reform in the Soviet Union. Cambridge, MA: Harvard, 2024, а также Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley, CA: University of California Press, 1997.
13
Наиболее известный пример историографии такого рода – «Краткий курс», составленный под руководством Сталина; см.: Stalin’s Master Narrative: A Critical Edition of the Short Course on the History of the Communist Party (Bolsheviks) / Eds. D. Brandenberger, M. Zelenov. New Haven, CT: Yale University Press, 2019. Если в «Кратком курсе» история революционного движения начинается только с 1870‑х годов, такие советские ученые, как Милица Нечкина, включают в предысторию революции и предшествующие десятилетия противостояния интеллигенции и власти. См., например: Нечкина М. В. Движение декабристов. М.: Изд-во АН СССР, 1955. О развитии советской историографии см.: Brandenberger D., Platt K. M. F. Epic Revisionism; Brandenberger D. National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern National Identity, 1931–1956. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002; Platt K. M. F. Terror and Greatness: Ivan and Peter as Russian Myths. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011.
14
См.: Althusser L. Ideology and Ideological State Apparatuses // Althusser L. Lenin and Philosophy and Other Essays / trans. B. Brewster. New York: Monthly Review Press, 1971. P. 85–126.
15
Обыгрывая рассуждения Дональда Рамсфелда о «неизвестных» факторах в будущей войне с Ираком, Славой Жижек придумал понятие «неизвестное известное» (unknown known) для описания идеологии; см., например: Žižek S. Rumsfeld and the Bees // Guardian. 2008. June 27. См. описание формирования массовых идеологий как длительного процесса, с применением психоаналитического инструментария и метода подробного идеологического анализа, вдохновившего автора этой книги: Жижек С. Возвышенный объект идеологии / Пер. В. Софронова. М.: Художественный журнал, 1999.
16
См.: Zubok V. Zhivago’s Children: The Last Russian Intelligentsia. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2009; см. также: Brudny Y. Reinventing Russia: Russian Nationalism and the Soviet State. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998.
17
Zubok V. Zhivago’s Children. P. 10.
18
См. Zubok V. Zhivago’s Children; см. также: Brudny Y. Reinventing Russia; Митрохин Н. Русская партия: движение русских националистов в СССР, 1935–1985 годы. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
19
«Перед судом истории» (1964), реж. Фридрих Эрмлер (Ленинград: Ленфильм, 1965): https://www.youtube.com/watch?v=6Evbmdbf1Ck.
20
Термин «обездействование» я заимствую у философской традиции, наиболее ярко представленной в работах Джорджо Агамбена; см.: Агамбен Дж. Оставшееся время: Комментарий к Посланию к Римлянам / Пер. С. Ермакова. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
21
См.: Солоухин В. Письма из Русского музея // Солоухин В. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. М.: Худож. лит., 1983–1984. С. 74.
22
См.: Jones P. Revolution Rekindled: The Writers and Readers of Late Soviet Biography. Oxford: Oxford University Press, 2019; Evans C. E. Between Truth and Time: A History of Soviet Central Television. New Haven, CT: Yale University Press, 2016.
23
См.: Evans C. E. Between Truth and Time. P. 229–231. Эванс предожила этот термин, размышляя о телевикторине «Что? Где? Когда?», считавшейся интеллектуальной передачей. Подробнее об «альтернативной элите» как идеологии либеральной интеллигенции, особенно в период перестройки и 1990‑е годы, см.: Khazanov P. What Is Our Life? A Game! What? Where? When? and the Capitalist Gamble of the Soviet Intelligentsia // Russian Review. 2020. Vol. 79. № 2. P. 269–292.
24
Внесен в реестр иностранных агентов.
25
Внесена в реестр иностранных агентов.
26
О «герменевтике подозрения» см.: Ricœur P. Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation. New Haven, CT: Yale University Press, 1977; см. также: Felski R. Suspicious Minds // Poetics Today. 2011. Vol. 32. № 3. P. 215–234.
27
Lipovetsky M. The Poetics of ITR Discourse. P. 118.
28
Ахматова А. Слово о Пушкине // Ахматова А. О Пушкине: Статьи и заметки / Сост. Э. Г. Герштейн. Л.: Сов. писатель, 1977. С. 6–7.
29
Стефани Сандлер отмечает, что другие, более объемные эссе Ахматовой о Пушкине говорят о существовании «загадочного» прошлого, путь в которое поэту закрыт: уже немолодая Ахматова хочет «как поэт и известная личность найти смысл» в гибели Пушкина, но уроки, которые можно извлечь из его гибели, оказываются не слишком интересными. Они сводятся к морализаторским тезисам об «одиночестве и предательстве», поэтому цель поздних эссе Ахматовой – «рассказать читателям о превратностях жизни на виду у публики, о том, как важны верные друзья и верные читатели, и выразить уверенность, что говорить правду возможно» (Sandler S. Commemorating Pushkin: Russia’s Myth of a National Poet. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004. P. 213).
30
Запись от 1 мая 1953 года // Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2: 1952–1962. Париж: YMCA Press, 1980. С. 19.
31
Запись от 4 ноября 1962 года // Там же. С. 456.
32
Думаю, наблюдение Сандлер и других исследователей по поводу «духа разделения», характеризующего отношение молодой Ахматовой к Пушкину, применимо и в этом случае. См.: Sandler S. Commemorating Pushkin. P. 185.
33
Brooks J. J. Greetings, Pushkin! Stalinist Cultural Politics and the Russian National Bard. Pittsburgh, PA: Pittsburgh University Press, 2016. P. 14.
34
Зощенко М. М. В пушкинские дни // Зощенко М. М. Рассказы. М.: Дрофа-Плюс, 2006. С. 387–393.
35
См.: Хирш Ф. Империй наций: Этнографическое знание и формирование Советского Союза / Пер. Р. Ибатуллина. М.: Новое литературное обозрение, 2022. О переходе от интернационалистической к более консервативной русской националистической культурной парадигме в сталинскую эпоху см.: Platt K. M. F., Brandenberger D. Epic Revisionism.
36
См. Лифшиц М. Народность искусства и борьба классов // Лифшиц М. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2. М.: Изобразительное искусство, 1986. Т. 2. С. 245–292; см. Khazanov P. Mikhail Lifshitz and the Dialectical Politics of Art in the USSR // Pushkin Review. 2018, no. 20. P. 67–73.
37
Ахматова и Чуковская часто упоминают таких персонажей, как Александр Фадеев, который в советском литературном мире был правой рукой Сталина.
38
Синявский А. Д. Что такое социалистический реализм // Синявский А. Д. Литературный процесс в России. М.: РГГУ, 2003. С. 172.
39
Zubok V. Zhivago’s Children: The Last Russian Intelligentsia. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2009. P. 22.
40
Думаю, что в политическом плане именно таково было основное, наиболее явное значение риторики «искренности», с которой в 1953 году началась оттепель. Даже на поверхностном уровне, если взглянуть, например, на прогремевшую в то время статью Владимира Померанцева «Об искренности в литературе», напечатанную в «Новом мире», видно, что оттепель началась с требования к советской литературе снова стать хорошей в самом традиционном, дореволюционном и реалистическом смысле слова. На более глубинном уровне «искренность» означала приятие всей традиционной культурной системы интеллигенции. В самом радикальном своем проявлении «искренность» подразумевала способность интеллигентской элиты оспаривать власть и открыто заявлять о собственном автономном дискурсивном средоточии власти, что, по мнению политического философа Клода Лефора, составляет отличительный признак структурного либерализма.
41
Джордж Фарадей считает, что именно так и произошло в борьбе за культурный капитал в позднесоветскую эпоху, – см. Faraday G. Revolt of the Filmmakers: The Struggle for Artistic Autonomy and the Fall of the Soviet Film Industry. University Park, PA: Penn State University Press, 2000.
42
Ахматова А. Слово о Пушкине. С. 6.



