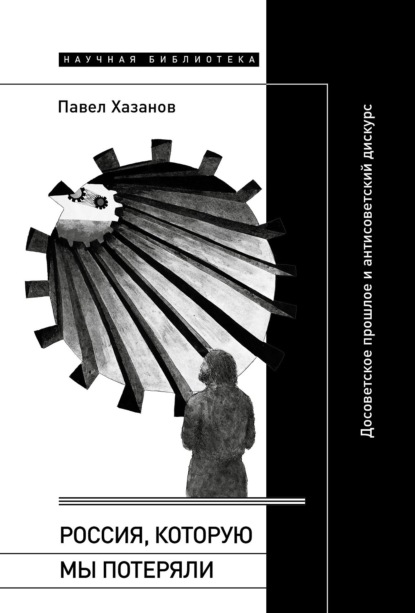
Полная версия:
Россия, которую мы потеряли. Досоветское прошлое и антисоветский дискурс
«Постнарод» и пределы интеллигентского воображаемого
В ахматовском «Слове о Пушкине» – особенно если рассматривать его в юбилейном контексте 1962 года и в институциональной логике самой Ахматовой 1960‑х годов – дискурс интеллигенции о культурности носит открыто контрреволюционный характер. В этом дискурсе подчеркивается идея непрерывности культуры за счет преемственности между членами ее элитного коллективного Субъекта. Здесь нет значимого рубежа между тем, что было до и после 1917 года. Более того, этот дискурс предполагает зону соглашения между интеллигенцией и ненавистным «режимом» относительно неизменной социальной роли творческого сообщества, причем подразумевается, что это соглашение освящено не революцией, а традицией. Пушкин не «наш товарищ», а «наше все» – и не потому что так сказал Ленин или пролетариат, а потому что так сказали Тургенев и Достоевский, потому что так сказала Цветаева, потому что так сказала Ахматова. Иначе говоря, потому что интеллигентская культура с ее непрерывной, нерушимой родословной научила «нас», своих подданных, так думать, и те, кто работает на «режим», здесь такие же подданные, как и все прочие. Но если мы говорим обо «всех», где границы этой группы и кто остается вне их?
Вопрос о границах поэтической власти Ахматовой подводит нас к главному политическому вопросу, связанному с оттепелью: как выглядит антисталинистский политический коллектив. В контексте интеллигентской культурной империи и дискурса о ее непрерывности возвращение к досоветской нормальности, каким виделась оттепель, кажется антисталинистским по определению. Такой взгляд отражен в процитированном диалоге Чуковской и Ахматовой, и ту же в основе своей идеологию мы наблюдаем у других мыслителей-интеллигентов оттепели. Утверждения такого рода каждый раз наталкиваются на вопрос о пределах этого коллективного Субъекта, а значит, о пределах интеллигенции и ее антисталинской политики. Ахматова расплывчато пишет обо «всей России», которая читает Пушкина и теперь, по-видимому, станет читать и Ахматову, что будет означать поражение сталинизма. А, скажем, Владимир Саппак, первый теоретик советского телевидения, около 1960 года пишет о зрителях, естественно, даже на уровне физиологии, склонных получать удовольствие от искренности; они якобы составляют идеальную аудиторию для интеллигенции, наиболее способной к риторике искренности, поэтому сообщество таких телезрителей означает поражение сталинизма44. В обоих случаях в основе культурного процесса лежит туманный миф, в котором культурная элита сеет разумное, доброе, вечное от имени всех остальных (нации? всего мира?), все порядочные люди от души поглощают эту смесь, а все плохие – режим, его пешки и безмолвные массы (нация? какая-то ее часть?) – оказываются против «нас». Добро в конце концов, разумеется, победит – в данном случае когда настанет конец сталинизма. Но существовала ли среди «либералов» менее расплывчатая теория интеллигентской политики, отношений между культурной элитой и всеми остальными и осязаемого результата этих отношений? Именно этот вопрос в 1968 году, в переломный момент Пражской весны, занимал Григория Померанца.
В отличие от Ахматовой, официально признанной фигуры, которую государственная цензура в каком-то смысле вынуждала говорить на социальные темы эзоповым языком, Померанц был либеральным мыслителем-диссидентом, распространявшим свои эссе в самиздате, а потому имевшим возможность изъясняться более прямолинейно. В его работах 1960‑х годов особенно очевидно то, в каких пределах дореволюционный интеллигентский коллективный Субъект мог осмыслить позднесоветское социальное поле. Померанц всецело разделяет основной тезис контрреволюционного дискурса о непрерывности интеллигентской культуры. Свои мысли он выражает, постоянно прибегая к цитатам из Цветаевой, Тютчева, Хомякова, Сергия Булгакова, Бердяева и других. Некоторые его эссе – кальки с работ досоветских мыслителей45. Однако Померанц понимает, что идею коллективного Субъекта с такой интеллектуальной преемственностью необходимо скорректировать: если в XIX веке интеллигенции имело смысл определять себя по отношению к народу, то сегодня эта схема не работает и не должна работать. В полемике с Александром Солженицыным, которого Померанц считает «внутренне честным почвенником»46, он утверждает, что советская модернизация повлекла за собой коренное преобразование общества, так что традиционное для интеллигенции культурное понятие народа – а значит, и солженицынское почвенничество – больше не имеет смысла.
В чем же состояло традиционное представление о народе? Оно складывалось отчасти из социологии («народом» были крестьяне), а отчасти из уникального образа жизни, обладавшего некоторыми эстетически привлекательными, особенно в глазах интеллигенции, аспектами («народ», вдохновивший Пушкина и Гоголя). Как крестьяне, народ являл собой неотесанную массу, слабо интересовавшуюся утонченными культурными наслаждениями. Он, например, не знал любви, как ее понимает Померанц:
Трубадуры, миннезингеры – это штука шляхетная, рыцарская и по преимуществу европейская. У нас – одна из вольностей дворянских. Мужицкое отношение к любви недавно напомнил нам А. И. Солженицын: «Женятся для щей, замуж выходят для мяса»47.
Как образ жизни, «народ» подразумевал состояние до модернизации, с присущим ему привлекательным примитивизмом – «Аркадией», в которую современные люди (первоначально интеллигенция, но теперь гораздо более широкий круг советских людей) иногда «играют»48. Померанц считает морально оправданной «романтическую» склонность интеллигенции «играть в Аркадию», но не поддерживает идеологию народников, некогда отправлявшихся к крестьянам и стремившихся превратить свойственную им народную мудрость в политическую платформу49. Для Померанца народ – носитель фольклора («пляшущий народные пляски, сказывающий народные сказки, плетущий народные кружева»), но если говорить о его коллективной мудрости, она всегда была ограничена – «хорошее» в народе сводилось к общему для всех, исконному чувству совести, стремлению к «правде-истине-справедливости»50. Но, так или иначе, сегодня, в 1960‑е, не особо важно, каким был народ, потому что его больше нет.
В эссе «Человек ниоткуда» Померанца интересует не столько досоветская история, сколько его эпоха, 1960‑е годы. А в эту эпоху народа уже не существует ни в социологическом, ни в духовном смысле. После нескольких лет форсированной индустриализации и урбанизации от старого русского крестьянства остались «только рожки да ножки»51. Рабочие массы же не развились до духовно значимого коллективного субъекта:
Пролетариат городской и сельский заменил народ в политической жизни, но не в духовной жизни общества. После всех попыток Пролеткульта, пролетарского искусства и великой пролетарской культурной революции в Китае от рабочего ничего уже и не ждут в этой области. К нему обращаются только тогда, когда надо посечь очередного интеллигента. И тогда газеты печатают интервью: «Я не читал Пастернака, но…» <…>
Класс, вызванный к жизни первым промышленным переворотом, выросший, как на дрожжах, до 50 процентов населения, создал профсоюзы, советы, забастовки и т. п., без чего нельзя представить себе XX век, создал некоторый дух солидарности в борьбе с притеснением, но ничего положительного, ничего такого, что способно оставить прочный, долговечный, вековечный след. Нет никакого особого пролетарского нутра. То, что было названо пролетариатом, в духовном отношении ничем не отличается от остальной урбанизированной массы. Это просто нижний слой ее, без всяких провиденциальных перспектив. <…>
В первые годы после революции пелись революционные песни, сложенные интеллигентами – народниками и марксистами. Потом пошла в ход блатная лагерная песня, песня вычеркнутых из списков «пролетарской» общественности52.
Далее Померанц переходит к 1960‑м, когда среди высших и низших слоев городского населения происходит творческий «Ренессанс наизнанку»:
А сейчас началось время интеллигентского фольклора. Открылся «животворный родник», из которого хлынули песни, стихи, проза, философские эссе, абстрактная и конкретная живопись.
Герою Синявского мерещится, что весь Союз пишет, что в каждом окошке графоман. <…>
Пишет очень широкий слой – от шофера такси Алешковского до профессора математики И. Грековой-Венцель, но явно преобладают верхи. <…>
Если правда, что нет народа без песни, то именно здесь складывается хребет нового народа – или, быть может, нового слоя, несущего в себе занародную правду и занародную песню. <…>
Любопытно, что наши менестрели – какой-то сброд космополитов: полугрузин-полуармянин, еврей, полукореец. Есть, конечно, и чистокровные русские, но решительно без почвенной основы: не дети, а внуки и правнуки крестьянского народа, стоптанного прогрессом в безликую слесарно-бухгалтерскую массу…53
«Интеллигентский фольклор» и «Ренессанс наизнанку» Померанца – оксюморонные символы послевоенной современности, где вновь рождается своеобразная постиндустриальная версия «постнарода», но уже в совершенно ином социальном слое. Дети и внуки рабочих и крестьян, люди, которые не могут считать себя пролетариями, которые в западных странах принадлежат к так называемому среднему классу, люди технических специальностей и работники сферы услуг – именно они создают современный городской фольклор. И, что еще важнее, в культурном отношении эти люди намного ближе к старой культурной элите. Прочертить четкую границу между теми, кто формирует, синтезирует и потребляет культуру, больше нельзя. Все эти процессы протекают, по-видимому, внутри одного социального тела. Как называть это тело? Может быть, интеллигенцией, но уже какой-то другой, с другим коллективным воображаемым? Далее в тексте Померанц обращается к этой проблеме. Он полагает, что между всеми прежними определениями интеллигенции есть нечто общее:
…Проводится граница, и то, что лежит по одну сторону ее, объявляется интеллигенцией, а то, что по другую, – нет. Получается примерно такая структура образованных слоев: 1) кадры, вросшие в государственный аппарат и болеющие за интересы этого аппарата, как за самих себя (потому что они и есть государственный аппарат); 2) мещанство, более равнодушное к общим делам и болеющее скорее за свои мелкие делишки, а также за игрушки, которые ему дают: за «Динамо», за «Спартак», за наших советских космонавтов, за наш национальный престиж (разница между мещанином и «кадром» в оттенках: то, что для одного главное, для другого – второстепенное); 3) интеллигенция, болеющая за то, что не положено, что не подсказано газетой, радио, телевидением54.
Померанц добавляет:
Эта статическая модель годится для описания современного положения в России, но совершенно не объясняет таких социальных сдвигов, как в Чехии, когда даже известная часть кадров, даже большинство ЦК становится интеллигентным55.
Поэтому он предлагает новую модель интеллигенции – «интеллигенции без границ, интеллигенции как излучения, имеющей свой центр, свой максимум интенсивности, но принципиально не имеющей пределов». Центр – это «кучка людей», «способных самостоятельно открывать вновь святыни, ценности культуры». Затем следует «относительно широкий круг людей», составляющих «одушевленную интеллигенцию»; эти люди не формируют культуру напрямую: они «заняты своими профессиональными задачами», но «неспособны заниматься ими без внутренней тревоги и страдания за судьбу человечества, нации, угнетенных, культуры, искусства, религии, истины, справедливости, иногда даже одной какой-то ценности при слабой чувствительности к другим». Наконец, нижний ярус этой пирамиды – широкий слой, обладающий наибольшим политическим весом, – «интеллигенция неодушевленная, в этическом отношении ничем не отличающаяся от мещанства», но более образованная, а потому способная «несколько одушевиться». Поэтому теоретически верхний слой может транслировать свой дискурс нижнему. Даже бюрократические «„кадры“ постепенно пропитываются интеллигентностью и ведут себя, как прочие интеллигентные специалисты»56.
Аргументация Померанца поражает сочетанием логических доводов и веры, равно как и постоянными колебаниями в позиции Субъекта. Говоря о том, что индустриализация уничтожила старую народную культуру, и о несостоятельности Пролеткульта, Померанц вступает на территорию марксистской аргументации. Описанная им культурная ситуация «интеллигентского фольклора» явно обусловлена преобразованиями, которые повлек за собой проект советского просвещения и индустриализации, сформировавший политическое тело, где образованные горожане – не крестьяне или рабочие, а их потомки – теперь производят и потребляют культуру. Эту культуру нельзя назвать пролетарской (по крайней мере в общепринятом смысле); она одновременно перекликается с дореволюционными городскими традициями и вбирает в себя продукты советского просвещения. Померанц доказывает это, в общих словах ссылаясь на творчество авторов-исполнителей и графоманов, выпускающих самиздат, но с тем же успехом он мог бы привести в пример советские анекдоты 1960‑х годов, где, среди прочих, действуют Наташа Ростова Льва Толстого и поручик Ржевский Эльдара Рязанова. Опять же, когда Померанц описывает идею интеллигенции как излучения, он, казалось бы, формулирует социальную теорию новой, ориентированной на демократию интеллигентской политики, в рамках которой советские писатели, ученые, критики, инженеры, руководители и «менестрели-космополиты» – то есть уже большинство или по крайней мере весьма многочисленное меньшинство советского населения – объединены схожими образованием и бытовыми условиями, несмотря на советские привилегии для элиты. Все эти люди потенциально составляют единое сообщество, сложившееся вокруг «духа» интеллигенции.
Вместе с тем Померанц с подозрением относится к массовым коллективам и убежден в добродетелях элитарного интеллигентного меньшинства. В одном месте он пишет:
Христос… никогда не проповедовал массам. Массы тогда, как и сейчас, предпочитали Варавву. Проповедовал небольшим группам избранного народа, чтобы они стали ядром нового Адама…57
«Сейчас» (в 1960‑е годы), как и тогда, урбанизированные массы не тождественны народу. То, что некогда звалось «избранным народом», теперь интеллигенция, понимаемая как пророки и подвижники, подобные отцам Церкви58. Померанц пытается определять интеллигенцию как излучение, но уверен, что значение имеет только ее центр. Передача «духа» в его модели происходит строго сверху вниз, несмотря на то что все получили образование и «шоферы такси» пишут стихи. Даже когда Померанц говорит, что эту «нормальную» интеллигентскую модель образованного общества приходится корректировать, когда речь идет о тогдашней Чехословакии, он одновременно заявляет, что эта «нормальная» модель статистически «годится для описания современного положения в России» – как будто на российско-советском телевидении и радио нет интеллигентской культуры, как будто советский «аппарат» по-прежнему остается или когда-либо был монолитным, как будто представления о «мещанстве» как о совершенно «бездушных» конформистах, homo sovieticus, имеют смысл, как будто все «мелкобуржуазные массы» смотрят по телевизору исключительно «Динамо» и «Спартак», а не, например, Вана Клиберна, или Чуковского, или Шкловского, или записи спектаклей Большого театра и МХАТа, и т. п., как будто нельзя быть интеллигентом и при этом восхищаться Гагариным59. Да, в принципе ценности интеллигенции могут испускать излучение и провоцировать масштабные социальные преобразования, но, несмотря на огромный потенциал всего, о чем говорит Померанц, он настаивает на проведении границы между «одушевленным» меньшинством и «неодушевленным», «мещанским» большинством. Он убежден, что единственные люди в России – а может быть, и в мире, – обладающие творческой и деятельной субъектностью, – это «высокая», традиционная интеллигенция в узком смысле слова, то есть очередная вариация на тему прежней империи поэтов.
В социалистической трактовке Померанца на первый план вышла бы его осторожная чуткость к радикально-демократическому потенциалу, открывшемуся в годы оттепели. Если говорить в терминах советского марксизма, Померанц ощущает, что цели советского просвещения практически достигнуты и вскоре исполнится данное некогда большевиками обещание наделить политическими полномочиями всех, кто достиг культурности, в то время как диктатура партии должна ослабнуть перед лицом нового коллектива. Это коллективное чувство иногда определяет восприятие «интеллигентности» как главной действующей силы в эпоху оттепели у Зубока. У Померанца же, как мы видим, оно может обозначать не просто утонченный круг культурной элиты, но саму мысль, что в этот исторический момент очень многие – потенциально большинство советских граждан, теперь или в ближайшем будущем – могут считать себя интеллигенцией и поэтому могут взять в свои руки дальнейшее строительство социализма во всем Восточном блоке. Так что, вопреки всем своим диссидентским убеждениям, Померанц осторожно намечает просоветское будущее мира, где советская интеллигенция прислушивается к его призывам, отказывается от этнонационалистической риторики и действует, как подобает «интеллигенции сверхдержавы» «в центре большой системы». Сверхдержава и система остаются единым целым благодаря идее «гуманного социализма», достаточно «универсального» для этой задачи и за счет сообществ международной «солидарности» среди восточноевропейской интеллигенции60.
Впрочем, как мы уже видели, Померанца можно и, вероятно, проще читать в антисоциалистическом ключе, как еще одного сторонника интеллигентского элитизма. Хотя он с воодушевлением называет советскую интеллигенцию потенциальным источником топлива для нового народа, вряд ли он готов к последствиям такого положения дел. Вероятно, именно поэтому, когда в его самиздатском эссе дело доходит до формулировки конкретных политических требований, Померанц изъясняется весьма туманно. Он настойчиво утверждает, что интеллигенция, по его мнению, не должна брать власть, потому что это грозит «грехопадением» и возможной диктатурой (Померанц полагает, что именно так случилось с большевиками). Но ему кажется вероятным, что интеллигенция как пророчески избранный «новый народ» убедит нынешнее государственное «руководство» впитать интеллигентскую культурность и придерживаться ценностей интеллигенции, и тогда… а что тогда? Об этом эссе умалчивает. Померанц много говорит о прогрессе, о бесконечном пути «от зверя к Богу», и в какой-то момент даже упоминает свободную печать, ведать которой было бы поручено исключительно интеллигенции, но дальше классических либеральных свобод – слова и художественного самовыражения – его фантазия, по-видимому, не идет. По всей вероятности, Померанц не задумывался, в той или иной форме, о свободном рынке; к тому же, ему (как и Хрущеву) нравится, как США обустроили сельское хозяйство. Что ему совсем не нравится, так это явный поворот позднесоветского государства в сторону этнонационалистической риторики и сопутствующее ему употребление слова «народ» в значении «подлинной России», страдающей под игом выскочек-космополитов – еврейской элиты. Это главный пункт полемики, которую Померанц пытается навязать Солженицыну. Он полагает, что автор недавно вышедшего в самиздате полемического антилиберального эссе «Образованщина» (см. пятую главу), а также опубликованных произведений «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» поддается опасным иллюзиям, думая, что народ, понимаемый как традиционное многострадальное русское крестьянство, по-прежнему существует и жаждет возмездия за совершенные против него преступления. Самому Померанцу очевидно, что такого органического народа не существует, – существует постпролетарская, индустриализованная «масса»; писатели-деревенщики предлагают этой массе с санкции партии и правительства считать себя модернизированным этнонационалистическим народом, но такое популистское самоопределение, как и национальная гордость, рождает заблуждения и ксенофобию.
Сколь ни велик соблазн согласиться с доводами Померанца против обновленного советско-русского этнонационализма, очевидно, что и сам он никак не может расстаться с дорогими ему иллюзиями – что монолитная интеллигенция противостоит монолитному режиму, что существует разделение между теми, кто обладает духом интеллигенции, и теми, кто его лишен, что культурность есть необходимое условие непрерывной передачи традиционных истин относительно того, какова «подлинная культура», кто ее «истинные хозяева» и враги. В эссе «Поэтика ИТР-дискурса» Липовецкий отмечает, что эта же идеология составляла наиболее слабое место советской культурной элиты:
Вытекающие отсюда эссенциализм и склонность к бинарным оппозициям становятся главными чертами ИТР-дискурса. Спроецированные на сферу культуры, эти черты ведут к ее «эссенциализации», в результате чего культура предстает не как динамичный и противоречивый процесс, а как набор «вечных» ценностей. При таком подходе от культуры ожидают готовых штампованных идей, а не проблематизации ценностей (той «неуютности культуры», о которой говорит Леонид Баткин и, на свой лад, Джанни Ваттимо), неколебимой верности давно усвоенным урокам, а не творческого дискомфорта, благоговейной защиты существующей иерархии, а не бунта61.
По мысли Липовецкого, корни этой идеологии – в официальном советском «идеологическом эссенциализме». На мой взгляд, эта идеология уже вшита в досоветский интеллигентский дискурсивный Субъект. Если уж на то пошло, то именно дискурс советского просвещения придает теории Померанца некоторый искупительный потенциал, который можно извлечь при несколько насильственном прочтении. Однако если мы не будем применять насилие, если истолкуем рассуждения Померанца буквально, тогда получится, что даже там, где он как будто говорит нечто новое – об интеллигенции как излучении, – он на самом деле пережевывает очень старую дореволюционную модель политики, основанной на культуре. И в этом он не одинок. Юрий Лотман, знаменитый основатель Тартуской семиотической школы и, вероятно, главный советский ученый-гуманитарий своего поколения, пишущий почти одновременно с Померанцем, обнаруживает именно такую модель излучения в основе пушкинской эпохи, то есть эпохи самого первого политического проекта имперской интеллигенции.
В известном эссе «Декабрист в повседневной жизни» Лотман утверждает, что благодаря семиотической передаче своей модели культурности декабристы изменили русское общество, хотя восстание 14 декабря 1825 года и закончилось провалом. Это удалось им потому, что они создали целостный облик высокоморального гражданина и затем посредством семиотики распространили эту «школу гражданственности» на социальную группу, далеко выходящую за пределы Северного и Южного обществ62. В самой эмоционально напряженной части эссе Лотман говорит о поведении декабристов в сибирской ссылке и отмечает: все эти бывшие князья были так хорошо воспитаны, что умели непринужденно беседовать с крестьянами на базаре, не заставляя последних ощущать свое более низкое положение, ведь
подлинно хорошее воспитание культурной части русского дворянства означало простоту в обращении и то отсутствие чувства социальной неполноценности и ущемленности, которые психологически обосновывали базаровские замашки разночинца63.
Далее Лотман еще более категорично добавляет:
Эта способность быть без наигранности, органически и естественно «своим» и в светском салоне, и с крестьянами на базаре, и с детьми составляет культурную специфику бытового поведения декабриста, родственную поэзии Пушкина и составляющую одно из вершинных проявлений русской культуры64.
Наконец, он затрагивает воспоминания Льва Толстого об отношении к декабристам:
…Если вопрос о роли декабристской идеологической традиции применительно к Л. Н. Толстому представляется сложным и нуждающимся в ряде корректив, то непосредственно человеческая преемственность, традиция историко-психологического типа всего комплекса культурного поведения здесь очевидна. <…> Трактовка Толстого очень интересна; мысль его постоянно привлечена к людям 14 декабря, но именно в первую очередь – людям, которые ему ближе и роднее, чем идеи декабризма65.
Урок декабризма для Лотмана примерно тот же, что урок Пражской весны для Померанца: ему не слишком интересны ни политическая платформа декабризма, ни рассуждения декабристов о социальной реальности, ни их способность сформировать политический коллектив. Гораздо важнее способность дворян-революционеров транслировать свою интеллигентность более широкому кругу людей и ослеплять их своей культурной утонченностью и неопределенным чувством «гражданственности». Это расценивается как одно из достижений 1820‑х годов, равнозначное поэзии Пушкина. В то же время Лотман пренебрежительно отзывается о «базаровских замашках разночинца». Столь открыто выражая презрение к вымышленному тургеневскому нигилисту-шестидесятнику, Лотман косвенно порицает бытовое поведение большевика – а в конечном счете, утверждает историческое и культурное превосходство политически неэффективных декабристов, дворян в изгнании, над намного более политически эффективными, но стоящими ниже по культурному уровню радикалами XIX века, часть которых дожила до революции 1917 года и увидела плоды своих замыслов. Что касается упоминания Лотманом Толстого, именно здесь историческая отсылка к позднесоветской эпохе особенно очевидна. Ведь исторически Толстой занимает положение, сходное с положением самого Лотмана. Писатель родился после декабрьского восстания, в 1828 году (а Лотман в 1922‑м), а встретил бывших декабристов только в 1850‑е годы, когда они получили помилование. После тридцати лет сибирской ссылки и почти полной оторванности от жизни русского общества (аналогичных тридцати годам правления Сталина, отделяющим мир имперской интеллигенции от современников Лотмана) политические взгляды почти всех вернувшихся были далеки от реалий того времени. И все же Толстой мог унаследовать если не их идеи, то их поведение. История ушла вперед, но декабристская культурность не утратила своей неизменной актуальности – таков урок, почерпнутый Лотманом у Толстого.



