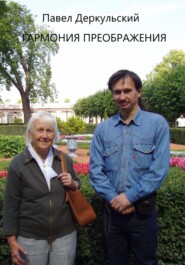 Полная версия
Полная версияГармония преображения
Дополнительные слова об образах жившего на отражении в памяти неживого – судя по всем присутствующим проявлениям своеобразный рисунок здесь присутствует, и так-как мысли о смысловой нагрузке подобного рисунка уже появились, пожалуй впору подобное записать. И так, что имеем в качестве основных идей организующего характера – особенно ярко вспоминается не всё подряд, базовой основой для яркого, полного мелочных зацепок, вдруг проявляющегося воспоминания является прежде всего предмет, в большинстве своём игрушка, в своё время купленная родителями, и, в последствии, ставшая очень значимой при дальнейшем детском развитии. Как надо понимать, в своё время, подобная игрушка приняла на себя весьма серьёзную долю рисунка образного отпечатка при духовном росте подрастающего малыша, и теперь, опять воскресая в памяти, да еще в подобной мелкой детальной полноте, полагаю, она, одновременно, привносит отпечатки того юного образа, подобным накладыванием былого на пожившее словно бы обновляя то, что уже далеко не к улучшенью устремилось от возраста. В общем, всё это начинает выглядеть как такое своего рода омоложение, что ли, или, во всяком случае, как нечто очень-очень похожее. Во всяком случае, как сразу можно отметить, игрушки выбираются памятью далеко не все подряд, а именно те, которые были реально значимы для детского сознания, и одно это уже само по себе весьма весомо. Что же касается всплесков воспоминаний касательно событийности, то на данный момент это именно всплески – что-то проступает, отдаёт чем-то былым-знакомым, после чего бесследно пропадает, то есть, этому тоже можно приписать возможность транслировать какую-то образность, да только как такое способно этим поделиться, если и само, по сути, в памяти и на пару мгновений задержаться неспособно. Можно ещё порассуждать о влиянии создавшегося образа на неживой материальный объект, правда, тут рассуждения как-то в изначальности и первооснове строятся на сохранённом в памяти о сделанном. Действительно, одни из самых важных и в том числе для сознания и памяти игрушек детства оказались те, которые сделал именно тогда руками сам. Эти игрушки словно аура фантазии особой отличала, давала им возможность быть особыми. Игрушки эти, надо понимать, не в помойку полетели, а были разобраны на части. Вот и попробуй здесь определиться, были ли они наделены при создании какой-нибудь особой аурой, и куда эта аура после разборки, вот так, раз, и подевалась? Ведь если изначально исходить из всех подобных предпосылок, то созданное награждает аурой всё тот же создающий, а аура, если с нужной точки посмотреть, всё тот же образ, только вот на этот раз наделяется подобным уже нечто неживое. И если посмотреть внимательно на ситуацию, то в прямом смысле формировать этот самый образ это самый образ без помощи живого не имеет – организует, формирует, изменяет доукомплектует образ именно живое, что находится с подобным неживым в контакте (как надо понимать за счёт формирования при контакте о неживом какого-то своего собственного особого мнения) (Что мы имеем в обыденной реальности – формирование особого определённого мнения об определённых предметах определённого производства, иногда подобное протекает с успехом, иногда с обратным эффектом, как бы там ни было, но принято придерживаться того мнения, которое соответствует тому, что укоренилось в сознании как истинное, и истинным, правильным сознанием принимается.) Можно хвалить, создавая образ хорошего, (что, сам раскрашиваешь, применяя собственный Свет, некую образность?) но присутствует ещё и личное соприкосновение с подобным раскрашенным, и тут уже другая образность формируется и, как следует понимать, выходит при формировании образа на первое место – к формированию этого образа в первую очередь причастно личное участие, такому и доверия побольше как из подобного и следует без видимых сомнений понимать. По столь понятным причинам подобный образ становится для сознания важнее. Теперь, какой собственный след от воздействия своего собственного образа при жизни можно оставить? Чтобы подобное творение целиком и полностью стало нести на себе отпечаток воздействия следа после прожитой на тот момент жизни, тут, наверно, присутствует необходимость даже материал из которого всё начнёшь создавать, перед тем создавать какими-то особенными усилиями. В большинстве случаев при творчестве предлагается использовать уже созданный для подобного сооружения чего-либо материал, если использовать личный опыт, то очень часто использовался материал, который отслужил свое и на момент использования считался обычным мусором, то есть, предлагая такому материалу повторное, совершенно несоответствующее начальному использование, фактически такому материалу предлагали в новом и не соответствующем прежнему варианте сызнова возродиться. В некотором смысле такое и можно было бы назвать творением чего-то нового для создания чего-то именно чего-то нового, и нет, так-как, материал это всё-таки именно материал, и когда-то, для того, чтобы возникло когда-то нечто подобное кому-то уже пришлось именно творить-постараться, а всё прочее, это всё-таки именно повторное применение уже когда-то и кем-то созданного. И всё-таки, образность того, кто творил материал, такое влияние отрицать нельзя, да отсюда, как надо понимать, проистекает и выбор самого, уже послужившего своё материала для повторной службы. Но нет образности при создании предпосылок той самой повторной службы, и этой самой службы нет в принципе. Теперь в принципе разберём создание объекта, когда взялся подобное создавать сам. Кроме материалов, из которых объекту состоять, что ещё тут выбирается на первый план? Первое – детализация создаваемого – понятно, что хочется, как результат, получить нечто конкретное и удовлетворяющее-радующее, для этого необходимо те или иные детали изготовить и так или иначе скрепить, результат должен по меньшей мере удовлетворить, в самой желательной форме обрадовать своим возникновением-появлением. Тут, если делаешь, предпринимая собственные усилия, понятно, что и образность деталей при такой детализации и образ конечный, как нечто, выглядящее венцом творчества, должны на себе нести отпечаток духовного образа того, кому и взбредёт в сознание всё это в реальности в нечто материальное воплощать. Вопрос служения подобного предмета? Насколько оно будет избирательно индивидуальным и будет предрасположено встречать чем-то более положительным действия именно создавшего – о чём-то таком рассуждать достаточно сложно, но опыт указывает что созданное своими силами всегда воспринимается более положительно, особенно, если вышло до определённой меры удачным. Ну, а сами подобного рода порождения целенаправленного творчества, разве только своим присутствием просто в непосредственной досягаемости они не помогут сохранить хотя бы что-то вроде памяти о той образности, которая сопутствовала их приключившемуся появлению? Оставшись вне контакта с некими объектами, рождающими мысли о каком-либо пережитом участке существования из прошлого, чего лишаешься и что теряешь, что именно переходит в область недоступности, о чём впору с реальной обоснованностью пожалеть? Память вообще столь непростой объект, особенно если рассматривать всё с точки зрения философских рассуждений. Одни готовы радоваться дарованию нечто рассуждать, других неспособность сохранить в памяти даже как покажется простейшее пугает, и на первый взгляд вполне реально, обоснованно пугает. Когда в сознание повисает осознание, что было, ранее вполне доступное вполне легко открывалось по, казалось бы, случайному, первейшему запросу, а теперь забыл, и вот, как результат имеем, доступа к ранее такому вроде бы обыденному и из разряда, ну, почти что повседневного почти что не осталось. Как тут не удручится самым переполненным печалью образом. А тут ещё и возраст, когда пополнение новым резко скудеет – старое уходит и с пополнением, пусть даже присутствует тяга всё это новое ещё и забывать, весомые нелады. Здесь впору было бы взглянуть на суетность влияния технических объектов – действительно, перемены здесь могут протекать достаточно активно, но столь ли многое потом, после контактов, сохраняется в памяти, да ещё и с претензией возможности при всплеске некого воспоминания оказания какого-либо, хоть какого-то влияния на некогда подобным пользовавшегося? Устроено всё так, что нет возможности подвисать на месте – новое с настырностью сменяет старое, и то, что ныне может почитаться новизной, совсем немного времени проходит и устаревает, но что более иного здесь влияет на ничтожность зависимость образности в какой-либо форме от такого рода воздействия – присутствует не столько ожидание действия от самого предмета (этому положено действовать так или иначе), сколько качественности от самого действия. Предмет потому и заменяют, потому, что действия начали исполняться недостаточно удовлетворительно и в самую пору пришло подобное на нечто более новое заменять. Тут и долгую жизнь в эксплуатации не проживёшь и память о себе как о трудившейся на кого-либо вещи сомнительно что оставить сумеешь.
А, между прочим, случай показательный случился-приключился – по ходу движения женщина узнаёт, и встречно узнавшую узнаёшь, понимая сознанием, что нечто длительное должно в прошлом связывать, но вот ответить с уверенность, что именно, никакой возможности не обнаруживается – память дальше простого узнавания определённо имевшего неоднократную возможность попадаться в прошлом на глаза образа, что-либо более конкретное выдавать отказывается для опознания категорически. Как результат вот так, словно завис между необходимостью признать некую прошлую общность, нечто объединяющее, и невозможность подкрепить такое признание пониманием, на чём же такие ощущения единства в прошлом могут быть реально обоснованы.
Теперь можно написать несколько строк о том, что тогда открылось в плане внешней зрелищности того, как должен представляться образ, что всех молящихся, что всех, на кого всеми такими молящимися и совершаются все такого самого разного рода моления. Учитывая, что описания, это, всё-таки, далеко не устная речь, картинка может получиться весьма любопытная. И так, первое и основное, базовое, что ложится основой на восприятие – прежде всего, следует чётко понимать, что даже в самом лучшем случае эта картинка образности тех, в чью сторону направлены эти самые моления, и образы, что и высвечиваются, собирая в себе весь этот духовный Свет от молений, оформляются самые разнообразные. Полагаю, здесь в самую пору напомнить о главной открывшейся основополагающей истине – самое главное всё-таки не так вот высветиться благодаря направленному в сторону почитающегося образа, каким-либо вариантом оформленного моления, главное, всё-таки, добиться, чтобы собственный духовный Свет исходил, и именно этим оказался при духовном общении Светел. Именно это означает подарить собственный Свет. Что же до тех, что светлы образом через молитвы других, то тут что можно первое сказать из приходящего – даже если это в прошлом жившие, и не звери, ставшие центром для моления, и не расписанные камни-палки какие-нибудь, в любом случае эти жившие как жили телом своим, так уже умерли, и благодаря молитвам высвечивается там оставшийся после случившейся жизни получившийся образ, который более, раз смерть пришла, развития дальнейшего не имеет. Вот и выглядит планета в глазах Творца этаким скопищем всполохов, поднявшихся духовно может быть и повыше обычной обыденности, но, в самом лучшем случае, собирающих моления живущих, чтобы стараться донести, не осознавая смысла и сути происходящего, призывы молящего до сознания Высшего. Кстати, если представить сколь разнородным должен выглядеть такой ёршик, там же пусть мелочными, но всполохами должны проступать представители самой различной всячины, на какую только не молятся на планете, и как только представишь, какая образность там только не проявится, так просто оторопь берёт. Но и самые наиболее ярко и полно собирающие на свой образ поток страждущих обращений, если задуматься, как подобный образ начнёт выглядеть при подобном освещении? Ведь при подобной постановке вопроса такой центр молитвенного внимания должен собирать на своей персоне внимание тех самых живых, участие этих живых, свет жизни живущих должен становиться, от малого к многому, тем огнём, которым выявленному подобным вниманием и гореть? А вот что с тем огнём? Насколько он всё-таки именно огонь, а насколько столь необходимый для посмертного проявления своего сформировавшегося при жизни образа, столь необходимый Свет? Об образе говорят всё-таки светлый, не пылающий, и вместе с тем те слова про икону среди пламени – и это всё не в виде некой формы наказания. Если не брать в расчёт христианских религий, изначально обратившейся лицом к почитанию образности неких святых людей, у остальных обычно в наличии какой-то один образ, который обычно богом и называют, и которому обычно как этому самому богу и поклоняются. Можно попытаться расставить по позициям – кто и где и в каком виде будет располагаться. На первых позициях при рассмотрении вопроса выходят, вне сомнения буддисты с христианами. У мусульман позиции уж если и отстанут, то уж точно не на много, и в основном всё только потому, что непосредственного образа для поклонения у них нет – ниша в храме с чем-то, что в лучшем случае напоминает звёздное небо. Здесь почитается Аллах и славословия поют Аллаху, и образ Высшего при молении у каждого, как надо понимать, свой, и потому, пусть это моление и рождает перед ликом Создателя лишь нечто тёмное и не имеющее очертаний, такой образ обращения наиболее близок к обращения именно к Всевышнему, а не через кого-то ещё к организующему всё Творцу. Что касается непосредственно Христа и Будды, каждый из них несёт обязательства в отношении тех, что в процессе вознесения своих молений обернулись лицом в сторону, что одного, что другого. Одинаковых людей не бывает, люди по характеру, по своей организации, чувствам, пристрастиям, тем приоритетам, что тянут в разную сторону крайне разняться. На это всё можно влиять, можно стараться воспитывать людей, указывать на нечто, что с точки зрения, личной либо общественной, будет выглядеть более интересным, приоритетным, приглядным, хоть как-нибудь лучшим, но при любом стечении обстоятельств человек поступит так, как посчитает лучшим для себя, исходя из собственных выводов, но вот то, что при этом он почитал именно определённый образ божественным и ведущим по пусть и довольно скользкому пути может сыграть с обладателем подобного образа довольно злую шутку. С одной стороны, трудно найти того, кому не возносили бы моления, и кто не угрожал бы всем молящимся воздать всем провинившимся после смерти чем-то жутким в адском пекле. И вместе с тем со всеми этими посмертными наградами и наказаниями всё настолько зыбко-неправдоподобно смотрится, что, как можно обратить внимание, в последнее время, при затрагивании темы, те, кому всё-таки приходится об этом говорить, стараются, в меру возможности, детализации при рассуждении на этом фронте избегать. Те фразы, всё о том, что может этим дали там приблизится к Всевышнему, но видимость такая, что теперь за то таким избранникам в огне пылать, довольно показательна. Что там с огнём сказать по-прежнему довольно сложно, но тут идея в чём проступает – стал концентратором молений многих, похоже, надобно нести ответ и за грехи таких молящихся, смотрящих ликом на определённый образ. И может там и не горит, а пламенеет вместе с теми, что горят, ища спасение для веривших, но есть предпосылки и весомые предположить, что это далеко не самая приятная забава. Есть зрелище Иисуса в чреве огненного пламени, которому, для спасения, необходимо протянуть туда руку, ещё есть прорисовка образа Будды, при которой сидит сей центр молений именно закрыв глаза, потому, что представляет из себя там, где сидит, островок спасения, сидящий именно с закрытыми глазами, среди бушующего, ослепительного моря пламени и света, к которому из этого моря пламени и света со всех сторон ища спасения тянутся страждущие. Вообще всё это крайне, необычно любопытно, только при том не надо забывать, что у молящихся и других центров молений точно уж хватает, и с избытком. А с этими то что? Тут, кстати, различных из индийского набора показали, словно попрёк звучало – а что о подобном можно хоть чего-нибудь сказать, когда в подобном религиозных устремлениях-толкованиях-молениях не понимаешь ничего? Кто здесь, с чего, к кому, зачем взывает, что просит при своих воззваниях? Поди-ка объясни такое хоть кому-то постороннему! Хотя, с другой стороны, все молящиеся в воззваниях своих обычно однотипно одинаковы и просить свойственно что-то, способное обрадовать и даровать проблески ощущения счастья себе любимому или своим родным. Конечно, есть моления и за иных, но это проблески участия уже и уровнем сознания повыше, и искренность в таких воззваниях обнаружится далеко не часто. О чём ещё здесь можно попытаться рассуждать? О тех, кто молится на в изобилии раскрашенную палку, которой было выдумано и присвоено при изготовлении что-то вроде некого, не оставляющего в покое сознание образа, или образ некого зверья, которому так же, путём брожения бурной фантазии присваиваются черты некой эпической в возможностях и проявлениях личности? Прежде всего, что можно ожидать в плане появления пред ликом Создателя, когда подобные моления совершены, что именно за образ должен возникнуть перед Высшим Взором после свершения подобных ритуалов, и как всё это нечто уж воистину по меньшей мере трудно объяснимое должно представить тех, кто совершал подобные моления? Как надо понимать, жизни за спиной подобного творения фантазии нет, а если есть, то это жизнь какого-то животного, прожившего жизнь обитателя природы, вследствие чего существование подобного образа обыденно лишено мыслей, здесь инстинкты, чувственные, именно из пожеланий, направляющие хоть куда-нибудь позывы, однако, что за позывами начнёшь в подобной ситуации руководствоваться, когда остался только проступивший образ, тела нет, и потому всё, что когда-то привлекало и вело по жизни, как голод, холод, страсти инстинкта размножения, всё это в принципе не применимо, но зато, последствием таких молений, становится весьма высокой вероятность, что самым непосредственным образом заполыхаешь от огня таких молитв. О том, чтобы тут оформилось сознание, целенаправленно просящее нечто для кого-то из молящих так даже рассуждать немного несерьёзно – в случае животном здесь следует ждать рёв страдальца, не понимающего, как же выбраться из столь нешуточной перипетии и вновь вернуться в мир простых запросов и ответов, где можно просто есть и бегать размножаться. Там где моления на палку или камень, которым был присвоен образ, выдуманный изначально, тут следует подумать о другом. Образ, способный как-либо ответить на моления своим участием рождает жизнь, но выдуманные пугала, какими бы там свойствами не наделяла всё это фантазия молящихся, подобными страшилками как были, так и остаются – тут сколько не старайся, а за грань отпущенного не уйдёшь. Другое дело если кто-то из уже проживших и пожелает воспользоваться таким образом выдуманного и порождаемого фантазией пугала для удовлетворения своих возникших и далеко не лучших интересов. И здесь, если попытаться присмотреться, можно обнаружить далеко не столь уж мало любопытнейших нюансов. Прежде всего, пугало, названное богом, на которое проводятся моления – это одно, обычно у таких раскрашенных страшилок и история не столь уж малая, уходящая во времена почти что первобытные, да и моления такого рода чаще всего передаются именно семейственно, то есть религии такие если и распространяются, то именно наследственно. Если не брать в расчёт поклонений дьяволу, где чаще всего за основу берётся изображение именно козла, и распространение поклонения если и идет, то скорее по принципу личного-индивидуального противопоставления в жизни тому, что делают другие, то прочие образы из которых большинство обычные церкви скорей всего способны назвать демоническими, как раз этим и отличаются, что чаще всего распространяются по принципу – наши предки подобному поклоняются, вот и мы поклоняемся. То есть, образ пугало со всеми приписанными ему выкрутасами создаётся давно, уж во всяком случае задолго до тех, кто на определённом периоде совершает свои ритуалы своего, и как тут втиснуться, сконцентрировав на своём посмертном образе последствия подобного ритуала пока не очень понятно. На данном фронте более приемлемой выглядит ситуация, при которой само порождение такой фантазии, оформившейся в виде подобного пугала, уже происходила не без стороннего участия такого вот, некогда жившего, скончавшегося, не достигнув в развитии духовном слишком высоких результатов, но увидевшего в подобном сотворении божка для убогих сознанием возможность наполнять образность свою столь желанным свечением. Один вопрос, что за Свет при подобных выкрутасах будет наполнять образ подобного рода? Сколь наполнит такое Светом, огнём, всё равно – ведь подобные молитвенные отщепенцы обычно крайне бедны на молящихся, да и образ, что даруется таким молящимся при их молении – каким образом такое отразится на образе кого бы то ни было, кто бы ни пожелал подобным воспользоваться? Здесь, кстати, можно вернуться к накладыванию собственного образа, тенью ложащегося на то, что создашь. Такая палка или камень, согласно фантазии молящегося на нечто подобное наделённые каким-нибудь особым могуществом, по сути своей, то же творчество, образ создававшего должен оставаться на том, что оказалось подобным образом создано. Но это сразу же намекает и на обратный эффект – если даже у такой палки или камня нет в основателях образа из демонических, творившего всё это целенаправленно и помогавшего неким сторонним воздействием возникновению такого рода религии, сам подобный вариант результата чьих-либо молений должен по определению порождать, с одной стороны, как результат концентрации такого света жизней, возникновения чего-либо безликого, но пылающего, с другой стороны, стороны возвращение подобного пламени тем, кто потрудился над творением подобного, а это уже намекает уже на тот самый обратный эффект – принятие образа тем самым адским горением-пламенем, о котором так много и самым разным образом сказано. То есть, творцы таких демонических палок горят в Свете молений обращающихся к подобному? Что ж, впечатляет. Но что тогда там с Иисусом? Когда сотворивший образ несёт такой ответ за сотворенный образ, что же там тогда с теми, кто молится на распятие? В чём тут вина тех, кто видит в подобном спасение? Или тут важное значение имеет направленность мысли – Иисус, на кресте ли, или не на кресте, это всё же не пугало, тут, скорее, намёк на некое начало как раз неких формул добра? Ну, ладно, развернём полотно – молится на распятие дело не просто обычное, распятие чуть ли не у каждого на шее висит. Если касаться вопроса построения образа, то какого именно образа, и что же за след от образа участвовавшего в подобной постройке при таком понесёшь отпечатком? Да ещё когда подобный результат в процессе моления богом назвал? (Кстати, а именование богом это признание состоявшегося результата такого творения? Или лиши обращение к желательному, мол, пусть станет? Минору из храмов у православных никто не изгнал, так что ситуация может рассматриваться как двойственная.) Теперь представим образ, который по результату должен возникать перед Высшим Обличием. Что могут породить моления на изображения распятого трупа на кресте, висящего с дырками на теле свесив голову на строну и не смотрящего в глаза ни одного из молящихся? Образ Иисуса, теперь всем знакомый, с открытыми глазами, как-то спонтанно быстро распространился во времена распространения картин средневековья, а до этой поры? Евангелие говорит о появившемся теле с дырами от того самого распятия, но оно хотя бы общалось с этими самыми учениками и ни один не жаловался потом на отсутствие взгляда. Наполнение светом и вознесение, всё это здорово звучит в описании страждущих, а там, где подобному телу проступать после подобных молений, там что за образ, наполненный светом молений молящихся верующих должен возникнуть как результат? При этом каждый твердящий молитву участие духом и образом принят в создании чего-то такого, что, как результат, после всех таких трудов получилось. Вот и гадай теперь, в огне результат такого творчества, или всё же, согласно наполнению Светом и вознесению, этим самым Светом объят, и от того, уверовавшие и молившиеся тоже частицей Свет подобный частью духовного облика своего от такого своего центра молений всё-таки переняли?
Напомнить себе про важность присутствия взгляда со стороны объекта, в сторону которого и происходит моление? Возможно подобное было бы немаловажно. И здесь полезно было бы воскресит в памяти, что распятие, да и изображения довольно многих святых ни на кого не смотрят – подумать об этом, возможно, не помешало бы. (у демонического творчества обычно с глазами смотрящими даже избыточное изобилие, только глаза эти зачастую не всегда человеческие) И тут вопрос любопытный вроде бы в самую пору задать – а через только ли глаза формируется образ мира вокруг? Казалось бы, нет, тут, по всем признакам, телу целиком впору бы постараться. Другое дело, что глаза на этом фронте работ наиболее значимы, им предлагается в первую очередь привнести образ, который впору формировать именно внешним, рисующим все очертания Светом. А что за глаза нарисуют-представят живущему то, что очертит-представит сознанию внутренний Свет? Этот самый Свет жизни? По всем признакам, именно опираясь на подобный рисунок оформленья достигнутого и начнёшь развиваться. Так что здесь за глаза здесь такие – сознательное-особое осмысление происходящего, особенный, должным образом изменяющийся чувственный фон восприятия происходящего в целом?



