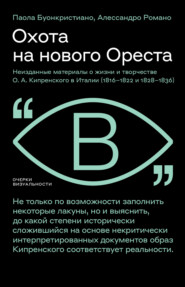
Полная версия:
Охота на нового Ореста. Неизданные материалы о жизни и творчестве О. А. Кипренского в Италии (1816–1822 и 1828–1836)
В ответном письме из Рима от февраля 1819 года Батюшков писал: «[Кипренский] делает честь России поведением и кистью: в нем-то надежда наша!»196 Все это доказывает, что уважение, которым пользовался Кипренский, не стало меньше; отсюда следует, что инцидент с Маргеритой или не стал известен в России – потому что, если русские власти были бы о нем осведомлены и в случае оправданности подозрений, это несомненно имело бы последствия – или, что более вероятно, члены русской колонии в Риме сочли художника совершенно непричастным к этому делу.
И более того – если Кипренский, как сообщают Иордан и Гальберг, действительно был так расстроен обвинениями злоязычных соседей, поскольку трагедия произошла под крышей его дома, то по какой причине он продолжал жить на Виа Сант-Исидоро еще три с половиной года? Не было ли в этом случае разумнее поискать квартиру в другом районе? Трудно поверить в то, что Мазуччи потерпел бы в качестве жильца человека, подозреваемого в убийстве. С другой стороны, если Иордан верно передал объяснение, данное этому инциденту самим Кипренским в 1830‐х, зачем художнику понадобилось преувеличивать подробности в утверждении, что Одоардо умер от сифилиса и что только поэтому он сам не был оправдан? Кроме того, что болезнь слуги была обыкновенной гонореей, которая очень редко заканчивается летальным исходом, мы точно знаем, что обвиняемый оставался жив и невредим до конца июля, то есть через четыре месяца после трагедии. Потом его следы теряются, но все-таки дело было закрыто, и даже если Кипренский, не имея больше сведений об Одоардо, считал его умершим, это никак не могло изменить того, что художник был оправдан следствием.
Но если виновен Одоардо, а преступление было предумышленным, было бы естественно предположить, что слуга попытается переложить вину на Кипренского, поскольку тот иностранец и иноверец. Он, однако, этого не сделал, как не сделал и Винченцо, даже под угрозой тяжелых последствий в случае изобличения лжесвидетельства. И далее, с какой стати Одоардо стал бы оказывать помощь любовнице, серьезно пострадав при этом и сам? Может быть, потому что он раскаялся, увидев, что потерял контроль над собой, и последствия превысили первоначальные намерения? На самом деле некоторые подробности показаний Одоардо не сходятся: в первой версии ничего не говорится ни о плате за услуги, ни о свидетеле их связи (некая Анна-Мария)… И мог ли Одоардо притащить два кувшина воды в своих обожженных руках?
Необходимо, однако, заметить, что мысль покарать Маргериту посредством ожога интимных частей ее тела как символа ее непобедимой страсти к Одоардо или как причины заразы, представляется очень странной, если не «готической» в духе романа ужасов. Если бы Одоардо хотел ее физически устранить, не было ли более естественно просто сбросить ее с крыши? Это дало бы ему возможность замаскировать преступление, появиться только в благоприятный момент и, возможно, придать больше вероятности своей непричастности. Из документов вырастает образ не очень-то нравственного человека с ограниченным умом, что вполне соответствует нелестной аттестации, данной ему Мазуччи уже на первых страницах дела, но это в любом случае позволяет увидеть в слуге Кипренского не столько убийцу, сколько неприятного субъекта. Странно и то, что в конце концов его мотивы не были до конца расследованы: убийство до некоторой степени объяснимо, если только версия Иордана правдива и мужчина находился в затруднительном положении (в целом это укладывается в представление о мести по принципу «око за око»), – но в итоге его поступок выглядит все же легкомысленным и чрезмерным в свете известных нам теперь фактов.
Однако есть один момент, который, как кажется, следователи недооценили: это беременность Маргериты, мимоходом отмеченная как второстепенный факт. Частое отсутствие мужа и двухмесячный срок беременности поневоле заставляют подумать о том времени, когда любовники еще встречались, а отсюда недалеко до заключения, что отцом не родившегося ребенка должен был быть Одоардо. Допустив, что Маргерита уже знала о своей беременности, можно предположить, что она пыталась использовать это обстоятельство, чтобы шантажировать Одоардо: вполне вероятно поэтому, что его неловкая попытка имела своей целью не только наказать Маргериту, но и спровоцировать выкидыш и таким образом избавиться от нежеланного последствия их связи.
Теперь остается с известной осторожностью принять во внимание то, что происшествие может быть истолковано как несчастный случай. Хотя у Маргериты, по всей вероятности, имелись причины для супружеской измены, поскольку муж ею пренебрегал, хотя ее конец был достоин сожаления и, конечно, ею не заслужен, хотя отношение соседей к ней никак нельзя назвать заботливым и сочувственным, неоспоримо одно: показания свидетелей единодушно выставляют ее безрассудной и не очень-то щепетильной женщиной, одержимой страстью к Одоардо. Маргерита оставляла полуторагодовалого сына одного в доме, лазила по крышам с риском для жизни, а когда любовник положил конец их связи или, во всяком случае, запретил ей приходить к нему, она отказалась принять его решение и не сумела пережить разрыв. Винченцо назвал ее «infanatichita» (одержимой). Вполне возможно, что она не отдавала себе отчета в том, что сама подожгла свою одежду, поставив свечу в опасное место, когда разбирала черепицу, чтобы освободить проход с крыши на чердак.
К сожалению, в подшивке документов отсутствует указание на то, что Барбиеллини был подвергнут вторичному допросу, который мог бы снять противоречия в показаниях, подтвердив наличие или отсутствие свечи, и тем самым поддержать вышеизложенную версию или полностью ее опровергнуть. Но, вероятно, у дознания не было оснований счесть его авторитетным свидетелем: его порядочность вызывала сомнения, поскольку в качестве издателя и книготорговца Филиппо Барбиеллини из‐за своей безнравственности и склонности к мошенничеству попадал в двусмысленные ситуации по меньшей мере дважды, становясь центральной фигурой довольно шумных скандалов197. С другой стороны, если платье женщины было подожжено с чердака и без участия легковоспламеняющихся веществ в тот самый момент, когда она спускалась на него с крыши, вполне вероятно, что Маргерита могла бы почувствовать это сразу и потушить огонь или сбросить одежду. Но если, напротив, она прикоснулась платьем к свече и платье загорелось за несколько мгновений до того, как она это заметила, огонь имел время разгореться. А свеча могла просто соскользнуть с крыши вниз и потому не была обнаружена.
Но для более основательных выводов принципиально важно иметь более точное представление о месте происшествия. Истинное несчастье заключается в том, что письмо Джозефа Северна, описывающее квартиру Кипренского, не содержит никаких сведений о верхних помещениях и чердаке дома.
Тем не менее следует указать на определенные лакуны и непоследовательность в материалах дела. Прежде всего, к нему не были привлечены трое ключевых свидетелей, то есть сам Кипренский, соседка-француженка, которая, согласно показаниям Мазуччи, была хорошо осведомлена о происшествии, и соседка жертвы, Анна-Мария. Эта последняя могла бы прояснить некоторые существенные пункты, как то: получала ли Маргерита деньги от Одоардо за свои любовные услуги, как утверждал этот последний, или он просто платил ей за стирку его одежды, оставляла ли она в доме маленького сына одного без присмотра, когда уходила на свидания с любовником, и, главное, была ли в ее доме хоть одна жаровня – улика, которая должна была бы иметь решающее значение для следствия.
Далее, следует отметить, что упорство следователей, четырежды допрашивавших Винченцо, является совершенно необъяснимым – потому что он был единственным свидетелем, который отсутствовал во время случившегося несчастья, и это никак не согласуется с отсутствием протокола вторичного допроса такого важного свидетеля, как Барбиеллини; нет необходимости повторять, что это он, согласно показаниям соседки-испанки, залил водой горящую одежду Маргериты, тогда как Одоардо приписывал это себе (по показаниям Винченцо они это сделали оба); неясно, был ли осуществлен доскональный осмотр места происшествия – крыши и улицы в непосредственной близости от дома, в результате которого, возможно, была бы найдена свеча, принесенная Маргеритой; с другой стороны, не было обращено внимание на тот факт, что спустившаяся на чердак женщина увидела Одоардо с «горящей лампадой» в руках; наконец, как уже было упомянуто, возможная цель спровоцировать выкидыш не была признана отягчающим вину обстоятельством, несмотря на то что по закону виновный в убийстве беременной женщины считался и виновником причинения смерти по неосторожности ее плоду198.
Еще больше были недооценены, или кажутся недооцененными, потенциальные осложнения, вытекающие из противоречий в показаниях Одоардо: речь идет о двери, которая вела из его комнаты на другой чердак. Если в первых показаниях он сообщил, что должен был взять ключ, чтобы открыть дверь на чердак и войти в нее для оказания помощи Маргерите, то во вторых утверждал, что двери чердаков всегда были открыты; что же касается того момента, когда на месте происшествия появился Кипренский, то сначала Одоардо показал, что он встретил хозяина на лестнице, когда спускался за водой, и вернулся вместе с ним на чердак, впоследствии же говорил, что хозяин побежал на чердак один, когда услышал крики женщины.
В этом деле есть еще двое свидетелей, блещущих своим отсутствием: во-первых, это приходский священник церкви Сант-Андреа делле Фратте, падре Луиджи Мария Канестрари из ордена минимов Сан-Франческо ди Паола, теолог из Марке и довольно известная в Риме того времени фигура199. Кто же, кроме приходского священника – лица, ответственного за составление подушных списков, духовного стража и наставника жителей его прихода, мог бы лучше произнести беспристрастное суждение относительно безупречной нравственности некоторых фигурантов дела, в частности, Кипренского, которого Канестрари, конечно, должен был знать? Во-вторых, это медик, лечивший Одоардо, поскольку для следствия сведения о состоянии его здоровья – то есть действительно ли он страдал гонореей, – несомненно, оказались бы полезными.
Далее, нелишне было бы уделить больше внимания единственному официальному донесению о происшествии, отчету префектуры Колонна, составленному 1 апреля. Согласно показаниям Мазуччи, к тому времени, как он пошел в префектуру Колонна, представители власти уже были в курсе дела и приняли необходимые меры для предварительного осмотра места происшествия; из свидетельских показаний Винченцо также следует, что ранним утром на место происшествия явился инспектор районной полиции. Учитывая то, что даты протоколов, содержащихся в следственном деле, за исключением показаний Маргериты, начинаются со 2 апреля, когда в госпитале был допрошен Одоардо, который тогда не сообщил ни о жаровне, ни о свече, мы должны задаться несколькими вопросами: кто столь быстро успел проинформировать префектуру Колонна о несчастье? И кто именно подразумевается под «сведущими лицами», от которых префектура получила содержащиеся в отчете сведения? Безусловно, ими не могли быть ни госпитализированные Одоардо и Маргерита, ни Винченцо, ни сам Мазуччи. И как случилось – если верить утверждениям, что в квартале судачили о причастности Кипренского к этой трагедии и о его предшествующей связи с Маргеритой – то, что в отчете об этом не упомянуто ни словом? И почему, если «глас народа» твердил о нападении на бедную женщину, это не было принято во внимание и причиной несчастья была сочтена свеча, принесенная Маргеритой?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Глушакова Ю. П. Публикации новых источников о русских художниках конца XVIII – первой половины XIX века // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.): Сб. статей памяти В. И. Буганова. М., 2001. С. 267.
2
Buoncristiano P. L’Imperatore e la modella. Artisti russi, modelli romani. Nuovi materiali. Roma, 2017.
3
Глушакова Ю. П. Публикации новых источников. С. 270. Об этом см. также: Турчин 1975. С. 7–8, 10.
4
Биография 1840. С. 27. Этот отрывок не включен и не цитируется в антологии заграничных дневников и писем Гальберга, вышедшей в 1884 году под ред. В. Ф. Эвальда.
5
См. предисловие составителя в кн.: Записки Иордана 2012. Первая публикация появилась в 1891 году в журнале «Русская старина» (т. LXIX–LXXII); вторая вышла отдельным изданием в Москве в 1918 году под редакцией коллекционера и искусствоведа Сергея Петровича Виноградова.
6
Там же. С. 156.
7
Provincia di Napoli. Comune di Napoli. Circondario Chiaia. Atti dello Stato civile. Atti de’ morti. I Supplemento. 1837. № 919 (https://www.antenati.san.beniculturali.it/detail-registry/?s_id=17235637).
8
Provincia di Napoli. Comune di Napoli. Circondario San Ferdinando. Atti dello Stato civile. Atti de’ morti. 1837. № 1278 (https://www.antenati.san.beniculturali.it/detail-registry/?s_id=17751424).
9
Юрова Т. В. Михаил Иванович Лебедев. 1811–1837. М., 1971. С. 99–108.
10
См. об этом также: Дабижа В. Д. Княгиня Наталия Дмитриевна Корсини, княгиня Сисмано, герцогиня Чизильяно, маркиза Лаятико, маркиза Трезано, рожденная Акацатова. СПб., 1895.
11
Толбин В. О. А. Кипренский // Сын отечества. 1856. № 35. С. 180–185.
12
Бочаров/Глушакова 2001. С. 230. В частности, авторы имели в виду записки Ф. И. Иордана.
13
Петрова Е. Н. Орест Кипренский в зеркале источников // КПДС. С. 9–11.
14
Дружинин А. В. Повести. Дневник. М., 1986. С. 258.
15
Толбин В. О картине господина Иванова // Сын отечества. 1858. № 25. С. 710–713.
16
Tourgueneff I. Lettres à Madame Viardot / Publiées et annotées par E. Halpérine-Kaminsky. Paris, 1907. Р. 183; об этом см. также: Пунина И. Н. Русская художественная критика о выставке в 1858 году картины А. Иванова // Проблемы развития русского искусства: Тематический сб. научных трудов. Вып. 9. Л., 1977. С. 38.
17
Толбин В. Ф. А. Бруни и его значение в русской живописи // Сын отечества. 1856. № 21, 23, 24.
18
Об этом см.: Половцов А. В. Федор Антонович Бруни. Биографический очерк. СПб., 1907. С. 1, 86; Верещагина А. Г. Федор Антонович Бруни. Л., 1985. С. 241–242.
19
Принцева Г. А. Николай Иванович Уткин. 1780–1863. Л., 1983. С. 6; см. также: Ровинский Д. А. Николай Иванович Уткин, его жизнь и произведения. СПб., 1884. С. 2.
20
В. Т–н [Толбин В. В.]. Н. И. Уткин и Ф. И. Иордан // Северная пчела. 1860. № 4. 5 января. С. 16.
21
Принцева Г. А. Н. И. Уткин. С. 134–135. О возможности совершить путешествие в Европу для поправления здоровья гравер ходатайствовал в Академии художеств в 1856 году (Сборник материалов для истории Императорской С.-Петербургской Академии художеств за сто лет ее существования / Сост. П. Н. Петров. Ч. III. 1842–1864. СПб., 1866. С. 265).
22
Толбин В. Испанская живопись // Пантеон. 1853. Кн. 1. Январь. Отд. II. С. 32.
23
Архив Брюлловых / Ред. и прим. И. А. Кубасова. СПб., 1900. С. 24–25.
24
Биография 1840. С. 27.
25
Воспоминания академика П. П. Соколова. I–VI // Исторический вестник. 1910. Т. CXXI. Август. С. 400–401.
26
Толбин В. Кипренский. С. 181; IV: 738.
27
Рукописный отдел ИРЛИ РАН. Ф. 583 (Старчевский А. В.). № 722. Л. 7 (цит. по: Петрова Е. Н. Кипренский в зеркале источников. С. 10).
28
Кроме всего прочего, Иордан с 1853 по апрель 1854 года снова жил в Италии, что позволяет определить время его предполагаемого сотрудничества с Толбиным как несколько месяцев, прошедших с момента возвращения художника в Россию и публикации очерка Толбина; в это время в жизни Иордана произошло много важных событий, и он был обременен многочисленными обязанностями (Записки Иордана 2012. С. 281–301).
29
Толбин В. Кипренский. С. 184; IV: 740.
30
Эти разночтения не являются результатом редакционного вмешательства при первой публикации письма ([Кипренский О. А.]. Письмо из Рима // Сын отечества. 1817. № 46. С. 22–24), и нет оснований полагать, что письмо было известно Толбину в итальянской версии его текста (такое объяснение можно найти в статье: Петрова Е. Н. Кипренский в зеркале источников. С. 10).
31
Тем, кому это предположение покажется абсурдным, мы могли бы напомнить, что за несколько лет до Толбина Поль де Мюссе вставил несколько апокрифических писем Карло Гоцци в свой перевод «Бесполезных мемуаров» итальянского драматурга (Mémoires de Charles Gozzi, écrits par lui-même. Paris, 1848. Р. 184–188, 298–299; об этой сознательной мистификации см. предисловие редактора Дж. А. Саймондса в изд.: The Memoirs of Count Carlo Gozzi. London, 1890. Vol. I. P. 24, footnote 1).
32
Публикации новых источников. С. 271–280.
33
Живопись 1988. С. 30–31.
34
Для сравнения: в 1818 году немецкий художник Юлиус Шнорр фон Карольсфельд получал годичное содержание в размере 210 римских скудо (Briefe aus Italien von Julius Schnorr von Carolsfeld, geschrieben in den Jahren 1817 bis 1827. Ein Beitrag zur Geschichte seines Lebens und der Kunstbestrebungen seiner Zeit. Gotha, 1886. S. 93).
35
Boieldieu [F. A.]. Notes et fragments inédits publiés par Emile Duval. Génève, 1883. P. 19 (Эмиль Дюваль, редактор этого издания, был внучатым племянником Ж. Ф. А. Дюваля).
36
Среди имен иностранцев, прибывших в Любек 15 июня 1816 года, находим «Duval und Kipsinsky [sic!]» из Петербурга (Lübeckische Anzeigen. 1816. № 49. 19 Juni. P. [7]).
37
Михайлова К. В. Кипренский в Женеве // Новые материалы 1993. С. 49–56; Петрова Е. Н. О Кипренском в Женеве // Русское искусство. 2005. № 3 (http://russiskusstvo.ru/journal/3-2005/a717/).
38
См. об этом: Dei giuochi olimpici della Grecia e dei circensi in Roma. Delle regate in Venezia. Delle corse di bighe e de’ fantini a cavallo ed a piedi in Padova e degli spettacoli nell’Anfiteatro dell’arena in Milano dal 1807 a tutto il 1834. Milano, 1836. P. 23.
39
Gazzetta di Milano. 1816. № 284. 10 ottobre. P. 1124.
40
См. http://www.aadfi.it/accademico/hitroff/.
41
Biblioteca civica di Bassano del Grappa. Epistolario canoviano. V.521.3531; цит. по: Canova A. Epistolario (1816–1817). Vol. I. 1816. Roma, 2002. P. 478–479.
42
См. например: Quarré-Reybourbon L. La vie, l’oeuvre et les collections du Peintre Wicar d’après les documents. Paris, 1895. P. 37.
43
Biblioteca civica di Bassano del Grappa. Epistolario canoviano. X.1088.5320; цит. по: Canova A. Epistolario (1816–1817). Vol. II. 1817. Roma, 2003. P. 788.
44
Петрова Е. Н. Приключения «Автопортрета» Ореста Кипренского // Страницы истории отечественного искусства. 2005. Вып. 12. С. 63–69; Живопись 1988. С. 90–94.
45
См. https://vk.com/photo-52196838_456250656.
46
Statuti della Pontificia Accademia romana di belle Arti detta di S. Luca. Roma, 1818. P. 22.
47
Diario di Roma. 1817. № 11. 5 febbraio. P. 2.
48
Вопрос о престиже Академии, упавшем из‐за небрежного отношения к приему новых членов, особенно волновал и Викара, и Канову (Canova А. Epistolario. Vol. II. P. 712).
49
Lettere artistiche inedite. Pubblicate per cura di G. Campori. Modena, 1866. P. 392.
50
Chronologie des Teatro Valle (1727–1850), приложение к: Grempler M. Das Teatro Valle in Rom. 1727–1850. Opera buffa im Kontext der Theaterkultur ihrer Zeit. Kassel, 2012.
51
Обман зрения (франц.).
52
О нем. см.: Cazzola P. Un bolognese a San Pietroburgo. Angelo Toselli (1816–1826) // Bologna. Mensile del Comune. 1989. № 4; Il Tiberino. 1833. № 4. 9 febbraio. P. 16.
53
[D’Este G., D’Este A.]. Elenco degli oggetti esistenti nel Museo vaticano. Vol. I. Roma, 1821. P. 67; Pietrangeli C. «’na lontananza… dipinta a sfugge». La prospettiva del Toselli nella Galleria Lapidaria Vaticana // Strenna dei romanisti. 1982. XLIII. P. 404–406.
54
Beňová K., Specogna Kotláriková E. Taliansky skicár Františka von Balassu // «Bella Italia». Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí / D. Bořutova-K. Beňova (eds.). Bratislava, 2015. S. 61–65 (документ воспроизведен на с. 62).
55
Вторая жена Мазуччи, на которой он женился в 1820‐х годах после смерти первой, Терезы Мондрагони.
56
Severn J. Letters and Memoirs / Ed. by G. F. Scott. Aldershot, 2005. P. 193.
57
Ацаркина 1948. С. 119–120; Сарабьянов 1982. С. 60–62.
58
Causa S. Battistello Caracciolo. Opera completa. Napoli, 2000. P. 176–177.
59
[Мальцев И. С.]. Письмо к редактору М. В. // Московский вестник. 1828. Ч. VII. № 1. С. 130.
60
ГАРФ. Ф. 279. Оп. 1. № 1161. Л. 3 (цит. по: Lappo-Danilevskij K. Ju. Gefühl für das Schöne. Johann Joachim Winckelmanns Einfluss auf Literatur und ästhetisches Denken in Russland. Köln; Weimar; Wien, 2007. S. 161–162).
61
Из прошлого. Письмо К. Н. Батюшкова к А. Н. Оленину о русских художниках в Риме в 1819 году // Исторический вестник. 1884. Т. XVI. № 5. С. 451.
62
Diario di Roma. 1821. № 72. 7 settembre. P. 3 (III: 400–401).
63
Joh. v. F. [Passavant J. D.]. Nachrichten aus Rom (Beschluss) // Kunst-Blatt. 1822. № 18. 4 März. S. 71. Пассаван жил в Риме с 1817 по 1824 год.
64
См., например: Петрова Е. Н. Рисунок Ореста Кипренского «Аполлон, поразивший Пифона» // Страницы истории отечественного искусства. 1999. Вып. 4. С. 127–142.
65
В оригинале: «mit einer nackte Bacchantin».
66
Вот описание, принадлежащее Павлу Александровичу Брюллову и созданное почти век спустя: «на первом плане танцующая нагая вакханка (танцуя, она упирается пальцами правой ступни в землю, поднявши левую согнутую ногу), на втором плане – кусты и две или одна фигуры; вечернее небо покрыто темными тучами» (Нерадовский П. И. Выставка Кипренского // Аполлон. 1911. № 10. С. 44).
67
Новости литературные // Сын отечества. 1822. Ч. LXXVI. № 12. 25 марта. С. 229–230 (в оригинале: «Des Anstandes wegen fliegt ein leichtes Wölkchen an der Mitte des Körpers vorüber»).



