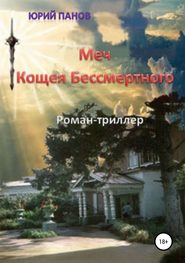 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Меч Кощея Бессмертного
Одежда мужчины однообразна. Как правило, это длинная рубаха и портки из грубого льна или посконного холста. Зимой – это малахай с наушниками, нагольный полушубок и тулуп из овчины. Полушубок подпоясывался кушаком, тулуп надевался поверх него на распашку, а сверху портков надевались суконные штаны.
Обувь, как правило, представляла собой суконные онучи и лапти. На руках носились голицы с варьгами. Летом одевалась шляпа обыкновенная, коротайка и длинный халат из домашнего серого или бурого сукна, онучи посконные и лапти. У более богатых были валенки зимою и летом – сапоги.
Одежда женщин была также однообразна. Как правило, это была длинная рубаха льняного или посконного холста с рукавами, вытканными красной бумагой. На голове носились высокие кички с рожками наверху. Многие просто подвязывали волосы. Девушки, чаще всего, покрывали голову платками, завязывая их сзади. Коса, как правило, выпускалась наружу и украшалась лентой или бисерной кистью.
Все и женщины, и девушки носили сарафаны из синего холста, обшитые спереди и по подолу ситцевой каймой. Подпоясывался такой сарафан длинным поясом с большими кистями. Запан носился из ситца изредка и вместо сарафана. На женщинах были понёвы, а старухи вообще заменяли их сукманами.
К верхнему платью женщины относили летом короткий зипун из домашнего сукна (иногда синего). Зимой – это была шуба овчинная. Из обуви чаще всего носили онучи и лапти. У более богатых были валенки или коты, называемые ещё чевчуры.
Несмотря на край, обильный хлебом и благоприятный для разведения скота, жители села имели очень незавидный стол: щи, по большей части пустые и безвкусные; каша пшённая с молоком или квасом. Коровье масло берегли на продажу, подсолнечное вообще не покупалось. Квас представлял собой кислую и мутную воду, так как варить его в селе никто не умел.
Летом в пищу чаще всего шли огурцы, арбузы, лук с хлебом и квасом. На зиму огурцы и арбузы солились, некоторые запасали понемногу картофель.
Домашнюю птицу и яйца употребляли только в праздники, в основном берегли на продажу. Собираясь летом на поля, иногда на неделю и более, крестьяне брали с собой хлеб, пшено и котёл. Из немытого пшена варили жидкую кашицу, сливали воду и ели её как суп, потом употребляли и саму кашу. Такой же стол сопровождал почти каждого мужика в дороге, так как, часто проехав более 200 вёрст, не было возможности ни разу не остановиться на постоялом дворе.
Другое дело было в редкие праздники и на свадьбах! Хлеба ржаного, хлеба пшеничного, блинов и пирогов с пшеничною начинкой нарезалось напротив каждого гостя горой. Стол покрывался большой скатертью. Затем подавались студень с квасом и хреном, щи, покрытые жиром, варёная говядина или свинина, лапша мясная и молочная. Потом три жаренных блюда: гусь, поросёнок и говядина. За ними каша пшеничная и сдобный пирог с курицей. Перед каждым кушаньем хозяин обносил гостей вином, сначала из большой кружки, потом из маленькой. Хозяйка угощала всех домашней брагой.
Следует отметить, что вследствие неурожаев или несчастных случаев классы крестьян резко меняются, и исправные крестьяне становятся бедными. Труд и терпение были самыми важными добродетели крестьянина – ими оценивается крепость сил и богатства.
В Балашовском уезде существовало три способа пользования землёй. Это крепостное владение, несколько летняя аренда и кратковременный съём. К крепостному владению землёй относятся все государственные удельные и помещичьи крестьяне, работающие на хозяев, владеющих землёй в вечном пользовании. Несколько летней арендой пользуются малоземельные помещики, дворяне и чиновники, не имеющие своей поземельной собственности, а также зажиточные крестьяне. Кратковременный съём земли относится к мещанам и крестьянам.
Цены населённых имений, продаваемых в вечное владение не за десятину, определяется от 120 до 200 рублей серебром за душу. Ненаселенная земля в среднем стоила 14-18 рублей серебром. В аренду сдают землю, исходя из срока аренды, величины участка, качества земли и др. и составляет в среднем от 1,5 до 3 рублей серебром за десятину в год (разумеется, земля, не заселенная). Цена кратковременного съёма составляет для пашни от 5 до 7 в год, для покоса от 1 до 3 в лето, для гуртов от 20 копеек до 1 рублей серебром.
Управление в селе было предоставлено так называемому сходу. Старосты были выборными. Они заведовали сбором податей, являлись блюстителями порядка и безопасности, смотрителями общественных хлебных магазинов. Также они ведали пожарным инвентарём. От старост требовалось, чтобы у каждого дома стояла сороковая бочка, всегда наполненная водой. Следили за мирской запашкой и господскими работами. Были хранителями мирской кассы. Кроме своих внутренних, сельских обязанностей, староста выполнял предписания конторы – оповещал крестьян о выходе на работу, когда наступало время уборки села или хлебов.
Дед Бориса, Даромыслов Семён Васильевич и был старостой в селе Пады в то время. А потом прекрасно влился в партию большевиков и снова был на высоте. Так что его семья и внук Борька избежали прелестей жизни в изгнании, как это произошло с Мишкой и Светкой – его друзьями…
2.
Борис повернулся на другую сторону, но сон не шёл…
… О том, что перед своей смертью в 1967 году рассказал ему Семён Васильевич, дед Бориса, пройдя Гражданскую и Отечественную войны, на костылях вернувшийся с войны без одной ноги, о том, что участвовал в сопровождении привезённого имущества в 1916 году в Нарышкинское имение. И даже показал своему внучку крестик, на котором были нацарапаны цифры «1-1-2-3-5-8-13». Эти цифры он увидел на бумаге ротмистра Сомова, тогда, в 1916 году, когда казаки привезли эти мешки в дом.
– Внучек, храни этот крестик! Он тебе пригодится, вот увидишь! – попросил дед внука, передавая ему этот крестик. – Это моя последняя воля!
Но Борька, даже и не придал этому крестику никакого значения, тем более нацарапанным каким-то цифрам…
И не вспомнил бы о них, если бы не вмешательство дефицита в его жизнь после армии…
Когда после армии Борис Даромыслов зашёл в Балашовский магазин, он испытал сильнейший шок – пустые полки! Как потом ему сказали это новое слово – «дефицит»! Дефицит – это движитель существования человека. А человек – это такое животное, которое хочет что-то достать, он хочет жить так, как ему мерещится, или то, что прочел в журнале или газете…
Рынок – другое дело! Вот здесь есть всё, что тебе хочется… Достал кусочек удовлетворения – и побежал дальше, снова на рынок, чтобы еще достать. Да и качество было замечательным! И как только возникало удовлетворение от обладания дефицитом, так захотелось делать что-то возвышенное…
Бывая в разных магазинах, Борис начал понимать, что уровень товарного дефицита в разных регионах и магазинах сильно различался.
Не сразу, но достаточно быстро Борис понял, что каждый населенный пункт в СССР, а потом и в РФ, был отнесен к одной из «категорий снабжения». Всего их было четыре: особая, первая, вторая и третья. К особой и первой категориям относились Москва и Ленинград, крупные промышленные центры, а также такие союзные республики, как Литва, Латвия, Эстония и курорты союзного значения, например, Кавказские Минеральные Воды. Жители этих промышленных центров имели право получать из фондов централизованного снабжения хлеб, муку, крупу, мясо, рыбу, масло, сахар, чай, яйца в первую очередь и по более высоким нормам.
В РФ, как и в СССР, потребители особого и первого списков составляли примерно 40% от всех снабжаемых дефицитом, но при этом получали львиную долю государственного снабжения – 70–80%. Если не считать городов-миллионников, то в среднем хуже всего продуктами питания и промышленными товарами снабжалось именно население мелких городов, сёл и деревень РСФСР.
Не сразу до Бориса дошло, что таким образом КПСС в центре покупала лояльность союзных республик. Удивляясь абсурдности плановой распределительной экономики, обильно снабжающей союзные республики даже тем, что им было не нужно, при том, что тем, кто жил в небольших городах, приходилось довольствоваться весьма скудным перечнем товаров. То же происходило и там, где располагались крупные фабрики и комбинаты: до жителей города, по крайней мере, простых смертных, продукция часто просто не доходила, так как её распределяли по другим городам области, относившимся к более высокой «категории снабжения».
– Где же был более высокий уровень жизни? – этот вопрос Борис задавал себе очень часто. И постепенно у него сформировался ответ. – В республиках Закавказья и Прибалтики!
– А как же его тогда можно повысить? – задавая себе этот вопрос, Борис наблюдал за уровнем жизни разных людей и скоро у него появился ответ. – Чем выше человек продвигался в иерархии той системы, в которой он работал (совсем не обязательно нужно было вести речь только о КПСС), тем больше возможности в этом смысле у него появлялось. Так доступ к дефициту стал одним из главных стимулов в советской системе продвижения… Особенно, если появлялась возможность выехать за границу!
– И кто же из нас имеет особый доступ к дефицитным товарам? – вопрос, который в последнее время частенько мучал Бориса. По его наблюдениям получалось, что. – Особый доступ к дефицитным товарам имели люди, которые смогли продвинуться по служебной лестнице в той или иной области или степени. Это в большинстве своём были писатели, актеры, ученые, руководители предприятий, отраслевые управленцы, функционеры. Так или иначе, их подключали к своим спецмагазинам и спецпайкам. Конечно, формально к борьбе с дефицитом подключались профсоюзы, но и они снабжали родные коллективы сгущенкой, тушенкой, колбаской и шпротами – по красным дням календаря, а еще и марокканскими мандаринами, и шоколадными конфетами – под Новый год и к «октябрьскому празднику». Обычно, глава профсоюза сочинял письмо на бланке предприятия в райпищеторг с просьбой отоварить ударников и передовиков производства продуктами с приложением списка товарищей…
– А можно ли на этом заработать? – такой простой вопрос иногда ставил в тупик Бориса, потому что напрашивался однозначный ответ. – Можно! В то время, когда одни страдали из-за хронического товарного дефицита, другие на нем зарабатывали. Нехватка определенных товаров, а также разница между регулируемыми госценами и ценами черного рынка, создавали чудовищные диспропорции в товарном обмене…
3.
Постепенно Борис начал весь дефицит, о котором мечтал любой советский гражданин, условно делить на две основные категории. Первая категория – это товары советского производства той или иной степени повседневной необходимости, начиная от колбасы и заканчивая туалетной бумагой, которую в обиходе обычно заменяли резаными газетами.
Он с ужасом внимал на то, как в те годы скупались подчистую почти все товары, включая даже те, которые в глазах современного потребителя могут показаться экзотичными.
Так в семидесятые годы была распространена мода на книги, хрусталь и фарфор. Однако при этом книги в красивых твердых переплетах покупали в основном для того, чтобы заполнять дефицитные же «стенки» (мебельные гарнитуры), придавая им «престижный вид». Зачастую дефицит имел конкретное название – модно было иметь дома товар какого-то конкретного производителя – так, в промтоварных магазинах охотились именно за чешским хрусталем, гэдээровским сервизом «Мадонна» или люстрой «Каскад» с псевдохрустальными висюльками.
С другой стороны, появилась другая категория дефицита – разного рода импортные «излишества», символы, как ее называли тогда, «красивой жизни». Это были джинсы, импортная аудиотехника, кожаные изделия. Произведенные на Западе товары в силу своей недоступности и хорошего качества повсеместно фетишизировались. Неудовлетворенный потребительский спрос доводил ситуацию до того, что советские люди (конечно, далеко не все) заполняли свои серванты пустыми, но красивыми бутылками из-под виски, жестяными пепси-кольными банками и опустошенными сигаретными пачками с изображением ковбоя Мальборо. Эти артефакты в лучших «туземных» традициях с благоговением демонстрировались родственникам и друзьям, которые зачастую не только рассматривали их, но и обнюхивали. Если человек, к примеру, появлялся на публике в импортных джинсах, он неизменно вызывал у других повышенное внимание и даже почитание.
– Понимают ли власти возникшую проблему дефицита? – не раз спрашивал себя Борис, и, видя, что творится с продуктами питания, отвечал себе. – Понимают и пробуют рядовых советских граждан обеспечивать элементарным набором товаром и услуг…
Делались масштабные закупки продовольствия, утверждалась «Продовольственная программа», ставившая задачу ликвидации нехватки мяса и, особенно, говядины, так как в пересчете на душу населения в год на советского человека приходилось 58 кг мяса, рациональная норма – 82–85 кг, по утверждению медиков.
– И что же? Смогли ли наши руководители ликвидировать проблемы продовольствия другими способами, кроме закупок? – ища ответ на такой вопрос, Борис отметил, что в какой-то степени им удалось что-то сделать. – Так ликвидация проблем с продовольствием должна была поспособствовать, и либерализации дачного строительства по мнению Горбачёва. Дачные наделы (по 3–6 соток земли) советским гражданам разрешили тогда приобретать в бессрочное пользование. Выращивать там клубнику, картошку, огурцы – в общем, заниматься «собирательством».
– А, пообещав, что к 2000 году в соответствии с Жилищной программой «каждая советская семья» будет жить в отдельной квартире или доме, Горбачёв задумал ликвидировать еще один дефицит…– усмехнулся Борис, доставая из памяти случаи из реальной жизни. – А пока граждане записывались в очередь и стояли в ней десятилетиями в надежде получить «хрущевку» – жилье эконом-класса. Не справившись ни с дефицитом продуктов, ни с дефицитом жилья, Горбачев в итоге ликвидировал страну…
4.
Афган, май 1988 года… Уже четвертый год Борис Даромыслов в составе группы войск контролирует дороги, участвует в засадах, а иногда вступает в открытый бой…
Для того, чтобы обезопасить себя от обстрела противника, практически большая часть подразделений полка были рассредоточены сторожевыми заставами и выносными постами в радиусе 2-3-х километров от штаба полка. Казармы для личного состава полка, а также все объекты полка (штаб, столовые, клуб, лазарет, мастерские, склады и т. д.) по сути представляют собой низкие укреплённые постройки наподобие землянок и блиндажей. В буквальном смысле слова – «полк был вкопан в землю». Фактически в тёмное время суток 682-й мотострелковый полк каждый раз оказывался на осадном положении. Огневые контакты с противником на сторожевых постах происходили ежедневно. Также часто происходили обстрелы территории полка реактивными и миномётными снарядами противника.
По существу, периметр военного городка полка являлся передовой линией обороны. Подобного неординарного прецедента в истории вооруженных сил СССР, когда полк фактически оборонял собственный пункт дислокации в состоянии непрекращающегося соприкосновения с противником столь длительное время – тогда не имелось.
Впервые после долгого перерыва Борис Даромыслов и Михаил Камаев встретились в январе 1988 года и не сразу узнали друг друга.
И Борис, и Михаил надолго запомнят день 7 января 1988 года… Они тогда только сменились с засады на высоте 3234 и, склонившись в три погибели на полусогнутых ногах (чтобы моджахеды не узнали), двигались к месту отдыха…
Мирно перемалывая кости своим знакомым и родственникам, они разошлись каждый по своим подразделениям: Борис – в 9 роту, а Михаил – в свою разведроту…
Тогда они ещё не знали, что афганские моджахеды предприняли атаку на высоту 3234 с целью сбить сторожевое охранение с господствующей высоты и открыть себе доступ к дороге Гардез-Хост.
Но в 15:30 на себе почувствовали это: был начат массированный обстрел высоты противником из безоткатных орудий, миномётов, стрелкового оружия, гранатомётов. Также было выпущено несколько десятков реактивных снарядов.
Противник, используя террасы и скрытые подступы, подошёл, не замеченный наблюдателями, на расстояние до 200 метров к позициям 9-й парашютно-десантной роты.
В 16:30 с наступлением сумерек, под прикрытием массированного огня моджахеды пошли в атаку с двух направлений. Борис и весь состав роты быстро заняли боевые позиции. Спустя 50 минут атака была отбита: 10-15 моджахедов были убиты, около 30 – ранены. Ближе 60 метров к основным позициям моджахеды подойти не смогли. Во время атаки погиб младший сержант Вячеслав Александров – командир расчёта крупнокалиберного пулемёта «Утёс». Пулемёт был выведен из строя.
17:35. Началась вторая атака, которая велась на участке позиции ослабленной в связи с потерей крупнокалиберного пулемета. Артиллерийский корректировщик Иван Бабенко под конец атаки запросил поддержку артиллерии (кроме полковой артиллерии 3-му пдб были выделены в усиление артиллерия от мотострелкового соединения).
19:10. Началась третья атака. Под прикрытием массированного огня из пулемётов и гранатомётов мятежники, не считаясь с потерями, моджахеды шли в полный рост. Атака была отбита.
23:10. Началась четвертая, одна из самых ожесточённых атак за высоту. Используя мёртвые пространства, под плотным огнём моджахеды подошли к склонам высоты с трёх направлений, в том числе через минное поле. На западном направлении моджахедам удалось приблизиться на расстояние 50 метров, а на отдельных участках – на бросок гранаты.
С восьми вечера до трёх ночи всего было девять атак.
3:00. Последняя атака, двенадцатая по счету, была наиболее критической по складывавшейся обстановке. Противнику удалось приблизиться к позициям на 50, а на отдельных участках – на 10-15 метров. К этому моменту у защитников фактически закончились боеприпасы. Офицеры готовы были вызвать на себя огонь артиллерии.
В критический момент к позиции 9-й пдр с боями пробился разведывательный взвод 3-го парашютно-десантного батальона под командованием старшего лейтенанта Алексея Смирнова, в котором был Михаил, доставивший боеприпасы.
– О-о-о, да это мой ангел-спаситель пришёл! – смеясь, крикнул Михаилу раненный Борис, принимая боеприпасы к автомату Калашникова.
– Поменьше болтай! – поливая из своего автомата моджахедов, ответил Михаил.
Получив боеприпасы, оставшиеся в живых вместе с разведчиками, открыли бешеный огонь по моджахедам. Это позволило им перейти в контратаку и окончательно решило исход боя. Моджахеды, оценив изменившийся расклад сил, прекратили атаку и, забрав раненых и убитых, начали отступление.
В отражении атак большую роль сыграла артиллерия, в частности три гаубицы Д-30 и три самоходные установки «Акации», которые произвели около 600 выстрелов. Корректировщик, старший лейтенант Бабенко Иван, в критические моменты вызывал огонь орудий вплотную к своим позициям.
Тогда они не знали, что за ходом боя на отдалённой высоте пристально следило командование, включая командующего 40-й армии генерал-лейтенанта Бориса Громова, которому систематически докладывал обстановку командир 345-го полка гвардии подполковник Валерий Востротин.
В результате двенадцатичасового боя захватить высоту не удалось. Понеся потери, моджахеды тогда отступили.
В 9-й роте погибло 6 военнослужащих, 28 человек (в том числе и Борис Даромыслов) получили ранения, из них 9 тяжёлые. Из разведывательного взвода два человека получили ранения (в том числе и Михаил Камаев – дважды в ногу).
Вместе они оказались потом в полевом госпитале, откуда и были отправлены на Родину…
После постоянной опасности в Афгане быть убитыми, Борис и Михаил в госпитале расслабились и погрузились в воспоминания, которыми начали делиться между собой. У Михаила было прострелено бедро и повреждена ступня правой ноги. У Бориса было прострелено плечо и грудь. Впереди предстояло долгое лечение, тем более, что информация о положении в Афгане им нравилась – всё шло к тому, чтобы выводить советские войска…
Вскоре, узнав о том, что их служба, наконец, закончилась, после выписки из госпиталя остро встал вопрос о том, чем дальше заниматься: свою Россию, которую когда-то покинули для службы в армии, они не узнавали…
Тогда и решились держаться друг друга: в Пады Борис не хотел возвращаться и решил остановиться в городе Балашове, а вот Михаил – это другое дело… Тем более, что работать он решил именно в кузне отца…
5.
– Что же получается? – задавал себе неоднократно этот вопрос Борис, пока не сформировал собственный ответ на него. – При Горбачеве советская власть фактически объявила о своей неспособности обеспечить граждан элементарным набором товаров и услуг. Обвал нефтяных цен сократил возможности для импорта, а развитие самой советской экономики только замедлялось. Было принято решение развивать «кооперативное движение» – другими словами, разрешили вкладывать в экономику нелегальные капиталы, накопленные за годы распределительной экономики тем, кто имел доступ к дефициту. Эти деньги были инвестированы в производство «вареных джинсов», закупки импортных компьютеров и видеомагнитофонов, скупку недвижимости на тогда еще абсолютно черном рынке. Почти все отечественные олигархи, владеющие сегодня миллиардными состояниями, – это выходцы из этой перестроечной эпохи…
Очередь – это была очень большая проблема… Потерять своё место в очереди было самым страшным, так как обратно пробиваться приходилось с боем.
Хоть цены первоначально где-нибудь отпускались и в магазинах появлялись продукты, но это было ненадолго. И само изобилие было обманчиво – эти товары просто не по карману. Сами цены быстро росли, поднимаясь в сотни раз, а зарплаты – лишь в десятки.
Наивные представления Бориса, считавшего когда-то, что со временем преступность в нашей стране исчезнет сама собой, к сожалению, так и остались социалистической утопией.
Так в жизни Бориса появился Суховей…
Однажды, по рецепту бабки Алёны Борис сделал несколько литров самогона и решил продать его на рынке, разлив в поллитровые бутылки. Сначала всё шло хорошо: бутылки активно продавались, поскольку он их продавал по цене, меньшей, чем была на рынке. Однако, когда их осталось одна или две, к нему подошли два крепких мужика.
– Суховей, смотри-ка, этот урод решил самогон продавать… – обратился невысокий, но коренастый парень в чёрной спортивной куртке к более высокому мужику в зелёной с красными полосами куртке. Затем повернулся к Борису и произнёс. – Этот рынок наш и тебе за продажу самогона надо с нами поделиться!
– А чё это я буду делиться? – Бориса задел нахальный голос парня. – Я вас не знаю и знать не собираюсь!
– Ладно… – тихо произнёс нахал. – Щаз узнашь!
И, схватив Бориса за руку, лихо нырнул под неё, вывернув ему руку за спину. А чтобы тот почувствовал, кто здесь хозяин, рванул её вверх. Резкая и сильная боль от выворачивания плечевого сустава заставила Бориса застонать.
– Ну, как, теперь ты нас узнал? – спросил Суховей, усмехаясь.
– Узнал… Узнал… – прохрипел Борис. – Чего вы от меня хотите?
– Вообще, мы берём только четверть с выручки… – произнёс Суховей. – Но, раз ты про нас ничего не знал, тебе придётся отдать половину…
Новый рывок руки вверх, и Борис прохрипел. – Ладно, Суховей, половину…
Рука помощника Суховея залезла в карман Бориса и достала всю выручку. Он отсчитал половину, а остальные деньги засунул Борису за пазуху. Повернулся, отдал деньги Суховею, и пошёл не спеша к другому продавцу самогона, который спешно готовил деньги.
– Торговать – торгуй, но не забывай платить! – усмехнувшись, произнёс Суховей и пошёл к соседу…
Так Борис на себе узнал, что такое рэкет…
Интересуясь «рэкетом» у знакомых, он узнал, что большинство «наездов» на кооператоров со стороны бандитов были довольно спонтанными и порой приводили к конфликтам между обеими сторонами. Кое-кто из кооператоров, не сдаваясь им, как это сделал сам Борис, пытался сопротивляться, отказываясь платить дань рэкетирам, поэтому главными орудиями Суховея и других таких же, в то время были раскаленный утюг и другие пыточные инструменты.
Однако затем ситуация стала благополучно разрешаться в пользу того, чтобы улаживать все возникающие проблемы полюбовным соглашением, и конфликт между большинством кооператоров и рэкетирами практически сошел на нет. Кооператоры стали исправно платить деньги за то, чтобы бандиты оберегали их от «наездов» других «бригад» или заезжих «гастролеров».
После того, как участковый милиционер уменьшил его выручку ещё на четверть, Борис задумался. – А стоит ли связываться с алкоголем и рынком? Может, поискать какую-нибудь другую работу?
Но и тут, решив устроиться на железную дорогу в Балашове каким-нибудь ремонтником, Борис узнал, что их переводят на хозрасчёт и часть работников придётся сократить, так что ни о каком приёме новых работников и речи быть не может…
На многих предприятиях, которые почему-то вдруг стали убыточными, руководство объявило либо о сокращении персонала, либо о закрытии вообще.



