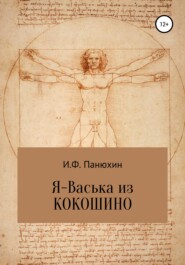скачать книгу бесплатно
«Ну и что ты там понял?» – спросил он. «Понял, – говорю. – Я не всё читал, а немного с начала. У меня вопрос после того в уме вертится. Правда я его не сам придумал. У нас в школе парни этот вопрос долго мусолили, а ответить не могли. Не нашли…» – «И что же это за вопрос без ответа?» – «Кто раньше на свет появился – курица или яйцо?» – «Детский вопрос, Васька. Яйцо. Запомни и дружкам так скажи». – «А яйцо кто снёс?» – «Тот, кто был до курицы». – «Как – тот, кто был до курицы?» – «Природа, Васька, совершенствует жизнь… вернее совершенствует организмы. Всё идёт от примитива к сложному. Природа много миллионов лет трудится над построением организмов, всё усложняя и усложняя их». – «Для чего?» – «Для того, чтоб им удобнее было пользоваться условиям, которые организмам достались на Земле. Природа придумала самовоспроизводящиеся и самоснабжающиеся стройматериалами организмы. Самоснабжение у растений совершается через корни да через листья, а у подвижных организмов – через рот. А самовоспроизведение у тех и у других через яйцо». – «Как? И растения, и животные – через яйцо?» – «И растения, и животные, и рыбы, и птицы, и черви, и насекомые».
Я с недоверием посмотрел на дядю Серёжу. «А растения как яйца несут?» – «А семена? Разве это не яйца? Ты думаешь, раз яйцо, значит оно должно быть круглое. А почему оно обязательно должно быть круглым?»
Я представил семена одуванчика и улыбнулся. Дядя Серёжа вопросительно посмотрел на меня. «А яйца-то по ветру способны летать», – сказал я. «Да, Васька. В этом несчастье растительного мира. Растения сами неподвижны, так хоть семена их пусть имеют возможность искать себе подходящие условия – место для жизни. Поэтому растения вынуждены выпускать громадное количество семян. Кто знает, какому семечку повезёт найти удобное место для жизни. Животный же мир – это более усовершенствованные организмы. А значит им и яиц требуется меньше». – «Понятно, – говорю. – А человек?» – «А что, человек?» – «Человек тоже из яйца?» – «Тоже, – улыбнулся дядя Серёжа. – Человек – млекопитающее животное. А млекопитающие яиц не несут. Зародыши из яйца внутри организма выходят и некоторое время там живут, а потом рождаются живыми».
Дядя Серёжа замолчал, ожидая вопроса. Мол, если Васька не понял – спросит. А мне было всё понятно – я не спрашивал. Но, не желая на том прерывать разговор, я задал другой вопрос: «А откуда взялась вся жизнь на Земле». – «Ни откуда». – «Как – ни откуда? Ну, с чего-то же она началась». – «Ни с чего, Васька. У природы ни начала, ни конца нет».
Я вспомнил запись в тетради: «… всякое начало не есть начало, а есть продолжение». И тут мне захотелось дяде Серёже возразить. «Дядя Серёжа, – говорю, – а вот у человеческой жизни есть начало и конец?» – «У человеческой жизни, говоришь?» – Дядя Серёжа провёл по лицу ладонью, как бы пытаясь собрать в горсть бороду, и, немного подумав, ответил: «Смерть человека, Васька, это не конец, а смена формы материи, созданной генами. И рождение человека, это не начало, а обновление формы материи». – «Как это понять – «формы материи»?» – «Ну вот… твой организм из чего-то построен, сооружён из определённых материалов. Всё это называется материей и имеет определённую форму. Когда ты умрёшь, этот материал, из которого ты построен, никуда не денется, а форма исчезнет. Материал же природа использует для чего-то другого. Ну, например, ты станешь удобрением для берёзы. Материал, из которого ты был построен, будет иметь уже не форму человека, а форму берёзы. Ну, а при рождении – там всё как бы наоборот». – «Понятно, – говорю. – А вот, что у природы нет начала и конца, трудно поверить». – «Вот если верить в начало и конец, Васька, можно выдвинуть такую гипотезу. Вот ты знаешь – на все продукты питания непрошенной гостьей лезет плесень. Откуда она берётся? Просто весь воздух на Земле насыщен спорами плесени. Точно так же всё межмолекулярное пространство во вселенной насыщено какими-то биологическими примитивами, способными создавать жизнь в молекулярной среде. А Земля, она на месте не стоит, несётся по вселенной, собирая и рассеивая по пути эти биологические примитивы. Но и эта гипотеза больше доказывает не начало зарождения жизни на Земле, а вечность и бесконечность природы. Лично я никому не советую искать начало и конец чего-либо. Ни того, ни другого не существует».
Мы думали тётя Тая нас не слушает, прибирается да посуду моет, а она взяла да и вставила в наш разговор свои «пять копеек»: «А по-моему всё началось с сотворения мира и закончится светопреставлением». – «А вот об этом мы с Васькой забыли подумать, – сказал дядя Серёжа, весело подмигнув мне. – Сотворение мира, дорогая Таечка, это не начало, а продолжение, потому что до сотворения был Бог. А светопреставление, это тоже не конец, потому что после него опять-таки останется Бог».
«Дядя Серёжа, – говорю, – а вот на белом свете всё совершается и делается по воле Божьей, так бабушка говорит. А для чего Богу светопреставление?» – «О, Васька! Какой ты серьёзный вопрос мне задал! А ведь на этот вопрос и поп вряд ли ответит. Тут, не подумав, можно ещё и неверно решить. А наверное светопреставление Богу понадобится, чтобы всё начать сначала». – «И вовсе не для этого», – возразила тётя Тая. «А для чего?» – повернулся к ней дядя Серёжа. «А для того, чтобы грешников наказать». – «Вот как?! – удивился дядя Серёжа. – А за одним и безгрешных туда же? Несправедливо однако». – «А безгрешные будут отвечать за грешников». – «Это когда же безгрешные успели столько задолжать грешникам?» – «Когда-никогда – а просто, чтоб никому не повадно было грешить на белом свете. Вот и всё». – «Ну что ж, Васька, при такой логике надо жить да больше грешить – всё равно будешь наказан». – «Я вам дам, грешить! – погрозила нам пальцем тётя Тая. – Это не я придумала. Это Семёновна мне такое внушала».
Семёновна – это Алёшкина бабка, которая за мной в окно подглядывала. Ну конечно тётины Таины вставки в наш разговор мы всерьёз не восприняли. Летом ночь наступает не спеша, но торопясь проходит. Поэтому мы легли спать засветло. К тому же предыдущую ночь тётя Тая из-за меня не спала. Они легли на кровать, а меня затолкали на печь. Собственно другого места для меня и не было. Они, уставшие на работе, уснули быстро, а я долго лежал и перебирал всякие мысли – не мог заснуть. Наконец стал забываться. Вдруг тётя Тая издала страшный вопль и что-то тяжёлое упало на пол. Я приподнялся и выставил с печи голову. Тётя Тая как-то странно ворочалась возле кровати, а дядя Серёжа торопливо соскочил к ней.
«Что с тобой?!» – спросил он. Тётя Тая стонала, не отвечая на вопрос. Дядя Серёжа снова спросил, помогая ей подняться: «Ну, что случилось? Что с тобой?»
Тётя Тая села на край постели, потирая ушибленный локоть. «Кошмар, – сказала она, тяжело дыша. – Кошмар приснился». – «Ты ушиблась?» – «Конечно ушиблась». – «Я что ли тебя столкнул?» – «Да нет. Приснилось…»
Дядя Серёжа сочувственно суетился возле тёти Таи. Хотел потрогать её ушибленную руку, но она его отстранила, слегка постанывая. «И надо же…» – «И что тебе приснилось?» – «Понимаешь… М-м-м-м-м… что мне Вася вечером рассказал, почти всё то и приснилось. Малина, медведь». – «А рука?..» – поинтересовался дядя Серёжа, видя, что она не отпускается от локтя. «Да ничего. Пройдёт. Ушибла».
Дядя Серёжа увидел, что я тоже не сплю – засмеялся. «Ну, Васька, ты в лесу жив остался, а тётя Тая дома, на кровати чуть не погибла». Тётя Тая улыбалась, морщась от боли. «А я ведь, тётя Тая, не хотел рассказывать. Ты сама меня упросила», – сказал я, оправдываясь. «Да я, Вася, ничего…, никого не виню. Спите. Ну ушиблась маленько. Пройдёт».
Я вспомнил, как мужики дали стрекача из лесу, увидев медведя. Тётя Тая так же, наверное, во сне рванула и оказалась на полу. Вроде и смешно, а и некрасиво смеяться над чужой бедой. Тётя Тая отпустилась от локтя и покрутила рукой. Потом осторожно легла на правый бок. Дядя Серёжа прикрыл её одеялом и тоже лёг рядом. Я опять долго не мог заснуть. А утром мы все проснулись как-то разом. Мы с дядей Серёжей поинтересовались тётиной Таиной рукой. «Ничего, ещё можно падать», – пошутила она.
Мы на скорую руку перекусили хлеба с молоком и разошлись – они на работу, а я – домой. Из Лубянки в Кокошино идти прямей, чем в Мякошино, но я решил зайти сначала к бабушке. Всё равно мамы дома пока нет, она сейчас на работе. Бабушка меня встретила сердито. «Ты где шляешься, шалопай? Дома работы по горло. Мать не успевает – помогать ей надо. Ты уж большой, к хозяйству привыкать пора». – «Я к дяде Серёже ходил. Соскучился», – оправдывался я. «Ходил… Ходил он…, – ворчала бабушка. – Люди вон почему- то про тебя несуразицу всяку плетут. Опять аль чо натворил?» – «Какую несуразицу?» – «Говорят, ты медведя приручил, ходишь с ним по Лубянке, на балалайке играешь, а медведь пляшет». – «Шутишь, бабушка? Я балалайку-то и в руках никогда не держал, и играть не умею». – «Знаю я это. Оттого и не поверила. Только не зря болтают. Опять что-то натворил?»
Бабушка уставилась на меня. – «Ну, что молчишь? Говори». – «А что говорить-то?» – «Где был? Что с тобой стряслось? Дядя Серёжа, небось, на работе. А тебя три дня дома не было». – «Прихворнул я, бабушка». – «Прихворнул? А медведь причём?»
Не хотел я бабушке рассказывать всего, чтобы не пугать да не расстраивать, но помаленьку, потихоньку почти всё и рассказал. Заохала, заахала бабушка, засуетилась, завздыхала. «Господи! Да что это за напасти на тебя, Васька? Уж и боюсь я за тебя. Добром ли всё кончится? И на кой черт тебя понесло в Лубянку? Дался тебе этот дядя Серёжа». – «А при чём тут дядя Серёжа?» – «Да все беды твои с дядей Серёжей связаны. Вот причём». – «Ну ладно, – говорю, – хватит расстраиваться. Давай, командуй, что помочь-то тебе? Помогу да и домой пойду». – «Хлев почистить надо. Тяжело мне нынче, Вася, с навозом возиться».
Ну, я почистил хлев, во дворе прибрался, слеги на крыше поправил и к вечеру подался в Кокошино. Дома меня мама встретила с ремнём. Не бывало такого.
«Ты где, окаянный, шляешься? Навязали тебя на мою голову! На весь мир меня осрамил и сам худую славу собираешь. Вот я тебя ремнём-то проучу, чтоб ты…»
Мама вцепилась мне в воротничок и начала трепать, будто стараясь изорвать на мне рубашку или сдёрнуть её с меня, забыв, что в другой руке у неё ремень. «Беспутный ты неуёма! Да где тебя леший носит?!»
Мне даже смешно стало, как она меня ремнём наказывает, и жалко её. «А ты что, – говорю, – мама, такая расстроенная? Я не собирался тебя обижать, а ты сердишься». – «Ты ещё спрашиваешь, бесстыдник! Ты куда?.. Ты кому чужие пироги скормил?» – «Какие чужие пироги?» – «Какие, какие… Я для Насти Ерохиной на именины настряпала. У неё-то у самой печка неисправна, ремонт в избе. Вечером после работы бабы собрались, а пирогов – кот наплакал. Мне от стыда хоть под землю проваливайся. Ну вот куда ты уволок пироги с плюшками?» – «Медведю скормил», – как-то само собой вырвалось у меня.
Мама отдёрнула от меня руку и, не дыша, уставилась на меня, как на что-то опасное. Я поправил рубашку и виновато глянул ей в глаза.
«Так это правда?» – как-то пугливо спросила она. «Что – правда?» – «Что люди про тебя говорят». – «А что люди про меня говорят?» – «Что ты в Лубянку из лесу на медведе верхом приехал, что тебя Лубянские собаки вместе с медведем чуть в клочья не разорвали, что собак из пожарного шланга поливали, чтоб тебя спасти, что тебя дядя Серёжа у собак из зубов отобрал и домой на руках унёс, а медведь в лес убежал».
Я стоял, слушал и смеялся. «Эх, какую красивую сказку про меня кто-то выдумал! А может это ты сама придумала?» – «Да нет. Тут всякое про тебя болтают. Я ничему не верю. Только стыдно мне было, что не про кого-нибудь, а про тебя болтают». – «Ну и пусть болтают. Неправда всё это». – «Неправда, что это правда?» – «Правда, что это неправда».
Мама немного успокоилась, бросила ремень на кровать и пошла на кухню. «Откуда же сыр-бор разгорелся? Почему люди к тебе медведя приплели?» – «Ладно, – говорю, – я завтра тебе всё расскажу. На ночь нельзя это рассказывать». – «Это почему же на ночь нельзя? Страшно что ли?» – «Я тёте Тае рассказал на ночь, так она с кровати упала». – «Шутишь?» Я промолчал. Предстояло в четвёртый раз рассказывать одно и тоже. Мне не хотелось. Мама приготовила для коровы пойло. Я взял лохань и направился в хлев. Вылив пойло в колоду я постоял немного возле коровы, погладил её, поглядел, как она пьёт, и вернулся в избу. Мама собирала на стол ужин. Ей, конечно, не терпелось узнать, что со мной случилось? Но я настойчиво откладывал рассказ на утро и она наконец согласилась.
Утром она разбудила меня рано. Я хотел рассказать ей кратко, но она постоянно вставляла вопросы и у меня опять получилось подробно. В отличие от бабушки мама выслушала мой рассказ более спокойно, хотя и было заметно, что она глубоко взволнована и на глазах поблескивают слёзы. Она не бранилась, не вздыхала, только глаза вытирала…
Потом она назадавала мне на целый день всяких дел и ушла на работу. Чувствуя себя виноватым я не стал терять время. Почистил хлев, поправил куриный насест, выскреб помёт из курятника, подпёр колом подгнивший столб у забора и направился в огород. Вижу, дружки мои шумной ватагой на речку пошли. Я их окликнул. Увидев меня они попрыгали через городьбу ко мне в огород с криками: «Васька! Ты где пропадал? Когда ты дома появился?» И всем надо было меня пощупать, потрепать, потрясти. «В Лубянку, – говорю, – ходил. К дяде Серёже…» – «А что это про тебя нынче много всякого болтают? Опять что ли с тобой что-то приключилось?»
Ну вот, думаю, ещё раз надо рассказывать. Надоело уже одно и тоже. Хватит. Как-нибудь в другой раз расскажу. «Ничего, – говорю, – со мной не случилось. А кто про меня болтает?» – «Да вон Юркин дядюшка вчера из Лубянки приходил. Ну-ка расскажи, Юрка, что он говорил».
Юрка раздвинул ребят, подошёл ко мне ближе и стал пересказывать дядюшкин рассказ: «Пошли, – говорит, – мы с соседом Григорием в лес, посмотреть, как там после вчерашнего ливня? Приходим на вырубку и видим – парнишка медведя малиной кормит. Наберёт пригоршню и сыплет медведю в рот. Как в прорву сыплет. А медведь только облизывается да лапой от комаров отмахивается. Ну, мы решили окликнуть: «Эй, парень, ты кто?» А он и говорит: «Я Васька… из Кокошино». Сел верхом на медведя-то и… в нашу сторону. Ну, мы и вон из лесу-то». – «Красиво, – говорю, – врёт твой дядюшка. А ты, – спрашиваю Юрку, – не поинтересовался. Почему ему захотелось соврать?» – «Почему?» – «Дядюшку спроси, а не меня». – «А вправду, Васька, – перебил Костюнька, – почему это про тебя много всяких небылиц вдруг по деревне пустили?» – «Вот и я вас хотел спросить – почему? Вы ведь дома были, а меня дома не было, я не знаю». Парни пожали плечами и переглянулись. Чтобы не возвращаться к этому разговору, я спросил: «Небось купаться побежали? Я бы тоже не прочь, да вот прошлялся – дела накопились».
Васька Мякука (прозвище такое у Васьки – Мякука) выскочил вперёд: «А какие у тебя дела? Может мы поможем? Давай? Быстро всё переделаем!» – загалдели все. «Ну пошли», – говорю.
Привёл я ребят к грядкам и мы моментально поснимали пасынки с помидоров, посрезали стрелки с чеснока, морковь пропололи. Мне бы одному до вечера хватило, а шалманом-то – вмиг. И мы побежали купаться.
Мы прибежали к Крутому яру и, раздеваясь на бегу, побросав бельё у кустов ивняка, с разбегу бросились в воду. Там омут широкий и глубина приличная – прыгать и нырять удобно. Верхняя часть омута начинается высокой обрывистой кочкой, которая нам служила трамплином, а ниже по течению – удобный пологий выход, а потом берег, поросший мелким ивняком. Там, около мелкого ивняка, мы и побросали своё бельё. Стали прыгать с обрыва, кто с разбегу, кто с места, кто вниз ногами, а кто и головой. Подъехал на мотоцикле какой-то Кокошинский незнакомый молодой мужик и спросил, кто из нас Василий Сыроедов? Я стоял, смотрел на него и думал: что ему от меня надо? Признаваться не торопился. Вовка Мякука, выходя из воды, показал на меня пальцем: «Вот он».
«Так это ты – Василий Сыроедов?» – спросил мужчина меня в упор. Достал из кармана блокнот, авторучку и приготовился что-то записывать. «Я – корреспондент местной газеты. Хочу про тебя написать…» – «А чего про меня писать-то?» – недовольно спросил я. «Ты не пугайся, мальчик, – успокоил он меня. – Я хочу написать о том, что с тобой случилось в Лубянском лесу».
Ну вот, подумал я, ещё один слушатель нашёлся. Я дружкам рассказывать не стал, а тут… И какая мне радость, чтобы весь мир знал, как я заблудился в лесу. «А на вас, – говорю, – пыли толсто и пот на лбу. Давайте с нами купаться, а потом уж я и расскажу».
Корреспондент согласился – ему было и в самом деле жарко. Он разделся и стал прыгать вместе с нами с обрыва. И как-то само собой получилось, что мы стали соревноваться – кто дальше унырнёт. Стали с разбегу нырять и отмечать рекорды. Дальше всех проплыть под водой получалось у Борьки Куляки. Мне не хотелось от Куляки отставать, но у меня не получалось, хотя в воде я чувствовал себя свободно и хорошо ориентировался. Слева у обрыва, с которого мы прыгали, над водой густо нависали кусты ивы, купая в воде свои ветви. Мы разбежались с Кулякой и по команде прыгнули вниз головой в воду. Куляка стал быстро преодолевать под водой расстояние поперёк омута, а я не спеша поднырнул под кусты, незаметно, потихоньку вынырнул у самого берега. Меня никому не видно, а я сквозь кусты вижу весь омут и край обрыва, с которого мы прыгали. Куляка вынырнул на этот раз особенно далеко, а я… Все решили, что я его обставил, коль раньше его не вынырнул, и закричали: «Ура!!! Ай да Васька!» А Васьки всё нет и нет из воды. А что я под кустом сижу, никому и в голову не пришло. Но дольше минуты быть под водой никто из нас не мог, а минута прошла. Все заволновались: «Где Васька?! Нет Васьки. Беда! Братцы, Васька утонул!» Все попрыгали в воду, стали нырять, Ваську искать. А я глядел на них из-под кустов и посмеивался. И вдруг мысль – дай-ка я удеру под шумок от корреспондента. Все настолько увлеклись поисками меня, что я спокойно вышел из воды, взял бельё и ушёл домой. Никто не заметил.
После Вовка Мякука мне рассказывал: «Корреспондент долго нырял и нас заставлял нырять. Мы уж озябли, аж губы посинели, устали. Тогда корреспондент поехал в деревню, привёз дядю Васю Мочалова с рваным бреднем и долго цедили воду, шарили бреднем по дну омута и ниже. Так и не нашли. До вечера балакались. Парни расстроились и пошли домой. А корреспондент с дядей Васей поехали выразить соболезнование матери.
А мы с мамой только сели ужинать, заходят корреспондент с дядей Васей, кепки у порога снимают, мнутся… Глянули на нас. Корреспондент глаза округлил и руками развёл. А дядя Вася плюнул, развернулся и вышел. А корреспондент долго что-то собирался сказать, но, то ли запутался в своих мыслях, то ли вообще их не нашёл. Так ничего и не сказав он извинился, и ушёл.
И всё же корреспондент приезжал не зря. Статью он в газету написал. Мама эту газету приносила, мы читали и смеялись. Статья называлась: «Кокошинский феномен». В статье он «не утверждал» правды в том, что слышал от людей о Ваське-феномене, но был свидетелем, как Васька нырнул в воду у Крутого яра, а вынырнул дома.
Вовке Мякуке было интересно, как это я их тогда обманул?
«Очень просто, – говорю. – Вы смотрели туда, где Куляка вынырнул, и ждали, что я вынырну где-то рядом. А я вынырнул совершенно в другом месте, поближе к нашему белью. Смотрю, а вы на меня никакого внимания не обращаете. Ну, я оделся потихоньку, да и ушёл». – «И всё?» – удивился Мякука. «И всё, – говорю. – А что ещё?»
Вовка поверил. А про кусты я ничего не сказал – решил в секрете оставить.
На третий день после статьи в газете про «Ваську-феномена» в Кокошино приехал по делам дядя Серёжа и ненадолго забежал ко мне. Самолёт у него давно вышел из строя. Дядя Серёжа возился с ним, хотел отремонтировать, да запчастей не было, ничего не смог сделать, плюнул и переквалифицировался в шофёра. Потом его поставили механиком. И вот он приехал на «газике» и подрулил к нашим воротам.
«Ну давай, Васька, рассказывай, что ты ещё натворил? – сходу попросил он. – Не получается что-то у тебя без приключений». – «Ничего, – говорю, – не натворил». – «Как, ничего? А чего ради тебя через газету стали рекламировать?» – Я улыбнулся. – «А приехал, – говорю, – корреспондент. Хотел, чтобы я рассказал, как я в лесу заблудился. А мне надоело всем одно и тоже рассказывать. Ну, я его и решил надуть». – И я рассказал как всё было. – «Молодец, – говорит дядя Серёжа. – Так его и надо». – «А что, ему писать больше не о чем, что ли?» – «А им, корреспондентам, сенсации нужны». – «Какие сенсации?» – «Особые случаи, заслуживающие всеобщее внимание и интерес». – «А какой может быть ко мне всеобщий интерес?» – «Ну как же, Васька? Вон сколько кривотолков поплыло по округе про твою связь с медведем». – «Да-а-а-а-а…, – говорю, – действительно. Какой только чертовщины про меня не нафантазировали». – «Ну ладно. А как у тебя здоровье-то?» – «Хорошо», – говорю. – «Ну, тогда я поехал». – «До свиданья, – говорю, – дядя Серёжа.
Дядя Серёжа уехал. Дела у меня, пока что, дома кончились. Схожу-ка, думаю, к бабушке. Зашёл на работу к маме, предупредил, чтоб меня не теряла, и пошёл в Мякошино. Когда по деревне шёл, заметил, что все стараются обойти меня стороной, особенно бабки. И дружки отворачиваются, не приветствуют. Всё ещё на меня сердятся, подумал я. Пусть маленько посердятся. Ну, а бабки – кто их знает? Они всегда своеобразны.
Прихожу к бабушке, она обрадовалась. «Как ты кстати пришёл, Вася! Охота мне в церковь сходить. Уж и не помню, когда последний раз хаживала. А завтра Ильин день. Дедушку твоего помянуть надо. Ты-то его не знаешь, а мне он дорог. И память о нём дорога». – «Проводить что ли тебя до церкви?» – спросил я. – «Да нет. Сама дойду. Клушка у меня на яйцах – присматривать надо. Вот-вот цыплятки вылупятся. Не проглядишь, коль тебя оставлю?» – «Не прогляжу», – говорю. – «Ну и слава Богу», – успокоилась бабушка.
Поболтали мы с ней о том, о сём. Дров к зиме я поколол да под навес сложил. Поужинали – и спать… А утром бабушка разбудила рано. «Ты, Вася, больше не ложись. С печкой я не успела справиться. Вот дрова догорят… Смотри, чтоб головёшек не осталось. Угли и золу сгребёшь в загнётку и поставишь вот эти два чугуна в печь. Пусть до меня стоят. А вот этот чугунок через два часа достанешь и позавтракаешь. Ну, а к обеду-то я приду».
И ушла. А я остался домовничать. Пошуровал кочергой в печке. Сходил в чулан – на клушку посмотрел. Бабушка видно забыла, или не успела, спустить молоко в погреб. Погреб в сенях, рядом со входной дверью. Молоко приготовлено, стоит в кринках у западни. Спустился в погреб, составил кринки вокруг кадки с солёными огурцами. Достал из кадки огурец, вылез из погреба, кусая его на ходу, глянул в печь. Дрова догорали, превращаясь в угли. Лишь одно сучклявое полено оставалось головёшкой. Я поколотил его кочергой, но оно явно не хотело превращаться в угли. Ну, думаю, из-за этой головёшки выстужу печь. Закатил её кочергой на совок и вынес в огород за хлев. Надо было засыпать её землёй, чтоб потухла, а я поторопился к печи – надо было её поскорей закрыть, чтобы жар сохранить. Ну конечно, как бабушка велела, загрёб оставшиеся угли и золу в загнётку и поставил в печь чугуны. Прошёлся по избе и думаю – а бабушка без дела по избе не ходит. Я тоже должен быть чем-то занят. А что мне бабушка наказала? Про печь, про чугуны, про клушку. А больше не знаю что. Не то забыл, не то прослушал спросонок-то. Походил, походил по избе – ничего больше не вспомнил. Стал искать, чем бы заняться. Стул у бабушки один разболтался – ножки ослабли. Повертел стул, покумекал, как исправить? Инструмент какой-то надо. А какой у бабушки есть инструмент? В одном углу стоят какие-то строганные, потемневшие от времени брусочки. На них набросаны старые мешки и грязные тряпки. Снял я с брусков эту ветошь и увидел за ними прижатый к стене плотницкий ящик с инструментами. Там были разные рубанки, стамески, бурав, молоток, выдерга и много ржавых гвоздей. Я достал ящик, занёс в избу, встал перед ящиком на коленки и стал соображать – как воспользоваться этими инструментами, чтобы починить стул? Долго вертел в руках рубанки и стамески, проверял их остроту. Но как ими воспользоваться придумать не мог. Порылся в ржавых гвоздях. Они все были гнутые. Вдруг в нос ударил запах дыма. Я глянул вверх. По сторонам, отовсюду на меня наваливал серым одеялом густой дым. Я вскочил на ноги и оказался в дыму. Закашлялся, присел – за окнами играет пламя. Пожар! – мелькнуло у меня в голове. Выскочил в сени, хотел открыть дверь, чтобы выбежать на улицу, но обжёг ладонь о скобу. Дверь сквозь щели дразнилась языками огня. Я снова вбежал в избу, но там уже не чем было дышать. Схватил кочергу, выбежал обратно в сени и кочергой за скобку открыл дверь. В лицо пахнуло нестерпимым жаром. За дверью бушевало пламя, такое, что близко невозможно подойти. А выхода больше нет. Что делать? Раздумывать некогда. В подполье? Нет. Дом сгорит, рухнет и задавит. Да там испечёшься, как в костре картошка. В погреб? Конечно в погреб. Там глубже и прохладней – не испекусь. И я юркнул в погреб, закрыв за собой западню. Некоторое время я чувствовал прохладу и сырость погреба, но вскоре услышал потрескивание западни. В погребе темно – хоть глаз выткни, но надо как-то ориентироваться. Я начал водить по сторонам руками. Ущупал кадку с огурцами. Раскрыл её и стал ладошкой черпать и брызгать на западню. Ладошка – посудина неудобная. Я вспомнил про кринки с молоком. Нащупал их и плеснул из одной на западню. Но кринка – такая посудина, что больше молока выплеснулось не на западню, а на меня. Тогда я разбил кринку, выбрал черепок побольше и стал им черпать из кадки рассол и плескать на западню. Это оказалось удобней, чем ладошкой. Западня настолько раскалилась, что когда я брызгал, шипела и издавала кислый запах. Вскоре воздух в погребе настолько насытился этим запахом, что у меня закружилась голова и стало тошнить. Прохлада в погребе стала сменяться теплом, оттого тошнота усиливалась. Появилась усталость. Ну, думаю, сгорю. Нельзя расслабляться. Напрягая все свои силы я продолжал брызгать рассол. Огурцы уже не давали его черпать. Я их выкидывал на пол, наступал на них. Вдруг поскользнулся и уронил одну кринку. Молоко разлилось под ногами и ещё больше стало скользко. Вверху что-то затрещало и ухнуло. Западню проткнуло концом горевшего бревна. В погребе стало светло и сразу жарко. Ну, думаю, конец тебе, Васька, приходит! Я уже все огурцы из кадки выкидал и рассол кончился. Но бревно-то надо тушить, иначе от него и дым, и жар. Западня от бревна быстро загорелась и стала посыпать меня искрами. Я вылил из остальных кринок молоко в кадку, смешал его с остатками рассола и стал брызгать на бревно. Слава Богу бревно погасил, а западня на половину успела сгореть и упала в погреб. И её потоптал, чтоб не горела и не дымила. Изба, видимо, в основном сгорела – шуму стало меньше и до моего слуха стали доноситься отдельные звуки человеческой речи. «Люди сбежались, – подумал я, – тушат».
Тушили люди или не тушили, я не видел, только от избы остались одни головёшки, завалившие лаз у погреба, в котором я сидел на опрокинутой кадке и плакал от горя, от стыда и страха. Пока изба горела, в погребе стоял гул, как в бочке – я чуть не оглох. Но вот изба сгорела, гул унялся и наверху стали отчётливо слышны человеческие голоса. Кричать из погреба, просить, чтобы меня освободили, я не думал. Я боялся, что меня накажут и мне было стыдно. Ведь пожар случился по моей вине. Голоса то приближались, то отдалялись. Похоже было, что там, наверху, что-то искали. Но что там было искать? Всё сгорело. Слава Богу, хоть корова и овцы отправлены в стадо. Остальное всё – бабушкина одежда, постель, посуда – всё сгорело. Бабушка теперь нищая. Я сидел и думал – как я буду оправдываться? А зачем оправдываться, коль виноват? Что теперь мне будет? Бедная бабушка! Где теперь она будет жить? Ну конечно, у нас. Куда ей ещё податься? Как она будет переживать! В обморок упадёт, когда увидит сгоревшую избу. А клушка сгорела и цыплятки вылупиться не успели. Тысячи мыслей заполнили мою голову. Оттого в ней стоял какой-то звон, перемешанный с шумом. Горло сдавило от горя и слёзы бежали ручьём. Я перестал обращать внимание на голоса наверху. Сидел, до боли вцепившись в свои волосы и ругал себя. Долго сидел. Наверху всё утихло – люди, видимо, разошлись. В погребе запах рассола смешался с запахом гари. В руках и ногах появилась страшная слабость, смешанная с дрожью. Я явно угорел. Сквозь головёшки, завалившие лаз, звёздочками проникал в погреб летний день. Мне охота было лечь. Но куда? Под ногами грязно от растоптанных огурцов и разлитого молока. Да и пол в погребе оставался холодным. Я положил на пол деревянную крышку от кадки, сел на неё, упершись спиной в стену, и заснул. Слабость переборола. Сидя спать было очень неудобно и я часто просыпался, пытался поменять позу, и снова засыпал. Слабость в теле и шум в ушах долго не проходили. Только под вечер я начал приходить в более-менее нормальное состояние и почувствовал, что хочу есть. В стороне от кадки я нашёл миску с творогом. Долго не решался залезть в миску руками. Про ложку думать не приходилось. Руки были грязные и вымыть их возможности не было. Была не была, поем, что называется, по-свински. Потом я решил, что из погреба надо всё же выбираться. Попробовал вытолкнуть бревно, проткнувшее западню. Не тут-то было – ни силёнок, ни удобства. Стал его расшатывать, чтобы оно упало в погреб и дало доступ к другим головёшкам. Это мне удалось не сразу. Но всё-таки я его уронил. Потом поднялся по ступенькам лесенки, упёрся спиной в головёшки, оставшиеся от западёнки, и попытался растолкать их по сторонам от лаза. В это время мимо пепелища шли мужики (должно быть с работы), заметили, что головёшки шевелятся, окликнули: «Кто тут?» – «Я», – отозвался я из-под головёшек. «Кто ты?» – «Я – Васька…, из Кокошино».
Я думал мужики мне помогут выбраться, но услышал топот убегающих ног. Куда они? – подумал я. Вот бессовестные – помочь не захотели. Меня на миг охватило зло. Я с силой приподнял остатки западёнки, расталкивая их в разные стороны, и вылез наружу сам. Выйдя из погреба я побежал прочь от деревни. Естественно, побежал домой. Но, отбежав с полкилометра от Мякошино, одумался – как меня мама встретит? А там и бабушка… Страшный стыд меня остановил. Постояв немного на месте я направился в Лубянку, к дяде Серёже. День был на исходе. По дороге мне могли встретиться люди, возвращающиеся с работы. А я выглядел страшнее самой грязной свиньи. И вообще мне не хотелось ни с кем встречаться. Пошёл окольными путями. Зашёл на речку, вымылся, сполоснул штаны и рубашку. Ждать, когда они высохнут, не стал – натянул на себя. Летом обсохнуть недолго. К дяде Серёже я пришёл, когда уже солнышко закатилось. Зашёл во двор через огород, обойдя деревню. Никто меня не видел. Дядя Серёжа вышел на крыльцо на мой стук и сильно удивился: «Васька! Ты жив?! Где ты был?» – «Жив, – говорю. – В погребе». – «В каком погребе? Я был на пожаре. Мы тебя искали-искали, бесполезно. Решили, что ты сгорел». – «В погребе я спасался». – «В каком погребе? А где погреб-то?» – «В сенях он был. Не успел…, не смог я выбежать, вот в погреб и залез». – «Вот, чёрт… А мы про погреб-то и не знали. Как же ты там не испёкся-то?»
Дядя Серёжа взял меня за руку и завёл в избу. Там я всё подробно и рассказал. Как всё случилось, как спасался, как угорел, как выбрался, как сюда пришёл. Тётя Тая слушала и часто вскакивала со стула, сама не зная для чего, охала, всплёскивала руками и так жалостно на меня глядела, что мне было неудобно глаза поднять… от стыда. Дядя Серёжа незаметно для себя закурил, внимательно слушая. Тётя тая пару раз отмахнулась от дыма, потом строго на дядю Серёжу посмотрела. Он спохватился, обругал себя за дурную привычку, извинился и бросил сигарету в ведро под умывальником. «Да, Васька, нехорошо получилось, – сказал он. – Слава Богу, что ты жив остался. А вот с бабушкой твоей плохо». – «А что с ней?» – вскочил я со стула. «Плохо, Васька, плохо». Дядя Серёжа прошёлся по избе и задумчиво добавил: «Дай Бог, чтоб она поправилась». – «Да что с ней?» – снова спросил я. «Не пережила она такую беду, Васька. Паралич… Парализовало её. Руки, ноги и язык отнялись. Лежит, как варёная».
Я бросился к двери. Тётя тая поймала меня. «Ты куда?» – «Домой», – говорю. «Ну куда ты на ночь-то глядя?» – «Домой», – повторил я. Дядя Серёжа подошёл и взял меня за другую руку. – «Поздно, Васька, торопиться. Да и какой смысл появляться ночью? Ты сейчас дома переполох устроишь, только хуже будет». – «А вдруг бабушка умрёт и не узнает, что я жив. И я не успею прощенья у неё попросить». Дядя Серёжа отпустил мою руку, почесал затылок. «Ладно, Васька. Я сейчас пойду, возьму машину и тебя отвезу».
Дядя Серёжа собрался и ушёл, а я сел у порога ждать. Тётя тая, сев рядом, всё меня разглядывала – нет ли ожогов, синяков или царапин. Иногда пробовала гладить, как котёнка. От этого почему-то стало грустно и я заплакал. Тётя Тая обняла меня, прислонила лицо к моей груди и тоже заплакала, запричитав: «Какой же ты, Васенька, невезучий! И всё-то с тобой что-то случается. Господи ты, господи… И что это на тебя за напасти?» Мне от того ещё пуще хотелось плакать. И мы долго не могли успокоиться. Под окнами послышался звук машины, потом вошёл дядя Серёжа. Тётя Тая решила ехать с нами, но дядя Серёжа её отговорил: «Зачем лишний раз расстраиваться? Наглядишься на бабушку, ночью спать не будешь». И тётя Тая осталась, а мы поехали в Кокошино. Дорогой мы спланировали, что дядя Серёжа в избу войдёт первым, чтоб не делать неожиданностей для мамы и бабушки. Подъехав к воротам мы так и сделали – я остался в машине, а дядя Серёжа пошёл в избу. Минут десять я сидел в машине и ждал, когда меня позовут. Выбежала мама. Выбежала торопливо, не закрывая ни дверь, ни калитку, и прямо к машине. Вцепилась в ручку дверцы, затрясла её, дёргает дверцу, открыть не может. А сама раскосматилась, по щекам слёзы ручьём. Я смотрю на неё сквозь стекло и думаю – что сейчас будет? Или рвать меня в клочья будет, или обнимать, как бывало? Я помог ей открыть дверцу. Она в меня вцепилась и потянула из машины, но вдруг как-то обмякла, обессилела, рухнула на землю, отпустившись от меня. «Обморок», – мелькнуло у меня в голове. Я выскочил из машины и стал её поднимать. «Мама, мама, что с тобой, мама?» Но она не отзывалась, словно находилась во власти глубокого сна. Подошёл дядя Серёжа, взял её в свои сильные руки и понёс в избу.
«Вот видишь, Васька, что получается?» – говорил он на ходу. Я виновато плёлся за ним и молчал. Дядя Серёжа положил маму на кровать и пошёл к бачку с водой. Мама простонала, но лежала неподвижно. Дядя Серёжа подошёл с кружкой, набрал в рот воды и брызнул ей в лицо. Она продолжала лежать безучастно. Дядя Серёжа снял с гвоздя кухонное полотенце, утёр её лицо и брызнул ещё раз. Мама глубоко вздохнула и открыла глаза, посмотрев на дядю Серёжу как-то безразлично. Потом медленно повела глазами в мою сторону. Увидев меня, она хотела протянуть в мою сторону руки, но они, видимо, не послушались, и она снова закрыла глаза. Но через несколько секунд снова их открыла, одновременно опуская ноги с кровати.
«Господи, да что же это делается-то на белом свете?» – простонала она, прижимая ладони к вискам. Я встал перед ней на колени, а она поймала мою голову и стала перебирать в пальцах волосы. Я не знал с чего начать свои оправдания и извинения. Да и к месту ли они сейчас? Дядя Серёжа молча за нами наблюдал, разговоров не заводил, чтобы всё само собой образовалось. Минуты две мама ворошила мои волосы, потом каким-то хворым голосом спросила: «Васька, как дальше жить-то будем?» – «Ну зачем так расстраиваться и убиваться? – сказал дядя Серёжа. – Надо радоваться – Вася жив!» – «Радоваться», – повторила мама всё тем же хворым тоном, глядя куда-то в пустоту. «Ну конечно, – продолжал дядя Серёжа. – Остальное наживётся. Без беды жизни не бывает. Не знали бы мы, что такое беда, и радоваться бы не умели», – философствовал дядя Серёжа. «Радоваться, – повторила мама. – А бабушка?..»
Я вскочил на ноги и повёл взглядом по избе. И только тут заметил в правом углу ширму, за которой, я догадался, лежала на кровати бабушка. Я пошёл к ней. Она лежала неподвижно, молча, чуть приоткрыв глаза, и глядя в потолок. На моё появление она никак не реагировала. Я окликнул её, но она никак не отреагировала. Слышит ли она? – подумал я. Может у неё и слух пропал? Я наклонился над ней, в надежде, что она меня увидит. Но взгляд её остался безразличным, по-прежнему устремлённым в одну точку. «Может она спит так, с открытыми глазами», – подумал я. Потрогал её за плечи, погладил по волосам, приложил ладонь к щеке. Она медленно повернула голову и долго смотрела на меня. Наверное ей хотелось что-то мне сказать, но не могла. Я встал на колени и стал просить прощения: «Бабушка, миленькая, я не хотел…, я дурак, не засыпал землёй головёшку. Я поторопился…, не сообразил… Прости. Виноват я. Как теперь? Бабусенька, миленькая, ну поправляйся, накажи меня… хоть ремнём, хоть палкой. Я всё для тебя буду делать. Только пожалуйста поправляйся».
Слышала ли бабушка меня, простила ли – не знаю. Ни одного звука, никакого движения. Только смотрела на меня и всё. Я просил прощения и плакал, но никакого отражения в её глазах не замечал. Подошла мама и увела меня от бабушки. «Хватит, Вася. Дай ей отдохнуть. Плохо ей. Она уж ничего не ест и не пьёт».
Пока я просил у бабушки прощения дядя Серёжа уехал. Мама спросила, сыт ли я? А я и забыл, что этим надо заниматься. «Нет», – говорю. Мама принесла кринку молока, положила на стол хлеб. «Ешь, ничего я сегодня не готовила. Некогда было. Да и, думала, не для кого. Все решили, что ты сгорел. Бабушка так и сказала… и тут же ей стало плохо». Мама села напротив меня за стол, прижала к глазам платок и заплакала. А когда поел, попросила: «Ну расскажи хоть, где ты был? Как всё случилось?» – «Дурак, – говорю, – я. Бить меня мало». Ну и рассказал ей всё, как было. Обняла меня мама и долго молча сидела, раскачиваясь. «Ну, что ты молчишь? – спросил я. – Хоть бы побранила, попрекнула, что ли?» – «Боюсь я, Вася, за тебя. Всё у тебя не как у людей. Приключение за приключением и все страшные». – «Так ведь я, мама, не хочу их…, они сами». – «Понимаю, Вася, что сами. От того и боюсь. Чем всё это кончится?»
Время перевалило за полночь и мы легли спать. Ночью мама несколько раз вставала. Я слышал, но каждый раз быстро засыпал снова. Под утро бабушка скончалась. Мама встала в очередной раз, увидела упокоившуюся бабушку, громко заплакала-заголосила, запричитала. Я вскочил. «Что случилось?» – «Бабушка умерла».
Мама засуетилась – закрыла самовар, зеркало, прибрала разбросанную по избе одежду, убрала ширму, прикрыла бабушку с головой белой тряпкой, собрала со своей и моей кровати постели, унесла в чулан. Мне велела всё лишнее из избы выносить – ширму, кровати, одежду со стен и прочее. В избе стало просторно. Как есть чужая, не наша изба. Мама поставила у постели бабушки стул, присела и опять громко заплакала, запричитала. Я не мог это спокойно слушать и тоже плакал.
Заглянула в дверь бабка Агафья: «Аль чего случилось?» Увидев плачущую маму у бабушкиной постели, подошла, перекрестилась и тоже вытерла кончиком платка свои глаза. «Когда отправилась?» – спросила она маму. «Да вот только что…» Бабка Агафья снова перекрестилась. «Царство ей небесное. Не намаялась. Счастливая». Глянула на меня. «А этот щенок-то опять жив?!» Не переставая креститься она опасливо попятилась и ушла.
Мама печь топить не стала – не до варева. Пошла в правление, отпрашиваться с работы, а мне велела смазать петли у ворот, чтоб не скрипели. Обычай у нас такой – уж если провожать в последний путь, так не сердито, без скрипа. Ну я смазал, проверил, не скрипят. Во дворе прибрался.
И повалили в избу бабушки-старушки – сначала Кокошкинские, потом и Мякошинские – кто просто глянуть, кто у бабушки прощенья попросить. Проходя мимо меня все бабки ускоряли ход и обязательно крестились. А когда я заходил в избу, быстро уходили. Потом мама мне сказала, чтоб я ушёл к дружкам и дольше не приходил – бабушку обмывать будут. Ну, я пошёл к Серёжке Рубцову. Его не оказалось дома. Пошёл к Федьке Шагалову – тоже нет дома. Постучался к Борьке Куляке. Даже ворота не открыли. Пошёл к Вовке Мякуке. Он дальше всех живёт – почти в конце деревни. Иду, навстречу попадаются люди – не то, что не здороваются, шарахаются от меня, как от страшного зверя. Не пойму, что за новый обычай? Стараюсь на это внимания не обращать, но это невозможно. Пришёл к Мякуке – в избу меня не пустили. Вовка сам ко мне вышел. Поздоровался как-то неприветливо.
«Чего тебе надо?» – «Ничего, – говорю, – не надо». – «А зачем пришёл?» – «Ни зачем. Бабушка умерла. Обмывать её будут – меня проводили, чтоб не мешался». – «Некогда мне, – сказал Вовка. – Иди, погуляй. Обмоют – домой вернёшься». И закрыл передо мной калитку. Я почувствовал себя как в чужом мире. Все меня боятся. Никому я не нужен. Чудеса да и только. Даже хуже. Постоял у калитки, не по себе мне как-то стало. Вошёл бы, да не пускают. Нищий я – не нищий? Кто я? Не знаю. Пошёл без цели до конца деревни. На конце дед Никита живёт. Дед из ворот вышел, куда-то идти собрался. Но, увидев меня – вернулся. Ну, думаю, это какое-то издевательство. Мне не только было неприятно, я был просто возмущён. Что я такого дурного сделал? Кого я обидел? Кому напакостил?
Деревня кончилась. Дальше была развилка: налево – в Мякошино, направо – в Костышевский лес. В Мякошино мне теперь больше делать нечего. Я свернул направо. В Костышевский лес мы всегда ходили по грибы. Нынче мне не до грибов – бабушка умерла, а я такое натворил, сам себе простить не могу. Камень на сердце. В голову ничего не лезет. Ничего мне не надо, на всё наплевать. И без цели, и без плана потихоньку дошёл до леса и лёг в траву под первой попавшейся берёзой. Грустные мысли не покидали меня. Я думал о бабушке. «Бедная бабушка! Оставил тебя сиротой дедушка. Двадцать с лишним лет жила только памятью о нём. С мёртвым с ним разговаривала, советовалась, горем и радостью делилась. Только помощи от него не ждала, не просила. И вот не стало бабушки – угасла память о дедушке. И во всём виноват я. А мама? К кому она теперь пойдёт поделиться радостью или поплакаться в беде? Эх! Преступник я! Преступник!» К горлу подкатывал комок и мне постоянно хотелось плакать.
Под рубашку залезли муравьи, отвлекая меня от мыслей о бабушке. Я немного успокоился и встал. По давней привычке, оказавшись в лесу или на опушке, глаза сами устремляются под кусты в поисках грибов. Так и в этот раз. Немного в стороне от этой большой берёзы стояли несколько берёзок молодых, а под ними красовался подберёзовик. Это был семенник – в пищу непригодный. Переросшие подберёзовики всегда червивые и в супу превращаются в кисель. Собирать их у нас не принято. Мне хотелось увидеть молодого, хотя грибы в этот раз мне были ни к чему. Я просто так шагнул в сторону молодых берёзок, но, бросив на них невнимательный взгляд, отвернулся. С северной стороны берёзы зеленела сочная трава, но ей явно что-то мешало расти плотней. Сквозь неё просвечивало что-то грязно-жёлтое. Я лениво подошёл и отвёл в сторону стебли ногой. В траве были спрятаны кем-то прибранные, но, видимо потом забытые, лосинные рога. Положили их, видимо, ещё по весне – они хорошо успели зарасти травой. Я взял один рог и удивился, какие они оказывается тяжёлые! Ого! Взял и второй. Определить было непросто – который левый, который правый? «И как только их лось на голове носил, тяжесть такую?» – подумал я и бросил их обратно. Немного постояв собрался было уже домой, но подумал: а не пожалею ли я потом, что оставил их тут лежать? А кто-то их потом с удовольствием подберёт. Хоть и тяжелы, но я решил забрать их домой. Когда-нибудь пригодятся. Вернувшись по задворью домой я бросил их у крыльца. Бабушка по-прежнему лежала на кровати. Её не обмывали, потому что не готов был гроб.
Мама собрала на стол перекусить. Мы поели и я пожаловался: «А что это от меня все шарахаются как от прокажённого? Бабки все при виде меня крестятся, стороной обходят. И дружки от меня все позакрывались, никто в избу не пустил. Кому я что плохого сделал? Бабушкину избу спалил, так ведь не задумано, невзначай». – «Ох, Вася, ты мой Вася. Давно во всей округе тебя дьяволом считают. В глаза разве только так не называют. До вчерашнего дня ещё многие сомневались, что ты – дьявол. А вчера мужики на ферму прибежали, взволнованные, запыхавшиеся, и рассказали, как ты в пожаре сгорел и из головёшек потом восстал. Велика ли наша деревня? Эта весть моментально всё Кокошино облетела. Из огня живым вышел! Мыслимо ли такое? Ну разве ж ты не дьявол?»
Мама поглядела на меня улыбаясь, провела ладошкой по голове: «Не расстраивайся, потерпи. Всё утрясётся и встанет на свои места. Люди, они всегда торопятся с выводами. Истина когда ещё до них дойдёт? Было бы начало, а уж они сами конец придумают. Ну вот… ты повод подашь, а они фантазируют. Помнишь, как корреспондент написал? Нырнул в воду у Крутого яра, а вынырнул дома. Они ведь ему поверили. В дьявола тебя превратили, сами себя запугивают».
Хоть мама меня и уговаривала, и утешала, но в душе у меня что-то осело такое, что не поддавалось ни внушениям, ни утешениям. Какое-то чувство обиды не угасало во мне. В связи с подготовкой похорон бабушки, в избу заходили и выходили разные люди, и почти все поглядывали на меня искоса, с опаской.
«А что, – спрашиваю маму, – дьявол, он хищный? Вредный? Заразный? Опасный?» – «Не знаю, Вася. Считается нечистой силой. А что это такое? – мама пожала плечами. – Не знаю».
Люди заходили часто и я стал от них прятаться – то в чулан, то в коровник. В коровнике бабушкина корова и овцы томились. Их в Кокошкинское стадо пускать было рано – они ещё к новому двору не привыкли и из стада дорогу будут искать домой – в Мякошино. Ну, я им носил свежей травы с огорода. Но не без конца же было мне этим заниматься? Словом, игра в прятки мне быстро надоела. А тут ещё мужики привезли на лошади гроб, внесли его в избу, оттолкнули меня: «Ну-ка ты, дьявол, не мешайся под ногами».
Настроение моё окончательно упало. «Пойду, – говорю, мама я в Лубянку. Не могу я больше оставаться в Кокошино». Но мама меня не отпустила – не хорошо, мол, в такой день уходить из дома. В груди у меня просто кипело, а в голове была сумятица. Что делать? Не хочу я быть дьяволом! Так и хочется крикнуть: «Братцы мои! Люди добрые! Товарищи дорогие! Не дьявол я! Не дьявол! Я – Васька! Из Кокошино! Не пришлый, а тутошний – ваш!»
Во дворе загалдели бабёнки и мама выдворила меня: «Иди, Вася, погуляй. Обмывать пришли».
Я пошёл на речку. Пошёл через огород, чтоб никто не встретился. На речке, думаю, сейчас никого нет – Ильин день прошёл, закончился купальный сезон. Может ежевика поспела? По кустам лазать я любитель. Берега речки местами густо поросли ивняком. А в тени ивняка прячется ежевика и смородина. Там, конечно, много и крапивы. Она меня не пугала. Ну, а где больше, где меньше ежевики, это я знаю. Пошёл прямо к Кочкарёву плёсу. Не успел забраться в кусты, наткнулся на ветви смородины, усеянные ягодами. Я попробовал поподнимал их – черно! Собирать не во что. Вышел из ивняка, хотел бежать домой за посудиной… А для чего мне её, смородину-то? Маме не до смородины сейчас. Набрать да сгноить? Нет, думаю, пусть висит. Обошёл смородинник, в другом месте в кусты полез. Нашёл всё же ежевику. Поспела, но её ещё мало. А мне много-то и не обязательно. Я ведь не впрок собирать пришёл, а так, время убить. Полазал, полазал по кустам, к воде поближе подался и наткнулся на ещё один куст смородины. Чёрная, крупная! Сощипнул несколько кисточек, сунул в рот – приятная. Но ежевику я больше люблю. Отвернулся, хотел уходить. Нет, думаю, надо на всякий случай запомнить эти кустики. Не целый год будем бабушку хоронить. Пригляделся, сориентировался, запомнил. Пошёл домой.
Бабушка уже лежала в гробу, стоящем на двух табуретах посреди избы. Её хорошо одели и в руки дали маленькую иконку. Вокруг головы ореолом разложили цветы. Сама она до груди, вместе с гробом, была прикрыта синей плюшевой тканью. Мама сидела на стуле у изголовья, погружённая в глубокие печальные раздумья. Я не стал нарушать тишину, молча подошёл к гробу, немного посмотрел на спокойный лик усопшей бабушки, и слёзы сами потекли по щекам. Я зашмыгал носом и маму как будто прорвало – так неожиданно и громко она заголосила, запричитала и закланялась, прижимая скомканный платок то ко рту, то к глазам. Чтобы так плакала мама, я ещё не видел. Мне стало страшно жаль её. Я подошёл ближе к ней, обнял и мы заплакали дуэтом.
Весть о кончине моей бабушки дошла и до Лубянки. Вечером приехал дядя Серёжа. В деревне телефон и телеграф – техника лишняя. Что случилось на одном конце деревни, через час известно на другом, а к вечеру – и в другой деревне. Дядя Серёжа долго о чём-то говорил и советовался с мамой и только потом подошёл ко мне. «Ну что, Васька? Все настойчиво и упорно считают тебя дьяволом. Как тебе нравится это звание?» – «Не нравится», – говорю. «А я бы гордился, – сказал дядя Серёжа. – Не всякий заслуживает такого звания». – «Да по мне хоть как меня зови. Не в этом дело. Все от меня шарахаются, как от заразы какой, и дружки меня избегают. Забери меня, дядя Серёжа, из Кокошино. Не могу я больше оставаться здесь». – «А ты думаешь, тебе в Лубянке лучше будет? Здесь хоть люди знают, что ты человеком родился – одумаются, рассосётся. А в Лубянке ты будешь пришлым – до смерти останешься дьяволом».
Дядя Серёжа, он умный – он всегда прав. Спорить я не стал. А когда пошёл его провожать, вспомнил про смородину и рассказал ему. «Ну, проныра ты, Васька, – похвалил он меня. – Вот это ты молодец! Вот этим и занимайся, а на людей не обращай внимания. Рано или поздно люди тебе будут завидовать и всё забудется. Делом надо заниматься, а не всякими вымыслами-домыслами. Смородина, Васька, это добрая штука. Мы с тётей Таей это дело обмозгуем. «Зима голодная, потому что бесплодная, а лето себя питает и зиме хватает». Так нам говорил наш учитель. Об этом забывать нельзя. А это что? – увидел он рога у крыльца. – Где это ты взял?» – «Да сегодня в лесу нашёл». – «Ты уже и в лесу побывал?»
Ну, я пожаловался дяде Серёже, что от меня дружки отвернулись, что вынужден был бесцельно убивать время в лесу. «Не вешай нос, Васька», – сказал он подхватив рога. Долго он их разглядывал, то ли любовался, то ли дивился их тяжести. Постукал одним о другой, подержал симметрично, представляя как бы они смотрелись на голове лося, и осторожно положил на прежнее место. «Береги их, Васька. Это искусство природы. Ценность!»
А утром рано меня разбудила тётя Тая. Я удивился – откуда она взялась? Оказывается её дядя Серёжа привёз, чтоб она помогла маме постряпать для поминок. А сам уехал заказывать для бабушки памятник. Потом надо было отвезти на кладбище копальщиков, определить место для могилки и договориться с попом, чтоб бабушку отпели. Бабушка много раз просила маму, чтоб её без отпевания не хоронили. А слово бабушки для мамы – закон.
Увидев тётю Таю, я очень обрадовался и вскочил. Ну, думаю, хоть один, кроме мамы, будет в доме человек, который от меня не шарахается. А тётя Тая спрашивает: «А далеко, Вася, смородина растет?» – «Да нет», – говорю. Сам быстро собрался, побежал в чулан, взял корзину… А ведь две корзины надо, а у нас одна. А тётя Тая говорит: «Зачем корзину. Я вот бидончик трёхлитровый взяла». – «Чудная, – говорю, – вы тётя Тая. В бидончик землянику собирают, а смородину – в корзину». – «Это почему так?» – спросила она. «А потому, что землянику – по ягодке, а смородину – горстями…»
И, взяв корзину и ведро, мы через пятнадцать минут были у смородинника. Я показал тёте Тае, как надо горстями смородину собирать, а сам ушёл к другому кусту. И наверное через полчаса она мне пожаловалась: «Вася, а ведро-то у меня уже полное». – «У меня тоже корзина скоро будет полна». – «А остатки куда?» – «Какие остатки?» – «Так я не все кусты обобрала». – «Ну, придёт кто-нибудь и доберёт». – «Кто-нибудь…» – с каким-то сожалением протянула тётя Тая. «Ну, а как же? А если бы нам с вами не досталось?» Тётя Тая спорить не стала. Я набрал полную корзину и вышел из кустов. На открытом месте стояло ведро, полное отборной смородины, а в кустах шуршала листьями тётя Тая. «Ну и во что ещё вы собираете?» – «Эх, Вася, тут конца ей нет».
Тётя тая вышла из кустов с платком, полным смородины. Положила его на ровное место, связала крест-накрест концы и у неё получилось две ноши. В латке было литра три, а может и все четыре.
И собирали-то мы с тётей Таей смородину какой-нибудь час, а как далеко я ушёл по своему внутреннему состоянию от всей давящей предыдущей суеты – не высказать. Я видел счастливое лицо тёти Таи, вышедшей из кустов с полными руками смородины. Мне так приятно было осознавать и чувствовать, что это я её сделал счастливой, и что мне никто и ничем не мешал это сделать. Как же это просто – делать других счастливыми! Но только чтоб никто и ничем не мешал тебе этого делать. Я чувствовал себя на седьмом небе. И если я когда-то кому-то делал раньше подобную радость, я не мог сам при этом чувствовать вот такую же радость, как на этот раз. Не было у меня для сравнения обстоятельств, в каких я сделал счастливым человека, будучи несчастным сегодня сам. И так мне хотелось продлить эту радость, затормозить её исчезновение. Возможно я впервые осознал всю мимолётность человеческого счастья. Ведь только стоит вернуться в Кокошино, как всё вмиг растает – и охота делать кого-то счастливым, и надежда, что кто-то тебя сделает таким. В общем возвращался я домой лениво, без настроения.
Тётя Тая сходу включилась в стряпню, которую до нас развела мама. Смородину сложили в чулан – не до неё было. Потом, после поминок, тётя Тая увезла её всю домой. Мама ей отдала и мою, сказав что я ещё больше того принесу, что я пронырливый. Я тоже помогал им в стряпне по мелочи – лука, укропа с огорода принёс, почистил, по воду сходил. То – подай, это – убери, то – принеси… А часов в десять заехал дядя Серёжа, о чём-то посоветовался с мамой и собрался ехать в Лубянку. Я упросился с ним… Мама возражать не стала и мы поехали. Дорогой мы больше молчали. Я думал о своём положении, а дядя Серёжа – о чём-то своём. Мне жаль было бабушку и я решил излить вину свою перед дядей Серёжей.
«Это я во всём виноват. Мне стыдно… и жаль бабушку». – Я ещё что-то хотел сказать, но горло сдавили спазмы и я заплакал. Дядя Серёжа обнял меня правой рукой, потом отпустил. «Все мы, Васька, стоим в одной очереди. Мы только не знаем, когда кому достанется. Не надо плакать. Эта очередь двигается спокойно. Её никто не нарушает своей нетерпеливостью. Придёт и наше с тобой время. Туда никому не хочется. Особенно туда не хочется тому, кто ничего не успел сделать. А раз ничего не сделал, значит и не понял, для чего на белом свете жил. Твоя бабушка много успела доброго сделать, потому ты ей и благодарен, потому тебе её и жаль. А ты не жалей, а гордись ею. И не плачь. Не плачь, но вспоминай её всегда с благодарностью. Ещё древние скифы, наши далёкие предки, оберегали могилы своих отцов и дедов от посрамления. Жизни не жалели во имя праха своих родителей. Войны объявляли посрамителям. В человеке всегда должна жить благодарность. Если мы забудем благодарность, мы потеряем основной смысл жизни». – «А в чём он, основной смысл жизни?» – спросил я. Спросил не потому, что мне вдруг стало это интересно, а просто так, вроде как по инерции. «Основной смысл жизни, Васька, в совершенстве». – «В каком – совершенстве?» – «Мы должны совершенствовать весь человеческий быт и создавать лучшие условия для жизни потомства, тем самым совершенствуя себя. Для этого существуют науки, искусство и общечеловеческое сознание, как копилка всех достижений человеческого разума». – «Ты, дядя Серёжа, говоришь так, как будто все на свете должны учиться и делать открытия». – «Молодец, Васька! Ты правильно меня понял». – «А что открывать-то? Парни наши жалеют, что всё уже открыто». – «Парни жалеют? А ты не жалеешь?» – «А какой я открыватель? И что в нашем Кокошино открывать-то?» – «Открывать, Васька, много, что можно, и везде, на каждом шагу. Жить бы человеку ещё миллиард лет, и он так и не открыл бы всего, что есть на Земле, на других звёздах и вообще в природе». – «Почему «бы»?» – «Что – «почему – «бы»?» – «Ты говоришь, «жить бы человеку…» – «А… Жить бы человеку, да не сможет он столько жить». – «Почему?» – «В природе всё ритмично, ну, или циклично. Всё подчинено законам ритма. Жизнь в природе вечная, бесконечная. Но она развивается периодично (циклично). Природа, она как бы забавляется, пробует организовать жизнь по-разному. Вот она, исходя из условий на планете, стала создавать жизнь задуманным ей организмам, совершенствует их до определённого времени. Но приходит для её организмов какой-то предел и она их стирает, зачёркивает и начинает всё сначала». – «Ну и для чего тогда делать открытия?» – «Не для чего, а для кого. Я же сказал, что человек должен быть благодарным. Если для тебя бабушка старалась, ты должен отплатить за её старания». – «Кому?» – «Потомкам. Своим потомкам. Твои потомки ведь тоже были в планах твоей бабушки. Это же и есть закон Природы. Ну, а пока мы живём, мы должны выполнять все законы Природы. Вот ты требования матери выполняешь?» – «Выполняю». – «Почему?» – «Я же перед ней в долгу». – «Природа, это тоже – наша мать. И мы все перед ней в долгу».
Я посидел, подумал. Больше задавать вопросы не хотелось, но в мыслях вертелись слова дяди Серёжи: «Жить бы человеку ещё миллиард лет, и он так и не открыл бы всё, что есть на Земле, на других звёздах и вообще в природе». И опять вспомнились слова: «инопланетянин малину ест». И хоть не хотел я вопросы задавать, но всё же спросил: «А инопланетяне умнее нас?» – «Инопланетяне?» – Дядя Серёжа долго не отвечал, видимо ответ обдумывал, а может затруднялся ответить. Ну и я не особенно ответа ждал. Но он всё же ответил: «Не верю я, Васька, вообще в инопланетян. Если они и существуют, то вряд ли много нас умней». – «Почему?» – «Поскольку жизнь в природе подчинена законам ритма, беспредельного развития разума быть не может».
Я долго обдумывал ответ, не задавая больше вопросов. Эта тема разговора к моей жизни отношения не имеет, потому я спросил о другом: «Дядя Серёжа, а почему ты забросил самолёт?» – «Так на нём нельзя уже летать, он совсем из строя вышел». – «А отремонтировать разве нельзя?» – «Запчастей нет». – «Ну и как?.. Ты теперь лётчиком никогда не будешь?» Дядя Серёжа пожал плечами. «Наверное никогда». – «А тебе жаль, что ты больше никогда не будешь лётчиком?» – «Маленько жаль». – «А почему только маленько?» Дядя Серёжа помолчал, а потом сказал: «Неважно, Васька, на каком блюдце жизнь нам яичко поднесёт – на золотом или замурзанном. Важно, чтоб оно было не тухлое».
Я сидел обдумывая слова дяди Серёжи, а он разговор продолжать не стал. Так, молча, мы и въехали в Лубянку. Дядя Серёжа подрулил прямо к церкви. В церкви я сроду не бывал. Войдя в неё я был поражён буквально всем – её внутренним объёмом, оформлением, планировкой, красками, неторопливостью, строгостью и молчаливостью людей. Посетителей было немного, в основном старушки. Один только подслеповатый старичок, в затёртом военном кителе. Он как-то озадаченно глядел по сторонам и мял в руках старый картуз. Дядя Серёжа пошёл договариваться на счёт отпевания бабушки, а я остался разглядывать картины на стенах. Пробовал читать всякие надписи-подписи, но не все слова получалось прочесть и не всё было понятно. А там, в глубине церкви вдоль стен какие-то большие шкафы с иконами, как красиво оформленные киоски. Ну конечно, всё разглядеть и осмыслить я не успел. Мне только запомнилось, что всюду преобладает жёлтый и коричневый цвет.
Дядя Серёжа появился в дверях какой-то комнатки у входных дверей. За ним из комнатки вышел поп. Тот самый, что нас допрашивал на покосе, когда мы из-под земли вылезли. Они на ходу о чём-то переговаривались. Я пошёл в их сторону. Поп первым меня увидел и пошёл навстречу. Он смотрел на меня как старый друг. «А, Василий, и ты здесь?» Я ничего не ответил, вплотную подойдя к дяде Серёже. Поп погладил меня по голове. «Ну как, тепло в обнимку с медведем спать?» Я не понял, шутит он или всерьёз спрашивает, потому продолжал молчать, глядя ему в глаза. «На острове, говоришь, с медведем-то оказались?» – «Да», – ответил я. Поп снова погладил меня по голове и сказал дяде Серёже: «Звери умеют уважать друг друга, когда у них беда общая». Потом он опять обратился ко мне: «А корреспондента-то ты как провёл?» – «Очень просто, – говорю. – Он глядел туда, а я вынырнул вон там, – показал я руками. – Я потом оделся потихоньку и ушёл, а он не догадался оглянуться». – «Молодец!» Поп опять погладил меня по голове. Я улыбнулся и слегка повернул голову вправо. Поп убрал руку. «Он дядю Васю привёз с бреднем, – продолжил я. – По дну шарили, а не догадались, раз белья моего на берегу нет, значит я домой ушёл». – «Вот в этом, Василий, ты действительно феномен – умней взрослого оказался».
Поп поглядел на дядю Серёжу, восхищённо качая головой. Дядя Серёжа слушал с гордым видом, словно речь шла о сыне или его ученике.
«Ну, а из огня-то как ты живым вышел?» – «Ну как, – говорю. – Я в погребе спасался». – «В погребе? А что же ты помощи не попросил, когда пожар потушили и люди тебя искать стали». – «Испугался я. Думал меня пороть будут за то, что избу спалил».
Поп неопределённо качал головой, обдумывая следующий вопрос. Опередив его, я добавил: «Угорел я там. Тошнило меня и сил не было». Поп снова погладил меня по голове. «Ну, а сейчас как себя чувствуешь?» Я пожал плечами: «Нормально». Поп снова меня погладил. Видно у него привычка такая, гладить всех, кто меньше его ростом. «Ну ладно, граждане. У меня дела». И он ушёл в глубину церковных нагромождений. Дядя Серёжа взял меня за руку и сказал: «А ведь я, Васька, тоже первый раз в церкви. Давай знакомиться». И он стал разглядывать церковное оформление. Долго и молча разглядывал, потом сказал: «А знаешь, Васька, какие мысли ко мне приходят?» – «Какие?» – «А ведь мы абсолютно все начинали совершенствовать свой интеллект с примитива, с детских фантазий, с веры в чужую логику. И постепенно, приобретая знания и опыт, совершенствуя свою логику, становились серьёзными, взрослыми. И всем нам жаль расставаться с детством, все мы бережно храним его в памяти, прощая собственный примитив и забавность детской логики. Точно так же и религия, как общечеловеческая мысль, в начале совсем примитивна, подчас забавна, но, в конечном счёте, придя к мысли о необходимости совершенства духовного мира человека она приобрела своё величие. И не уважать её нельзя. Не уважать её, я бы сказал, просто преступно, бесчеловечно. Религия – это культура наших предков, и уважать её мы обязаны. Пользоваться ею нам не обязательно: у нас своя должна быть какая-то культура. Не уважать культуру предков – преступно. И вся современная атеистическая суета – не более, чем невежество». – «Какая атеистическая суета?» – спросил я. «Ну, борьба с религией». – «А почему к тебе пришли такие мысли?» – «Всякая культура оставляет свои следы. А атеистическое невежество стирает эти следы, чтобы потомки не знали о существовании культуры своих предков. Посмотри, какая красота в церкви! Это следы определённой культуры. А сколько уничтожено невежами таких ценностей! Храмы, соборы, монастыри… Да ты пока этого не знаешь и вряд ли поймёшь».
Я действительно не всё понимал в рассуждениях дяди Серёжи. Я только спросил: «А что такое – культура? Почему религия – культура?» – «Культура? – переспросил дядя Серёжа. – Как бы тебе это проще объяснить? Культура – это качество человеческих отношений ко всему нас окружающему и к собственной человеческой деятельности. Качество отношений к природе, ко всему, что есть на Земле – к животным, растениям, птицам, рыбам, насекомым, к человеку и его труду, к результатам этого труда, к истории, к наукам, ко всему прекрасному, к душе человеческой, к искусству, к воде и воздуху, к космосу». – «Ну, ты, – говорю, – дядя Серёжа, до завтра будешь перечислять. Я уже понял». – «Ко всему можно по-разному относиться – возвышенно, доброжелательно, внимательно, а можно и неряшливо, чёрство, хищнически, наплевательски. Культура бывает всякая. Некультурных людей не бывает. Есть люди высокой культуры, есть – низкой. Как не бывает людей невоспитанных. Есть люди хорошо воспитанные, есть – дурно воспитанные. Потому что качество всех явлений и предметов разное. Некачественных вещей ведь тоже не бывает. Бывают вещи хорошего качества, бывают – плохого». Дядя Серёжа помолчал, подумал и продолжил: «Нынче продают товары со знаком качества. А какого качества? Хорошего? Плохого? Высокого? Низкого? Неважно. Лишь бы людей обмануть. А это тоже – качество отношений к покупателю, то есть – культура. Какая?» – «Низкая», – говорю. «Невежество – это тоже культура. Низменная. Вот и религия – это тоже культура. Это отношение человека к непознанному». – «К какому «непознанному»?» – «Ну, как бы тебе сказать? К тем силам природы, от которых человек зависит, но которые объяснить не в состоянии. Со временем наука, вероятно, всё объяснит, постепенно, а пока человеку не терпится, и он пытается объяснить по-своему. «Это зависит от Бога, а это от нечистой силы». – «А что такое Бог и нечистая сила?» – «Бог? – дядя Серёжа задумался. – Погоди, Васька. Дай подумать, как ответить. Вот мы с тобой оказались в подземелье. Нам надо было выбраться. Мы надеялись на свои силы, на свой ум, на здоровье, на лодку с вёслами, на наше терпение, а самое главное – на колодец. Но вот колодец рухнул, обвалился, и больше нам надеяться стало не на что. Нет выхода! Но мы с тобой вышли. Что-то дополнительное сверх наших надежд нас с тобой спасло от гибели. Что не входило ни в какие наши расчёты. Мохры! Ведь мы о них не думали, не знали. Вот эта дополнительная надежда, которой нет в расчётах человеческих сил, умений и возможностей, и есть Бог-спаситель. А нечистая сила – это неучтённые обстоятельства, разрушающие человеческие надежды. Это то, что противоречит Богу-спасителю. Собственно, Бог-спаситель – неучтённые обстоятельства, но порождающие дополнительную надежду, а нечистая сила – обстоятельства разрушающие имеющиеся надежды. Вот если бы мы с тобой попали под обвал колодца и погибли бы – это по религиозным понятиям было бы как потешание нечистой силы». – «Понятно, – говорю, – дядя Серёжа. Значит нас с тобой Бог спас?» – «Так выходит, Васька. Только помни русскую пословицу: «сам плох, так не поможет Бог». Он дважды нас с тобой спас. Первый раз – колодец обвалился раньше, чем мы под него подплыли. А второй – мохры развесил над нашей головой. Их, конечно, никто не готовил специально для нас. Они уже много лет там висели. Это мы случайно под ними оказались, и уж совсем случайно – их заметили. Ситуация…» – «Какая «ситуация»?» – «Стечение обстоятельств. По-русски – случайность».
Я согласно покачал головой и мы снова стали разглядывать церковное оформление. Мы разглядывали картины, утварь, задирали головы на стены и на потолок. Многое в картинах было мне непонятно.
«Человек создал Бога, чтобы Бог создал человека», – сказал дядя Серёжа. «Чего?» – переспросил я. «Да это я так, для себя. Всё рассуждаю. Не можем мы оторваться от этой культуры, потому что нет у нас другой, своей». Он резко повернулся ко мне и сказал: «Так вот, Васька, ты – жертва старой культуры. Тени старой культуры угнетают души верующих, и они свою тяжесть перенесли на тебя: ты – дьявол. Так они решили».
Я смотрел на дядю Серёжу, пытаясь понять, что он говорит, но не понимал.
Привезли гроб с бабушкой. Мужики молча внесли его на полотенцах и поставили на какие-то нары, сооружённые рядом с какой-то дополнительной стеной, увешанной иконами. Ввалилось много народу – Кокошинские, Мякошинские. Старушки, входя в церковь, молились – кто на ходу, кто останавливаясь. К гробу вышел поп, отдал какие-то указания мужикам и отошёл к столу, стоявшему в конце дополнительной стены. На столе блестела золотом какая-то причудливая посуда. Поп занялся приготовлениями к отпеванию. К нему подошла Лубянская старушка и, косясь на меня, стала о чём-то его предупреждать. Ба! Да это Алёшкина бабка, которая подглядывала в окно, когда я делал упражнения в дядиной Серёжиной избе после лесной истории. Я расслышал слова «дьявол» и «осквернение». Меня покоробило: бабка явно «доносила» про меня. Поп согласно покачал головой. Ну, думаю, сейчас меня попросят из церкви. Но поп этого делать не стал. Возле гроба выстроились четыре женщины, одетые в чёрные платья, и старичок, прибранный и причёсанный. Они по какому-то уговору, дружно запели. Запели красиво, стройно, негромко, неторопливо. Поп ходил вокруг гроба, раскачивая какую-то дымящуюся люльку, и тоже пел. В церкви разом прекратилось движение людей и разговоры. Я заслушался. Слов я не понимал, но неторопливая мелодия и сочетание голосов захватили моё внимание. «И это прекрасное пение для моей бабушки? – подумал я. – Как жаль, что она уже этого не слышит». Мне стало грустно. Когда пение закончилось, поп поднялся на какие-то ступеньки перед множеством икон и попросил внимания.
«Уважаемые граждане прихожане, я прошу меня внимательно выслушать. Все мы – люди, сёстры и братья. И должны мы друг к другу относиться доброжелательно, с уважением, всегда должны быть готовы помочь другому в беде и в горе. Но вот среди нас человек несколько раз подряд попал в беду и умно сам справился со своей бедой… без вашей помощи. За это вы его объявили дьяволом. Это Василий Сыроедов из Кокошино. Он – брат ваш. Не гоните его от себя. Я лично имел удовольствие разобраться в его злоключениях».
Поп, конечно, ещё что-то говорил. Я сразу перед собой увидел других людей. В их лицах было сострадание ко мне, и недоверие, и удивление, и изучение – всё, но не прежний страх. Что это? Сила внушения или авторитет попа? Я вопросительно глянул в глаза дяди Серёжи. «Так, Васька, и должно быть», – шепнул он мне.
А когда поп, помахав дымной люлькой, прошёлся вокруг гроба и сыпнул на грудь бабушки горсть сухого песку, меня как током прошило и слёзы навернулись на глаза. Я разревелся на всю церковь, вмиг представив себе, что бабушку засыплют землёй и её больше никогда не будет. Многие плакали, сочувственно глядя на меня.
Из церкви я вышел уже человеком, а не дьяволом. Хотя слово «дьявол», конечно, ко мне так и приросло,
только не в той прежней форме, а в другой, безобидной. От меня уже никто не шарахается, напротив, со мной все здороваются, меня приветствуют. Дружки снова ко мне вернулись. Они часто просят меня, чтоб я рассказал им ту или иную историю. Я им рассказываю и они с удовольствием слушают. Но никто из них не хочет, чтоб с ним случилось что-нибудь подобное.