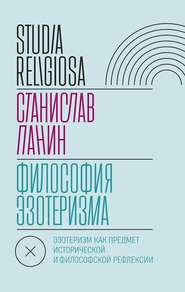
Полная версия:
Философия эзотеризма
Из приведенного примера сказки становится понятно, что посредником между мифологическим мышлением и обыденным сознанием часто выступает искусство. Именно из искусства в различных его проявлениях – литературы, музыки, кинематографа – современный человек черпает «строительные кирпичики» для формирования собственного мировоззрения. Именно благодаря искусству в массовой культуре формируются стереотипы относительно допустимого и недопустимого поведения, жизненных ценностей и приоритетов.
И искусство, и обыденное сознание – секуляризированные формы мифологического мышления. При этом искусство, поскольку оно осуществляется целенаправленно, – это секуляризированная форма эзотеризма (магического и мистического действия), а обыденное сознание – секуляризированная форма мифа.
О родстве искусства с магией и мистикой написано достаточно много и применительно к разным историческим периодам. Говоря о творчестве Державина, Д. Ларкович отмечает, что российский поэт был увлечен почерпнутой в работах Сведенборга идеей о том, что «искусство есть земная форма соответствия Божественно предустановленной модели совершенного бытия, которая служит человеку напоминанием о его небесной родине»[79]. Г. Лэчмен, характеризуя творчество поэтов-романтиков, пишет: «Нас не удивляет близость поэтов и магов: для достижения желаемого эффекта и те, и другие используют слова. А по мере того, как магия все больше уходила от средневековой идеи о власти над ангелами и демонами и приближалась к использованию сил воображения и предвидения, как мы видим в случае Уильяма Блейка, различия между поэзией и магией становились вопросом терминологии. Ко времени Артюра Рембо и ранних символистов разница между поэзией и магией почти исчезла, а поэты стали новыми верховными жрецами мистической религии искусства»[80].
Итак, мы попытались дать характеристику эзотеризма как одной из форм мировоззрения и сопоставить его с другими формами мировоззрения. На основе сказанного выше мы можем определить эзотеризм как форму мировоззрения индивидуалистически ориентированную, коренящуюся во внерациональном знании-гнозисе, в котором человек соприкасается со сферой сакрального, и обещающую своему адепту инструментарий для самостоятельного, осознанного конструирования своего мировоззрения.
Эзотеризм сосуществует с другими формами мировоззрения. Ближе всего эзотеризм к мифу, религии, философии и искусству. По отношению к мифу он выступает как практика самостоятельного деконструирования и конструирования мифов, в которые погружен субъект. По отношению к религии эзотеризм выступает как форма «личной религии», основанной на непосредственном опыте субъекта, в отличие от религии в узком смысле слова, которая является предприятием коллективным, общинным. Эзотеризм близок к философии: рационализация эзотеризма задает фундамент для философского мышления, как мы видим в Античности на примере Пифагора, Парменида, Эмпедокла, Платона и неоплатоников. Эзотеризм, наконец, тесно связан с искусством, отличаясь от него лишь по признаку сакральности. Сакральное искусство становится магическим или мистическим действием, а секуляризированная магия превращается в искусство, будь то поэзия или, в наиболее очевидном случае, искусство фокусника.
Еще одна сфера, связанная со сферой эзотерического, которая до сих пор оставалась за пределами нашего рассмотрения, – сфера науки. Это важная тема, но, прежде чем перейти к разговору о взаимосвязи истории науки и истории эзотеризма, необходимо сделать небольшое отступление и рассмотреть проблему взаимосвязи понятия науки и мировоззрения.
1.3. Мировоззрение и наука
В представленной схеме основных форм мировоззрения отсутствует понятие науки. Причина этого состоит в том, что науку (в данном случае это слово используется преимущественно в узком смысле, соответствующем английскому «science», то есть как синоним эмпирической индуктивной науки, опирающейся на математический язык и инструментарий, включая естественные, технические и социальные науки, а также математику) корректнее было бы определить не как форму мировоззрения, а как деятельность по созданию эмпирически адекватных моделей реальности, обладающих предсказательной силой.
Важно подчеркнуть, что в таком определении не используется понятие истинности, которое вполне сознательно выносится за скобки. Предположение о том, что научный метод обладает способностью открывать нам «истинное положение дел» или «объективную реальность», является метафизическим допущением, не имеющим под собой серьезного философского основания. Это прекрасно понимали и понимают многие современные ученые, обращавшиеся к философской рефлексии по поводу оснований науки. Так, физик Эрвин Шрёдингер прямо указывал относительно научных экспериментов: «Мы планируем их с целью установить, подтверждают ли они ожидания – то есть были ли ожидания резонными и, таким образом, являются ли используемые картины и модели адекватными. Заметьте, что мы предпочитаем говорить адекватный, а не истинный. Ибо для того, чтобы описание могло быть истинным, оно должно быть непосредственно сравнимым с реальными фактами. Что касается наших моделей, дело обычно обстоит не так. Но мы используем их, как было сказано выше, для вывода наблюдаемых свойств. ‹…› Вероятно, мы не можем рассчитывать на нечто большее, чем адекватные картины, синтезирующие понятным образом все наблюдаемые факты и дающие резонные ожидания новых, которые мы ищем»[81].
Наука, таким образом, создает эмпирически адекватные модели реальности. Нередко эти модели оказываются продуктивными: они помогают нам создавать новые лекарства, строить сложнейшие инженерные сооружения, изготавливать компьютеры, самолеты и даже космические корабли. Все это, однако, ничего не говорит о способности науки открывать «подлинную реальность» в каком-либо смысле слова. Вопрос о том, способна ли эмпирическая индуктивная наука познавать подлинную реальность, с эпистемологической точки зрения остается весьма проблематичным. Еще в XVIII веке Дэвид Юм сформулировал классическую проблему индукции, указав, что, поскольку в индуктивном умозаключении выводы не следуют жестко из посылок, принятие выводов такого умозаключения является предметом не знания, а веры, которую также можно было бы назвать здравым смыслом. Аналогичные соображения высказывал в начале ХХ века и Людвиг Витгенштейн. В своем анализе проблем научного метода он отмечал следующее: «Процесс индукции состоит в том, что мы принимаем простейший закон, согласующийся с нашим опытом. Но этот процесс имеет не логическое, а только психологическое основание. Ясно, что нет никакого основания верить, что в действительности наступит только простейший случай. То, что завтра взойдет солнце, – гипотеза; а это означает, что мы не знаем, взойдет ли оно. Не существует необходимости, по которой одно должно произойти потому, что произошло другое… В основе всего современного мировоззрения лежит иллюзия, что так называемые законы природы являются объяснениями природных явлений»[82].
Еще дальше в этом отношении идет Уиллард Ван Орман Куайн, утверждая, что опыт, по существу, представляет собой лишь граничное условие научного высказывания. Иными словами, научное высказывание должно вписывать в себя те наборы эмпирических данных, которыми мы располагаем, но эти данные задают лишь границы возможного, а не окончательный вид наших теорий. Так, некоторые ученые раннего Нового времени трактовали ретроградное движение планет с помощью птолемеевской системы эпициклов, в то время как другие делали это с помощью гелиоцентрической модели Солнечной системы. В современной физике закономерности, описываемые квантовой механикой, имеют целый ряд возможных интерпретаций: многомировую (Хью Эверетт), копенгагенскую (Нильс Бор и Вернер Гейзенберг) и др. Аналогичным образом эмпирически корректное описание движения звезд в галактиках может быть получено посредством постулирования темной материи или применения модифицированной ньютоновской динамики.
При этом, приняв определенную модель объяснения эмпирических данных, далее мы можем достаточно произвольно определять, что именно хотим в ней изменить при получении новых данных, а что хотим оставить. Новые эмпирические данные могут истолковываться как необходимость отбросить или переработать эту теорию, но также, например, как ошибка в наблюдениях противников теории и т. д. Любое высказывание внутри существующей теоретической модели при этом зависит лишь от других высказываний внутри этой же теоретической модели, с которыми оно логически связано, но не напрямую от появления новых фактов. Куайн формулирует эту идею следующим образом: «Переоценив одно высказывание, мы должны переоценить и какие-то другие, которые могут быть логически связаны с первым или являются высказываниями о самих логических связях. Но поле в целом так не определено своими пограничными условиями, опытом, что есть достаточно широкий выбор относительно того, какие высказывания следует переоценить в свете любого единичного противоречащего опыта»[83]. Эмпирические данные, конечно, задают границы возможных научных теорий – например, при всем многообразии докеплеровских астрономических моделей никому не приходило в голову утверждать, что планеты движутся по квадратным орбитам, – но внутри конкретного набора эмпирических данных сохраняется существенная свобода для конструирования взаимоисключающих теоретических моделей и их доработки в случае открытия новых данных, противоречащих оригинальным формулировкам. При этом выбор того, какая именно часть научной модели должна быть сохранена, а какая переработана, является в значительной степени произвольным и не может быть сделан на основе эмпирических данных. Данный принцип получил название принципа Дюгема – Куайна, поскольку параллельно с Куайном схожие идеи сформулировал французский физик Пьер Дюгем (1861–1916).
Ограничения эмпирической науки связаны, однако, не только с описанными особенностями эмпирической методологии. Существует значительная область, изначально выходящая за пределы применимости научного метода, – это сфера ценностей, этики и в широком смысле сфера мировоззренческих вопросов. Вопросы из серии «Для чего я пришел в этот мир?», «Чего я хочу достичь в собственной жизни?» или «Что важнее: человек или государство?» – это вопросы личного выбора, а не вопросы, которые требуют апелляции к эмпирическим моделям действительности. Более того, вполне вероятно, что многие из этих вопросов вовсе не имеют какого-то однозначного, раз и навсегда заданного, универсального ответа. Ответы могут меняться от эпохи к эпохе по мере прогресса человечества как целого и даже от личности к личности. То, что является адекватным ответом на вопрос о смысле жизни для одного, может оказаться совершенно неудовлетворительным для другого.
Существуют, однако, некоторые течения мысли, которые утверждают, что посредством научного метода мы можем получить рациональные и общезначимые ответы на мировоззренческие вопросы. Такие течения мысли мы будем называть «сциентизмом», который можно определить как убеждение в том, что наука может дать исчерпывающие ответы на все стоящие перед человечеством вопросы. Поскольку эти вопросы в действительности являются скорее философскими, чем собственно научными, сциентизм имплицитно включает метафизические утверждения, которые часто формулируются в терминах натуралистической материалистической метафизики: «В рамках сциентизма вопросы формулируются в терминах этой конкретной метафизической перспективы, а корректность того или иного метода оценивается прежде всего с точки зрения того, рассматривает ли он мир так, как его определяет натуралистическая материалистическая метафизика»[84].
Лоуренс Принсип определяет сциентизм как «веру в то, что наука и ее методы являются единственным по-настоящему достоверным путем получения нового знания и ответов на вопросы, вплоть до полного исключения других методов и дисциплин», где под «наукой» понимается «современное эмпирическое естествознание, метод которого состоит в наблюдении… в сочетании с методом индукции»[85]. Важно подчеркнуть, что речь идет об абсолютизации даже не просто естествознания, а именно естествознания в его современном виде: одной из черт сциентизма является игнорирование исторических трансформаций понятия науки и того факта, что научный метод не является константой, а претерпевает существенные изменения с течением времени. Схожую характеристику дает В. Швырев, отмечая, что один из аспектов проявления сциентизма состоит «в некритическом отношении к получившим распространение научным концепциям, в недооценке необходимости их постоянной коррекции, сопоставления с другими возможными взглядами и позициями, учета широкого спектра социальных, культурных, этических факторов»[86].
Поскольку сциентизм, утверждая научный характер своих мировоззренческих установок, претендует на их общеобязательность и рациональный характер, его правомерно было бы обозначить как форму идеологии. Интересна в этом отношении история самого термина «идеология». Впервые он был введен на рубеже XVIII–XIX веков французским ученым и общественным деятелем Антуаном Дестют де Траси[87]. Де Траси мечтал о создании науки, которая могла бы стать источником всеобъемлющих знаний о человеке и обществе и позволила бы перестроить общество на строго научном основании. «По замыслу де Траси и его сторонников, идеология не должна содержательно отличаться от любой другой науки, например, от механики, зоологии. Однако, превосходя их по интегрирующей роли в социальном познании, она должна вытеснить философию с ее места королевы наук. Творец идей – разум, и его действия должны быть предсказуемы как законы гравитации. Конечно, для этого необходим „Ньютон науки о мыслях“, необходимы тщательные исследования „законов человеческой натуры“. При выполнении этих условий люди смогут на строго научном уровне перестроить политику, экономику, этику в самых их основаниях»[88]. Таким образом, само понятие идеологии рождается из мечты о создании «научного мировоззрения», а сциентизм оказывается идеологией par excellence.
Утверждение о необходимости разводить сферы науки и мировоззрения не ново. Например, Рудольф Карнап попытался определить границу между научными и мировоззренческими высказываниями в статье «Устранение метафизики посредством логического анализа языка». Согласно Карнапу, мировоззрение, которое он рассматривает как особое «отношение к жизни» (attitude toward life), принципиально отличается от научной теории[89]. Основу научных теорий составляют суждения об определенных «положениях дел» (state of affairs), где под положением дел понимается конкретный набор эмпирических данных. Мировоззренческие же высказывания выстраиваются не вокруг эмпирических данных, а вокруг стремления выразить свое отношение к жизни, тесно сопряженное с эмоциями и личными переживаниями. Когда, например, верующий говорит, что воровство – грех или что Тора – священная книга, это не попытка сообщить какие-то эмпирические данные, обобщить или объяснить результаты наблюдений, это прежде всего выражение своего отношения к некоторому явлению.
Карнап выделяет несколько способов выражения отношения к жизни: мифологию, теологию, метафизику, искусство. Мифология является первичной по отношению ко всем остальным. Из нее постепенно развились, напрямую или опосредованно, остальные формы: «Наследником мифологии стала, с одной стороны, поэзия, которая сознательно воспроизводит и усиливает воздействие мифа на жизнь, с другой стороны, теология, которая систематизирует мифологию. Какова же тогда историческая роль метафизики? Пожалуй, мы можем рассматривать ее как замену теологии на уровне систематического, абстрактного мышления»[90]. При этом элементы мифологического мышления по-прежнему проявляют себя во всех сформировавшихся на ее основе формах отношения к жизни.
Карнап симпатизирует искусству, поскольку оно не претендует на научный характер, а является формой непосредственного, индивидуально окрашенного выражения личного отношения к жизни. Метафизика, напротив, представляется ему неадекватным способом выражения отношения к жизни, поскольку, претендуя на научность, она одновременно бессодержательна с научной точки зрения в силу отсутствия у нее эмпирического основания и лишена непосредственности и эмоциональности художественной формы выражения. Метафизика, таким образом, это попытка самовыражения, реализуемая негодными средствами; «метафизики – это музыканты, лишенные музыкального таланта»[91]. Основной тезис Карнапа, поскольку его работа посвящена критике метафизики, состоит в том, что мировоззрение не может стать наукой, а мировоззренческие суждения не могут претендовать на научный характер. Но вместе с тем верно и обратное: научные высказывания не могут служить адекватной формой выражения личного отношения к жизни, поскольку их функции принципиально иные.
Для того чтобы отличить науку от мировоззренческих представлений, внешне схожих с ней, но не являющихся собственно наукой, французский философ и историк науки Жорж Кангилем (1904–1995) предложил понятие научной идеологии. Согласно Кангилему, научная идеология представляет собой «не рационально-научное образование и не продукт чистого иррационализма, это и не заблуждение или предрассудок, но и не настоящая наука, представляя собой особый род ненауки, находящейся, однако, в русле истории научного познания»[92]. При этом научная идеология не вносит прямого вклада в развитие науки; скорее между научной идеологией и наукой существует разрыв, а в некоторых случаях научная идеология и вовсе может мешать науке. Особенно ясно это проявляется в те моменты, когда научные открытия, сделанные в рамках одной дисциплины, начинают претендовать на универсальный объяснительный характер. Это произошло, например, с ньютоновской механикой. Трансформировавшись из научной теории в механистическое мировоззрение, она оказалась тормозом в развитии биологии, поскольку механицизм был несовместим с эволюционной теорией.
Сциентистская идеология оказала негативное влияние не только на развитие науки. Именно на базе сциентизма были построены такие тоталитарные идеологии ХХ века, как советский марксизм-ленинизм и немецкий национал-социализм. В основе каждой из них лежала научная теория, превращенная в инструмент ответа на мировоззренческие вопросы и сделанная общеобязательной. В первом случае это были социологические и экономические построения Маркса и Энгельса, во втором – расовая теория. Примечательно, что основоположника теории превосходства арийской расы Жозефа Артюра де Гобино (1816–1882) и его работу «О неравенстве рас» (1853) поддержали прежде всего представители биологического сообщества. Его идеям симпатизировал, в частности, увлеченный последователь идей евгеники Фрэнсис Гальтон (1822–1911), а также Эрнст Генрих Геккель (1834–1919). Александр Мень характеризовал творчество последнего следующим образом: «…такие защитники эволюционного полигенизма, как Карл Фохт, Людвиг Бюхнер, Эрнст Геккель, открыто объявили негров и других представителей „цветных“ рас „низшими существами“. Так, в поисках недостающего звена между Homo Sapiens и животным миром Э. Геккель считал всех так называемых „дикарей“ за полулюдей»[93].
Подобные примеры демонстрируют, как легко научные теории, стоит начать экстраполировать их конкретные эмпирические модели на сферу мировоззренческих вопросов, могут переходить из плоскости науки в плоскость политических идеологий, причем идеологий тоталитарных, поддерживающих колониализм, национализм и классовый террор.
Сциентизм, оформив свою претензию на статус доминирующего способа понимания мира, не просто противопоставил себя эзотеризму и религии, но подобно христианским миссионерам, стремившимся к уничтожению язычества, объявил настоящий крестовый поход против элементов культуры, объявленных «суевериями». При этом логика подобных репрессивных действий могла быть относительно произвольной и нередко основывалась скорее на личных убеждениях заинтересованных лиц, чем на рациональных аргументах. В своей борьбе против «суеверий» сциентизм нередко проявлял себя как догматическое, крайне консервативное и нерациональное мировоззрение, активно использующее вненаучные механизмы установления собственного превосходства, например политическое давление. Именно поэтому, как отмечает Фейерабенд, хотя «существуют области, в которых ученые приходят к согласию, однако это не внушает доверия. Их единство часто является результатом политического решения: оппонентов подавляют или затыкают им рот, чтобы сохранить репутацию науки как источника надежного и почти безошибочного знания. В иных случаях единодушие является следствием общих предрассудков: позиции принимаются без внимательного изучения сути дела и провозглашаются с такой уверенностью, как если бы они опирались на скрупулезный анализ»[94].
Одним из негативных последствий процесса «борьбы с суевериями» стало то, что эзотеризм оказался вытеснен за пределы рациональной рефлексии как нечто несерьезное, не заслуживающее внимания и исследования. Как пишет Ханеграафф, «до водораздела XVIII века, когда академические дисциплины начали принимать современную форму, „эзотеризм“ все еще считался важным, хотя и не бесспорным направлением для приложения интеллектуальных и научных усилий. Круг идей и вопросов, характерных для „эзотеризма“, и их значение всерьез обсуждались теологами, философами и представителями естественных наук. Лишь эпоха Просвещения смогла практически полностью изгнать эти темы из общепризнанного интеллектуального дискурса и типовых версий истории, излагаемых в учебниках»[95].
Значительные последствия, отголоски которых мы ощущаем и сегодня, этот процесс имел для академического изучения эзотеризма. В ходе его был сконструирован искусственный и далекий от реального положения дел образ эзотеризма как чего-то принципиально нерационального, невежественного, неважного, заслуживающего в лучшем случае критики и разоблачения, а также относящегося исключительно к культуре «другого»: древних цивилизаций, примитивных народов, маргинальных социальных групп. Именно поэтому, справедливо отмечает Ханеграафф, «в современной науке эта сфера (западный эзотеризм. – С. П.) заброшена, а уровень общих и специализированных знаний о ней катастрофически снизился еще в XIX веке»[96]. В этом смысле можно утверждать, что постепенный прогресс в изучении западного эзотеризма, ставший особенно заметным во второй половине XX века, был напрямую связан с преодолением сциентистских стереотипов относительно этой области культуры, сопровождавшимся постепенным переходом ко все более сложным и целостным моделям описания и анализа этого культурного феномена.
Вышесказанное, однако, не следует рассматривать как критику науки или ценности научного познания мира. Пока наука остается в границах научности и занимается тем, для чего была исторически создана, она оказывается прекрасным инструментом для того, чтобы менять общество к лучшему. Для того чтобы оставаться в границах научного дискурса, ученому необходимо дистанцироваться от ответов на мировоззренческие вопросы, вынося за скобки метафизические дебаты. В возможности такого дистанцирования как раз и состоит наиболее сильная сторона научного метода: ученым может быть человек абсолютно любого мировоззрения – верующий или атеист, либерал или консерватор – и при этом, корректно используя научный метод, получать результаты, релевантные для всех своих коллег, несмотря на различия мировоззренческого порядка.
Глава 2
Аналитическое исследование сфер эзотеризма, религии и науки
2.1. Три сферы западной культуры
В первой главе были даны определения основных форм мировоззрения: мифа, философии, религии, идеологии, эзотеризма, искусства, обыденного сознания. Также был рассмотрен вопрос о соотношении науки и мировоззрения, в связи с чем было показано, что наука не является формой мировоззрения, и дано определение сциентизма как идеологии, в соответствии с которой наука является всеохватывающим источником ответов на любые мировоззренческие вопросы и притом только научные ответы обладают реальной ценностью и достоверностью.
То, что наука не является формой мировоззрения, составляет важный аспект понимания природы науки и научной практики, поскольку только в этом случае она может быть по-настоящему объективной и плюралистической. Поскольку наука не является самостоятельной формой мировоззрения, носители различных мировоззрений могут продуктивно совместно участвовать в жизни научного сообщества, привнося свой уникальный жизненный опыт.
Однако то, что наука сама по себе не является мировоззрением, не означает, что она вообще не связана с мировоззрениями. Напротив, наука как сфера культуры, обладающая в современном обществе большим влиянием, постоянно взаимодействует с различными формами мировоззрения, трансформируя их и сама трансформируясь под их влиянием. Так, создание теории эволюции оказало в ХХ веке существенное влияние на трансформацию религиозного и религиозно-философского мировоззрений, открыв новый круг проблем, который, в свою очередь, породил таких авторов, как Пьер Тейяр де Шарден, которые решали задачу примирения религиозного мировоззрения с новыми данными биологии, в том числе путем оригинального переосмысления отдельных сторон христианства. С другой стороны, трансформации в мировоззренческом пространстве оказывают влияние на практику научной работы. Например, распространение идей гуманизма и концепции всеобщих прав человека повлияло на правила организации медицинских экспериментов на людях, а движение «зеленых» заставило пересмотреть требования к стандартам экологической безопасности и способствовало развитию целых отраслей науки и техники, таких как альтернативная энергетика.

