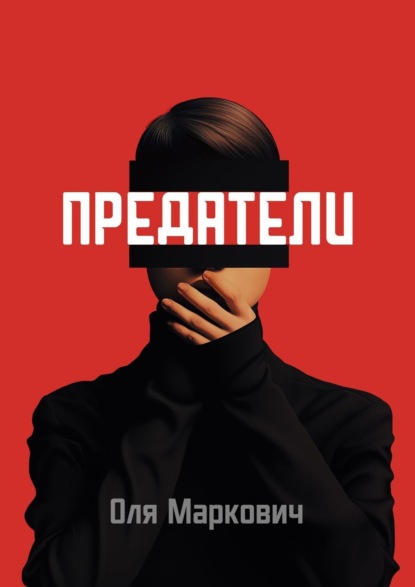
Полная версия:
Предатели. Цикл рассказов
– Стыдно? – От улыбки у нее не осталось следа. – Почему тебе было стыдно? – Она не понимала.
– Да, ну декольте это твое огромное, в котором все утопали, и как ты горланила песни из душа, эзотерика, и этот наряд, и секс в ресторане, и французский говорок… – Он увидел удивление на ее лице и остановился.
– Так тебе было стыдно? Стыдно за меня все это время? Стыдно? – Стася рассмеялась.
– Ну было, и что, главное, что сейчас я хочу с тобой быть.
– Хочешь, Стасов? Со мной быть хочешь? А не думаешь ли ты, что я могу не хотеть. Могу, вот представь себе, не хотеть с тобой быть, – она развела в стороны руки.
– Не дури, Стася, не дури! Я же просто так сказал, и не то чтобы прям стыдно, ну просто неловко иногда. – Он, злой на самого себя, стукнул кулаком в стену. – Прости, я не хотел. Я люблю. – В прихожей повисла пауза. – Ты ведь веришь в глубины подсознания. Может, я тогда не просто так тебе сказал, что люблю, на корпорате, пьяный в стельку. Может, подсознание мое знало, что я люблю, а я еще нет. Оно, может, умнее нас, прозорливее. И я сказал. А теперь понял. Теперь только понял.
– Я ничего не чувствую, хлюпик.
– Чего ты не чувствуешь?
– Ничего, хлюпик.
– Да хватит же уже меня так называть! Что еще за хлюпик? Что за хлюпик, откуда нафиг ты вообще это взяла?
– Хлюпик – это ты и такие, как ты, – голос ее был резким и холодным.
– Что это еще за «такие, как я», это какая-то определенная каста? Сообщество хлюпиков? Как туда попадают? Может, расскажешь, чтобы я получше знал о том клубе, в котором так упорно состою?
– Такие, как ты, выращенные любящими мамами, зацелованные в попку, хорошо образованные и подающие надежды. Такие, кто думают, что они выбирают. Общаются так, будто выбирают. Каждый бабский шаг оценивают. Каждую родинку, объемы и размеры заносят в табличку в своей голове. За каждый поступок галочку ставят. И все время сравнивают, сравнивают, сравнивают. Как счетные машины сравнивают. И очень боятся ошибиться и взять то, что не так будет статусно для них, не так подходяще. А тут, можешь представить, все не по плану, и вдруг он захотел. Он так предусмотрительно заявил этой женщине, что ей могут быть отведены только два дня выходных, только два, и не более, а дальше другие планы, другая жизнь. Перспективы. И он ведь такой честный, он сразу обо всем предупредил, с него взятки гладки, ведь он так хорошо воспитан, он обо всем предупреждает. Заранее. А тут вдруг захотелось. Ведь он великий выбиратель. Он выбрал, значит, все-то у него должно быть. А нет, Стасов. Нет! Я не выбираю. Вот представь себе, я тебя не выбираю, – голос ее дрожал, она была в два раза более эмоциональной, чем тогда с тесаком на кухне.
– Ты врешь, Стася, врешь! Зачем ты мне врешь? Потому что обижена? Так я прошу прощения! Прошу прощения! За то, что с тобой «стыдно», и за два дня, за то, что обозначил эти два дня, тоже прошу. И за то, что подумал, что могу уехать, а потом позвать тебя в любой момент и ты прибежишь ко мне, и за это прости. Только не надо все рушить сейчас, это того не стоит, не стоит, Стась.
– Что «все»? Ничего нет, Стасов, нет и не было. Это только полтора дня, Стасов, даже не два. С Олей у тебя целая жизнь, история, а у нас так – пшик. Ты сам потом поймешь, что тебе все это не надо, и еще спасибо мне скажешь. А теперь уходи, прошу тебя.
– Я не уйду, я за тобой пришел. Это неправильно, ты сама знаешь. Просто назло все это делаешь, назло потому, что ты шизанутая. Но я знаю, что у тебя все то же самое, то же самое! – Глаза его казались воспаленными. – Такое ведь не бывает в одностороннем порядке. Я видел, все видел, как ты меня нюхала и обнимала. Видел. Ты мне врешь. Я знаю, что любишь. Скажи в лицо, что не любишь, и я уйду и больше не потревожу, вот честно, скажешь – и уйду.
– Не люблю я тебя, Стасов. Ты мне просто нравился, и то не всегда.
– Не любишь?
– Не люблю.
– Тогда я ухожу?
– Уходи.
– По-настоящему ухожу. Насовсем?
– По-настоящему, Стасов. Насовсем.
– Я тебе не верю.
– А ты поверь. Придется поверить. И ты знаешь, если ты сумеешь поверить в это и не обозлиться на всех баб, а просто поверить, что кто-то может тебя не любить, то тогда спустя время обязательно получится что-то настоящее.
– Поверить, значит, надо? А если я не верю, вот не верю, и все тут.
– Это твое дело. А сейчас тебе надо уйти. Мы ребенка пугаем своими криками.
– И ты правда хочешь, чтобы я ушел?
– Правда, Стасов.
– Просто ответь почему? Ответишь, и я уйду.
– Потому что стыдно тебе не за меня, а за себя, Стасов. За себя стыдно, потому что ты не свою жизнь живешь, а я свою. Я тоже не сразу это смогла, а потом так наелась этого. Так наелась этого чувства, когда хочешь соответствовать, а не можешь, и одно только, что остается, это быть собой. Некуда больше убегать ведь от себя, сколько ни беги, а как по кругу, по колесу белкой выходит. И тогда я приняла веснушки эти, рот большой, тело коренастое, приняла, что я мать-одиночка. Приняла, что то, что мне с радостью предлагают, это два дня или секс, хоть и регулярный, но по выходным. И все, что я могу, – это получать от этого удовольствие. Могу надевать декольте ниже пупа, могу орать в душе, могу спорить, говорить об эзотерике и главное – не переживать, что обо мне подумают. Потому что этим вашим табличкам соответствия все равно не удастся соответствовать. Всегда будет кто-то лучше, стройнее, моложе. И единственный шанс не возненавидеть себя – это быть собой.
– Так я ведь тебя и полюбил такую, какая есть.
– Ты не меня полюбил, а мою способность жить стихийно. Потому что это то, чего самому тебе не хватает. Я сначала подумала, что меня и… – она опустила глаза. – Я хотела бы, чтоб меня. Но когда ты говорил… Всё то, что ты говорил… Если бы меня, то не было бы стыдно, понимаешь. А так нет. Так не меня. Прости, Стасов. Ты и правда очень дорог мне, только разговор наш окончен.
– Ты на мне за все свои разочарования срываешься. Мстишь через меня своим обидчикам. – Стасов шипел.
– Никому я не мщу и ни на кого не держу зла. За наши полтора дня и правда были моменты, когда получалось по-настоящему. Но большую часть времени мне все казалось, что я участник забега. Ипподром выл в предвкушении. Люди вытягивались с трибун. Взмокшие лошади неслись во весь опор. Народ с замиранием сердца ждал, кто пересечет финишную прямую. Вперед вышла кобыла, на которую никто не ставил, без родословной и прочих побед, но так было бы здо́рово, если бы она смогла. И я вроде сама уже начала чувствовать этот азарт, что обгоняю других, обхожу на повороте. Но я схожу с дистанции. Это не моя гонка. Я обману себя, если продолжу.
– Как знаешь. – Стасов глянул на нее последний раз и вышел за дверь, хлопнув ею что было сил. Он злился. Не понимал. Ее аргументы казались ему надуманными и истеричными. Что еще ей нужно? Он пришел, готовый на все, а она выставила его, как мальчишку.
Мокрый и распахнутый, он бежал по улице, резко поднявшийся северный ветер бил в лицо. Стасов хотел швырять камни в воду. Хотел писать на прохожих с крыши дома. Хотел привязывать кошкам консервные банки к хвостам. Хотел курить в школьном туалете и драться на стрелках, стенка на стенку. Он жадно хотел всего того, чего, как он думал, никогда не хотел. Как она жестоко права. Он не слышал себя. Жил в тумане. Стремился к чужим целям. Соответствовал чужим ожиданиям. Он так привык ориентироваться на все что угодно, кроме самого себя, что ему впору было натянуть памперс и сказать «агу», до того он был растерян. Он бежал по улице и думал: а может, прямо сейчас прыгнуть в такси и приехать к Ирине. Она бы отправила его в свою чудесную ванну с аромамаслами, выдала бы мягкое махровое полотенце. Вышедшего из душа уложила бы его в идеальную кровать и промассировала бы ему все тело. Как хорошо было бы ему сейчас с ней, молчаливой и податливой. Он бы жаловался, а она говорила бы все эти заученные из методички фразы, какой он мужественный мужчина и как хорошо она чувствует себя рядом с ним. А может, лучше было бы поехать к Насте, где бы она ни была. Взять билет, прыгнуть в самолет и высадиться в диких джунглях. Там он точно отвлекся бы от всех этих мыслей. Он мог бы попробовать стать настоящим мужчиной. Убить змею, поймать рыбу голыми руками и перейти реку вброд. Настя, как амазонка, учила бы его всему, а он бы не злился, а слушался и становился сильнее. Но, наверное, лучше всего было бы оказаться у Леночки. Улечься лицом в ее мягкие и большие груди и забыться безмятежным сном. Ему стало бы там нестерпимо сладко, и он бы плакал тихо и ласково от удовольствия и умиротворения, ощущая рядом с ней материнский покой и полное принятие.
Стасов так и сделал. Лена открыла дверь в своем полупрозрачном пеньюаре, и он, уставший и потерянный, уплыл на волнах сладкой неги в бескрайние розовые дали под ее ласковые поглаживания. Он спал беспокойно и тревожно, то вздрагивал, то снова уходил в сон. Во сне он видел себя обрюзгшим стариком в бархатном халате и чепце. Видел конопатого и босого мальчонку, что носился по его усадьбе, в одной белой рубашонке. Он не знал, почему видит все это. Ему хотелось по-отцовски взять мальчика на руки, но ему было стыдно. Он наблюдал за ним издалека, чванливый и раздутый, как самовар.
Эпилог
Гордей Иванович сидел на веранде и умиротворенно слушал трели птичек. Самовар на овальном столе, натертый до блеска, дымил из-под сапога. Любаша уже накрыла. Оставались последние приготовления. Гордей Иванович любил эти дневные чаепития даже и в одиночку. Он уже хотел было отправить в рот цельную редисочку, как на веранде показалась Любаша, растерянная и краснощекая.
– Ты чего это, Любаша, такая красная? – спросил Гордей Иванович удивленно и степенно. Он всегда был со своими людьми предельно добр.
– Да такое дело, Гордей Иванович. Матвей Гордеевич пожаловал. Он сейчас в передней дожидается.
Гордей Иванович приподнял кустистые брови и заохал.
– Матвей Гордеевич, значится, пожаловал? Так чего же ты его не зовешь, Любка? А?
– Так вы же грешным делом так ругались тогда, когда он в тот раз был. Вот я и не знала, Гордей Иванович.
– Зови его немедля!
Любаша убежала, и через несколько минут на веранде возник молодой человек, худенький и невысокий. Лицо он имел приятное и доброе, только уж очень веснушчатое, будто забрызганное глиной из придорожной лужи. Зашел он гордо и уверенно, хотя и чувствовалось между двумя находившимися теперь на веранде людьми, пожилым и молодым, значительное напряжение. Вытянувшись в струну, молодой человек начал:
– Я, Гордей Иванович, приехал проститься. Третьего дня отбываю учиться в Европу художественному ремеслу от Академии.
– Ты, Матвей, можешь называть меня батюшкой, ведь мы так условились.
Молодой человек поднял подбородок, губы у него побледнели и задрожали.
– Полно вам, Гордей Иванович, раньше нельзя было, а теперь, стало быть, можно? А мне по имени-отчеству вас привычнее, так и оставим.
Пожилой мужчина на это весь побагровел:
– Зачем же ты, Матвей, тогда приехал, неужель как похвастаться своей заграничной променадой?
– Вас видеть хотел. Уезжаю я на долгое время. Отношения наши с вами были всякими, но я вам от всей души благодарен, Гордей Иванович, за то, что дали мне образование и вольную и теперь я имею те возможности, которые имею, как бы там ни было.
Пожилой мужчина довольно кивнул.
– Это хорошо, Матвей, что понимаешь, как трудно мне было, но я все это для тебя сделал.
– Я, положим, не понимаю, что ж в этом трудного, Гордей Иванович, но это не исключает моей вам благодарности. – Молодой человек держался холодно.
– Что трудного? Дворового пацаненка за сына признать, думаешь, легкие это обстоятельства? Думаешь, многие из нашего круга на такое шли?
– Вашего круга, – молодой человек повторил фразу стиснув губы, – Я в своей биографии не повинен. Вашими стараниями появился я на свет Божий. О том не просил и в том не участвовал. Почему же я должен как-то оттого быть смущен?
– Ты и не смущен, это я смущен. Всю твою жизнь смущен и пристыжен, да только делал для тебя все, что мог, Матвей Гордеевич. Всё и даже больше. Больше, чем многие бы сделали. – Гордей Иванович поводил головой, щеки его, объемные и бульдожьи, заходили в разные стороны от возмущения.
– Я и Матвей Гордеевич-то не так давно, а то все был дворовой Мотька, безотцовщиной был при живом отце, который только с веранды за мной наблюдал. Я и хотел-то немногого только, чтобы вам за мое существование стыдно не было. И я будто эту повинную всю свою жизнь отбываю. Всё хочу вам доказать, что я достоин, любви вашей достоин, уважения. А так чем же я или Любка от вас отличаемся? Такие же руки, ноги, голова. Это все дело крепостное неправильное, бесчеловечное дело. И хочу я быть вам благодарен за вольную, а в душе все кипит и возмущается, почему один человек другому выдает право на свободу? Почему один другим владеет?
– Кипит-то, пожалуй, от вседозволенности, а был бы дворовым. Дворовым бы ты сидел смирненько, тихонько бы сидел, Мотька. А теперь вот оно, можно. Теперь вот можно кипеть от возмущения с бумагой-то о вольной, с образованием-то можно стало?
Сын опустил глаза и хотел уже развернуться к выходу, как Гордей Иванович сменил тон:
– Так и не я эти порядки ввел, так и наши отцы и деды жили, и мы так вот.
– А я верю, что уже мои дети так жить не будут. И внуки тоже не будут. Вам вот стыдно, что у вас сын единственный от дворовой, а мне стыдно за страну, в которой существует рабство в наше просвещенное время. Посмотрели бы наши власти на Францию да пострашились бы ее примера. И я верю, что посмотрят. Посмотрят и меры примут.
– Ты, Матвей, присел бы, чайку со мной выпил? – Отец попытался сгладить обстановку.
– Нет, Гордей Иванович, чаи распивать я не намерен, не за тем явился. Явился попрощаться. – Сын развернулся было к выходу, потом замешкался, взглянул еще раз на отца и добавил: – Вынужден откланяться, дела, дела.
Молодой человек ушел. Больше он не появлялся, писем не писал. Гордей Иванович только по слухам узнавал, что да как Матвей Гордеевич в своих Европах делает. Уже будучи при смерти, он сильно звал к себе сына, в лихорадке, в жаре казалось ему, что сын зашел в комнату, кинулся к постели и начал целовать ему руки. Гордей Иванович горячо заплакал, и губы его сухие шептали в бреду: «Мне, сынок, за тебя не стыдно, ты прости меня малодушного». Только сына рядом не было, Матвей Гордеевич обосновался в Европе и хотел забыть все тяготы своего происхождения и связанного с ним унижения. Больше всего на свете желал он, чтобы отец признал его за равного себе. Не смотрел свысока. Не считал себя лучше. Просто любил.
В ящике
Глава 1. Звуки ночи
Прошла половина ночи, а мать провернулась в своей койке уже двадцать четыре раза. Пружины под ней взвизгнули, пропели индюками «кулдык-кулдык», и снова настала тишина. Волнуется, наверное, или снится что тревожное. Ночью звуки еще явственней, еще свежее, чем днем. Днем Акулька и не замечала, как визжит мамина тахта. Хотя, может, потому и не замечала, что она не визжала. С чего ей визжать, если матери дома нет. А когда есть, то не прикладывается она. И некому среди дня перину мять.
На дворе было тихо. Так тихо, как бывает только в середине ночи. Если не спать, прям по-настоящему не спать, а только слушать, то можно об этом узнать. Тишина будет недолгой. Да и тишиной ее не назовешь в прямом смысле. А скорее затишьем. На словах этого не понять. Только если услыхать. Как Акулька.
Она могла спать днем, и вообще когда ей вздумается, потому ночь у нее была особенным временем. Можно даже сказать, долгожданным.
Из крана капала вода. Примерно по одной капле за две секунды, это если мать улеглась в десять, а сейчас третий час ночи, стало быть, накапало уже будь здоров. Тысяча восемьсот капель только за один час, а за все время целых девять тысяч. И ведь накапает еще столько же до маминого пробуждения.
В углу под потолком паучиха-крестовик плела паутину. Вот тоже любительница ночи. Ее было не то чтобы слышно, хотя если знать, где она есть, и прислушиваться нарочно, можно все-таки заметить движение. Еле-еле, тоньше шепота, как у колоска на ветру. Акулька любила паутины. Больше всего, наверное, за то, что, сколько ни пересчитывай точки прикрепления одной тоненькой струнки к другой, а всегда их ровно тысяча двести сорок пять окажется. Круглых витков, тех тридцать пять, а радиусов тридцать девять. Сначала Акулька хотела найти хоть одну паутинку иную, а потом поняла, все они такие. Признала за крестовиками их право на предсказуемость.
А что до ромашек – интересное дело. Вот их девки рвут и приговаривают про любовь. Сама Акулька не гадала, потому что не знала никаких парней, но мать, нет-нет да и сорвет цветок и перечислит свое «любит, не любит, плюнет, поцелует». Взялась Акулька лепесточки считать и вышло так, что их всегда или двадцать один, или тридцать четыре. Да и вообще, не только с ромашками так, а если приглядеться, то все, совсем все в природе подчинено такой числовой системе, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. То есть 0 +1=1, 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5 и так далее. И на шишке, если чешуйки считать, и листоположение у растений, и семечки в подсолнечнике так и закручиваются по спирали от меньшего к большему. Это вычислил довольно давно один математик Фибоначчи, аж в 1170 году, жил он не в этих краях, а в Пизе, но Акулька точно не знала где это.
Мама охнула во сне, опять повернулась на другой бок, и запели под ней пружины.
Акульке очень захотелось справить нужду, но она терпела. Без матери ей было все равно не сходить. А под себя она не могла, потом полночи лежать и мерзнуть. Можно, конечно, попробовать переодеться, руки-то у нее сильные, и тряпья под ней много. Да потом перестирывать все. И шуму будет, а мать будить не хотелось.
Решила она отвлечься, поиграть и поумножать в уме пятизначные цифры. Сначала называла число наобум, а потом множила его. Но это было скучно с самой собой. Вот то ли дело, когда Николай к ним приходил. Но его давно уже не было. Двенадцать лет, пять месяцев, три недели, четыре дня и… Она задумалась. И уже десять часов, должно быть как.
Он с ней и начал считать. Приходил он нечасто. Но она всегда ждала его. Залезет на большое дерево у забора и глядит вдаль на проселочную дорогу. А там, как завидит облако пыли, заслышит шум мотора ГАЗ-51, так ждет и всматривается, Николай ли за баранкой. Николай водителем работал. От того руки всегда у него пахли соляркой. Это был самый вкусный запах. Те моменты, когда Николай сидел рядом и гладил ее по голове, Акулька помнила в первую очередь по этому его машинному аромату. Иногда он принюхивался сам к себе, заливисто смеялся и просил ее нарвать ему побольше полыни. Обтирал ею руки, снова принюхивался и оставался доволен. Солярка, конечно, никуда не пропадала, потому что она была на нем всюду. И на рубахе, и на штанах, и даже, кажется, исходила от его сладковатого пота.
Когда Николай понял, что Акулька любит счет, он начал с ней упражняться. Мать не мешала. Улыбалась, наблюдала издали, а сама делала свои дела по хозяйству. Наверное, то время, когда Николай приходил, было самым счастливым их временем. Главным образом потому, что те книги, что он принес, она прочла и через них знает все, что знает. Многие прочла по три или четыре раза, особенно любимые. А еще потому, что и мама, и она сама, Акулька, были в то время Николаево совсем другими.
Перестал ходить он как-то резко. Не попрощался. Сначала все было вроде бы так, как и прежде, ведь он приходил не часто, не каждый день, а когда получится. Только мама переменилась, и Акулька стала спрашивать, что да как, где Николай, почему не ходит? Мама отворачивалась или на двор шла. А если на дворе они были, то шла в дом или в сарай, и тогда Акулька испугалась, не случилось ли чего. Стала расспрашивать мать сильнее, упорнее, та не выдержала да как закричит:
– Не жди ты его, дурня дурней, не придет он больше!
Акулька не поверила, кинулась бежать к дереву своему обзорному и кричит:
– Буду сидеть и ждать его, покуда не придет он к нам снова!
– Ну и сиди, а все равно не высидишь! Узнала жена его про тебя и меня, и теперь ему к нам хода нет.
Акулька не поняла, при чем тут жена и она с мамой, плакала и на дерево ползла. Взобралась на самую верхотуру, села на ветку, обхватила ствол ногами и давай ждать. До самой темноты сидела она на дереве. Мать выходила, ругалась. Но дочь не слезала. А потом поняла, что верно ей там бесполезно сидеть. Стала в темноте шарить ногами, искать устойчивый сучок и сорвалась в самый низ. Упала и переломала обе ноги, так что вывернуло их в стороны.
Мать себя не помня доехала до ближайшего поселка на велосипеде, вызвала врача из города. Ехал он долго. Те часы свои Акулина помнила не явно, а урывками. Сначала она и не поняла от шока, что произошло. Мать на ноги ее глядит, плачет, а дочь сама ее успокаивает, мол, ничего-ничего. Потом уж потеряла Акулька сознание, когда боль в полную силу вошла. Мать чем-то ее отпаивала до приезда врача. Вообще, Матря травки всякие собирала, толкла, сушила. Знала она в них толк и знала, какая для чего используется.
Доктор, тот так ноги залечил, что они на место не встали и не выросли больше. Так и осталась Акулька с тех пор калекой с сухенькими выкрученными ножками. Матря врачам и так не верила, а после того совсем верить перестала. Шел ее Акульке теперь девятнадцатый год. И жила она в ящике. От злых языков и людей подальше.
Глава 2. Житье-бытье
Ну как, в ящике. Не в постоянку, конечно. Но было в том деревянном сундуке ее, Акулькино, убежище. Повелось оно с тех пор, как с ее ногами беда стряслась. Мать ее от людей прятать стала. Она и до того ее не шибко показывала. В школу та еще не ходила, малая была. Иногда ходили они вместе в город на базар, но так там народу много, там как в муравейнике, хоть и небольшом, а все спокойнее, чем в селе, где все друг дружку знают. Словом, жили мать с Акулькой очень уединенно. Потому что родила ее Матря в девках. А так не принято было. Если уж приходилось когда объяснять, то говорила женщина, что от полевого мужа дочь ее. Может, так оно и было, Акулька того сама не знала.
Когда-то было возле них еще пара домишек обжитых, да там одни старики остались, и тех со временем не стало. Дома пришли в запустение, скособочились. И получилось так, что между поселком у города и сельцом остался один только Матрёнин дом. Ей такое нравилось, не любила она шума и людей не любила.
Но слухами земля полнится. Нет-нет да заглянет кто. Тогда Матря, завидев на дворе непрошенного гостя, хвать Акульку в охапку – и в сундук для тряпья, да крышкой сверху. Акулька сначала очень просторно там помещалась, а потом аккурат под сундук изросла. Приноровилась она спать в том сундуке. На печь, как раньше, ей все равно было не забраться, а мать ее к себе не клала.
Одно плохо: ей самой из того сундука было не выбраться и не забраться в него, только с маминой помощью. Но она эту помощь сильно любила. От того что мама тогда ее крепко-крепко обнимала, и было это всегда поутру и вечером. А если кто случайно нагрянет, незваный, непрошеный, то и того чаще. Акулька обхватывала мать руками под мышками и держала за спину, а та тащила. И тогда ощущала она мамино широкое и теплое тело, и нравилось ей, как мать тяжело дышала от натуги. И ближе этих моментов у них не было.
Спала она, конечно, там с открытой крышкой. Закрывала ее мать, только если спрятать надо было от кого. Для того проделали они там в дощечках дырочки для кислороду. Дырочек этих было у нее двести двадцать одна штука. И если кто пришедший надолго языком с матерью зацеплялся, Акулька дырочки свои пересчитывала. Каждую из них она знала на ощупь. Были они почти все одинаковые. Кроме двадцать второй в первом ряду. Та вышла пошире, чем прочие, и она ее всегда крутила пальчиком. И еще двух самых последних, двести двадцатой и двести двадцать первой, но те она не любила, они будто наспех были и какие-то недушевные. Не то что двадцать вторая, которую она пальчиком трогала.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

