
Полная версия:
Изумрудная Марта
Из всех живых существ (кроме себя, разумеется) она любила только свой бонсай – карликовое дерево, привезенное ей когда-то очень давно. Его пропорции были такими же, как и у большого дерева, хотя росло оно в крохотном горшке уже около ста лет и было донельзя капризным. Свекровь его называла «мой малыш». Возилась с ним как с питомцем, перенося с места на место в течение дня, чтобы он все время находился в светлом помещении, но не под прямыми лучами солнца, ни в коем случае не на сквозняке, бережно опрыскивала каждый листочек, пожелтевшие удаляла пинцетом, сухие веточки подрезала, приговаривая: «Вот так, малыш, вот так. Ну что ты, мой золотой, не капризничай. Ну что ты обижаешься? Я очень аккуратно, только уберу ненужное…». Казалось, что в нем она реализовала всю заботу, на которую только была способна.
Со временем все плодовые деревья в саду погибли: одних одолели болезни, другие пали жертвами жуков-короедов. И пока рабочие спиливали их и выкорчевывали пни, она умилялась своему бонсаю. Она поставила его на подоконник, и со второго этажа они вместе наблюдали за этой казнью: «Смотри, малыш, эти великаны не стоят даже твоего листочка. Ни одной твоей веточки. И что толку от их могучих ветвей? Забавно, правда? Давай я тебя лучше покормлю. Мы уже давно тебя не удобряли».
* * *Миру устраивало то, что они с Марком жили в крохотной квартирке в центре города, вдали от свекрови и тем более от отчего дома.
Марк был спокойным человеком: никогда не повышал голос, любил научную фантастику и эзотерическую литературу. Странные предпочтения, на взгляд Миры, и все же хорошо, что у них есть что-то общее – интерес к книгам. Каждый раз во время их непродолжительной близости, Мира зажмуривала глаза – как детстве, когда ждала порки. Отец частенько начинал этот ритуал с того, что приводил ее в спальню, открывал дверцу шкафа и рассматривал висящие на перекладине ремни. Он выбирал один из них, складывал его пополам, держась за два конца, и вдруг резко разводил руки: рождался хлесткий звук шлепка. Отец предвкушал наказание и заставлял Миру предвкушать страх боли, что было хуже самой боли. Она зажмуривалась так сильно, как только могла, чтобы перед глазами начали проплывать белые узоры: когда она их откроет, узоры сменятся роем черных точек, которые вскоре исчезнут, и тогда…
В противоположность отцу Марк не был жестоким, грубым или даже настойчивым, вообще вполне терпимым. Вечерами он начинал зачитывать ей отрывки из книг, и Мира понимала, к чему дело клонится. Так выглядели его ухаживания, предвещая брачный танец. Лежа в постели, Мира размышляла над смыслом супружеской близости, да и вообще интимной близости, если мужчина неизбежно получает удовольствие, а женщина – совсем не обязательно. И все же она терпеливо ждала и даже постанывала ради приличия, пока Марк совершал поступательные движения. Мира думала о том дне, когда она почувствует, что хочет ребенка. Наверное, в этом и заключается суть семьи? Они даже договорились с Марком о том, какое слово Мира произнесет, когда будет готова. И она ждала.
Так прошла весна, и наступило лето. Мать Миры при каждой встрече задавала немой вопрос: «Ну что? Ты уже беременна?» – и на отрицательный ответ с грустью в глазах качала головой. Однажды увидев их безмолвный диалог, отец ухмыльнулся: «Кому нужна бесплодная корова? Если только родителям. Так ведь, дочь?» Эта фраза вызвала у Миры волну тошноты, засела в голове и пульсировала мерзким отголоском где-то в животе. Пока они с Марком возвращались домой, Мира молчала и думала о том, что будет, если она не забеременеет. Вдруг Марк откажется от их союза, и что тогда? Вернуться домой она не могла. Зациклившись на этой мысли, Мира стала читать тематическую литературу, погрузившись в нее с головой. Теперь на ее пути постоянно попадались беременные женщины и счастливые пары с детскими колясками. И если раньше она не обращала на них внимания, то сейчас ее по-своему умиляли эти мамочки с младенцами, крохотными созданиями, которые так нуждались в любви и заботе.
Однажды во время их близости Мира в первый и последний раз в жизни почувствовала, как внутри нее открылось нечто прохожее на врата, куда нужно было следовать немедленно, и она, повинуясь этому зову, открыла глаза, посмотрела на Марка и отчетливо произнесла: «Сейчас».
– Ты уверена?
– Сейчас, – повторила Мира и снова зажмурилась.
Погружаясь в состояние блаженства, Марк замер и впервые простонал в голос, а не просто окаменел в гримасе наслаждения. Услышав его стон, Мира почувствовала, как где-то там, глубоко внутри нее запульсировало удовольствие, впуская в себя новую жизнь.
Был июнь. Все цвело, и Мира тоже зацвела. Под предлогом беременности она прекратила эти, по ее словам, «бессмысленные встречи». Марк был не против. Он вообще никогда не был против и никогда не настаивал.
Счастливая Мира провела в библиотеке всю беременность, ходила на работу и с удовольствием засиживалась там допоздна, но теперь не из страха вернуться домой, а потому, что зачитывалась любимыми книгами. Теперь ее никто не унижал и не контролировал. Напротив, Марк и сам был рад одиночеству, тоже много читал, но любил делать это дома, сидя в своем кресле. Впрочем, вечерами он продолжал встречать Миру с работы, все так же шел рядом и почти не задавал вопросов, размышляя о чем-то своем.
* * *Зима в тот год выдалась почти суровой, что случалось раз в столетие, и длилась дольше обычного. Как правило, в начале марта уже зацветали подснежники, но сейчас весна где-то задержалась, неторопливо готовясь к своему выходу. И город замер в ожидании любимого праздника. Его отмечали дарением друг другу подснежников. Но никто не срывал их и даже не выращивал на продажу. Люди сами их плели, шили, рисовали, лепили, вырезали из бумаги, скручивали из салфеток, отдавая дань традиции.
Марта родилась в чудесный день, когда появились первые подснежники и наконец наступила весна. «Конечно, Марта! Кто же еще?» – умилялся весь роддом.
Мира бесконечно радовалась подарку судьбы. Монограмма «МММ», которая Марку тоже нравилась, получила обновление. Появился союз трех «М», в который Мира поверила всем сердцем. Марта, Мира, Марк.
Марк зашел в палату. Мира была обессилена, но, улыбаясь, произнесла:
– У нас дочь…
– И такая красавица! – с восхищением произнесла медсестра, передавая ему в руки младенца.
Взглянув на дочь, Марк удивился: на него смотрели глаза его матери. Большие, зеленые, почти его глаза, только с вкраплениями желтых пятнышек на радужке, напоминающие звездочки.
– Какие-то космические глаза, – сказал он и улыбнулся. – Ну, привет, Марта. Мы тебя ждали.
Медсестры демонстрировали ее как эталонного ребенка, девочку с огромными изумрудными глазами и белоснежной кожей. Здоровая, без единого изъяна, она сама была похожа на подснежник, обожаемый всеми символ города. Была, пожалуй, лишь одна странность – взгляд, слишком проникновенный и осознанный для новорожденной, почти пугающий.
* * *Со временем Марк стал участвовать в быту, с удовольствием помогал Мире, и вообще проявился как очень отзывчивый человек. Без долгих раздумий он откликался на просьбы и делал все, что было в его силах, как для близких, так и для малознакомых людей.
В выходные он посвящал чтению все свободное время – за исключением тех дней, когда они всей семьей навещали его мать в пригороде. Мира была не против, да и Марта любила бывать в доме Бабули. Особенно ей нравился сад, где она могла часами возиться в траве, играть с жучками и где висел большой цветной гамак, похожий на свернувшуюся радугу, – уютное полотно, в котором можно было лежать и смотреть на проплывающие облака, слушая шелест окружающего леса. Гамак висел на Виноградной арке – металлическом каркасе, увитом диким виноградом. Солнце всегда покрывало бликами это зеленое пространство, и Марта проводила там по многу часов. В младенчестве ее укачивали в этом гамаке, а став постарше, она сама заворачивалась в него как в кокон, оставляя непокрытой только голову, тожественно провозглашая: «Я – гусеничка!»
Марк раскачивал эту колыбель, отчего глаза дочери светились счастьем, и, все еще не выговаривая букву «р», она кричала в восторге на весь сад:
– Мама, я навейху! Я высоко! Я – с папой! Смотйи! – Бралась руками за края и махала большими радужными крыльями гамака: – Я уже бабочка!
– Будь осторожна, моя птичка! – отвечала ей Мира.
– Держись крепче, гусеничка, – улыбался Марк.
Пожалуй, это было одно из самых серьезных разногласий за все время их совместной жизни: Мира называла Марту «птичкой», а Марк – «гусеничкой», что, по мнению Миры, противоречило самой природе.
– Птичка ест гусеничку! – возмущалась она.
– Хорошо, Мира. Не шуми, – примирительно отвечал ей Марк.
Все же они были взрослыми интеллигентными людьми, которые всегда могли договориться.
* * *Когда они приезжали в дом Бабули, Марта со всех ног неслась к ней и, падая в объятья, произносила: «Скучилась?» На что Бабуля, ставя ее обратно на ноги, произносила:
– Соблаговоли для начала поздороваться. Где твой реверанс?
Марта очень любила эту игру, тут же хватала полы платья и, игриво улыбаясь, склонялась перед Бабулей. И хоть та улыбчивой не была, Марте было достаточно блеска в ее глазах и ответного кивка.
– Хорошо, а теперь представься. Как тебя зовут?
– Майта!
– Скажи: Марта. Ррррррр…
– Йййййййййй…
Бабуля была недовольна, но Марту это не смущало.
– Мойно я пойду туда? – показывала Марта в сторону столовой, где в хрустальной вазочке всегда лежали ее любимые леденцы.
– А вежливость? Что я тебе говорила? О чем для начала можно завести нейтральный разговор с человеком?
– Сегодня дойдик! – бойко отвечала Марта.
– Нет, сегодня как раз солнце, и не надо так кричать. Пожалуйста, будь сдержаннее. Ты же не в деревне!
Но Марта уже неслась к обеденному столу, на котором, как правило, лежали ее любимые леденцы, и кричала оттуда что было сил:
– Мойно сосалку?
А Бабуля закатывала глаза, будто ее пронзала боль.
– Сколько раз тебе говорить, Марта? Нет такого слова «сосалка»! Есть мон-пан-сье!
Пока Марта с наслаждением посасывала конфетку, она честно пыталась произнести это странное слово, которое совсем не было похоже на вкусный леденец. Зато когда у нее получилось, она стала так называть бабушку – Бабуля Монпансье, уверенная в том, что это не иначе как титул высокопоставленной персоны, ведь Бабуля именно такая.
Но Марта не спешила учить правильные слова и фразы. Вместо «Я тебя люблю» она говорила «Я тебя лю-лю» и с утра до вечера напевала всему, что ее окружало, даже цветочкам на обоях и кухонным ножам: «Я тебя лю-лю-ю-ю…». И при этом расхаживала по дому, натянув на голову колготки, потому что так создавалась видимость длинных кос, о которых Марта мечтала.
Швабда – свадьба, чипихаха – черепаха, лякака – лошадка, черливый – червивый, жукашки – объединенные букашки и жуки: у Марты был свой словарь, который хорошо знали родители и которому умилялись другие взрослые. Марта любила повторять разные фразы, чаще всего не понимая их смысл, зато в точности передавая интонацию, с которой их произносили. Выглядело это довольно странно: милая девочка менялась в лице, глаза «стекленели», и она, например, произносила: «Я сказал, денег нет! Что ты хочешь?!» Однажды Марта взмолилась: «Не надо! Прошу, не надо!» – а через мгновение как ни в чем не бывало продолжала играть. «Она эти фразы просто поет», – со знанием дела говорила Бабуля, которая всю жизнь пела романсы.
Марта никогда не могла или не хотела объяснить, где услышала то или иное выражение. Марк был уверен, что по большей части дочь их выдумывает, однако у Миры не было сомнений, откуда они брались. Она поняла это после очередной поездки к своим родителям. Отец, дав оплеуху маме, обычно приговаривал: «Вот тебе!» Марта произнесла слово «Вот» как «Вад», и, сказанная много раз подряд, эта фраза превратилась в указание: «Тебе – в ад!»
Услышав это, Бабуля вздрогнула:
– Господь милосердный, чему вы ее там учите?
– Надо же как-то приобщать ребенка к религии, – отшутился Марк.
– Какой моветон! Но если ребенок одержим, то может покрестить ее на всякий случай? Не вызывать же экзорциста.
– Тебе виднее, мама, – ехидничал Марк.
– По крайней мере, можно не возить ее туда, где она набирается такой гадости.
* * *Мира редко привозила ребенка к своим родителям, причем не только потому, что ненавидела отца, но и из страха снова в чем-то провиниться. А еще больше она боялась, что когда-нибудь провинится и Марта. Марк не догадывался о ее страхах, и всегда настаивал на поездке, хотя бы раз в месяц.
– Я не понимаю, Мира, это же твои родители.
– Знаю.
– Они тоже хотят видеть внучку, разве нет?
– Возможно.
– Тогда поехали.
– Не хочу.
– Ты можешь мне объяснить?
– Не могу.
– Но Марта их любит!
– Кого?
– Ну, бабушку…
Услышав свое имя, Марта, как правило, вмешивалась в разговор. Она называла родителей Миры Бабу и Дида, с ударением на последний слог, частенько соединяя их имена для удобства.
– Бабудида?
И начинала хлопать в ладоши. Март вообще-то было неважно, куда ехать, главное – вместе с родителями. А в случае поездки к Бабу она еще и предвкушала яства, которыми та всегда ее баловала. Марта любила Бабу. Она была очень родной и очень теплой. И очень занятой. Бабу тоже искренне любила Марту, но ей было просто некогда: дел всегда невпроворот. Муж – капризный астматик, все хозяйство на ней и в придачу школа, где она работала учителем вот уже сорок лет.
Перечислять заботы Бабу можно до бесконечности. Все лето она возилась с заготовками, от компотов и варений до всевозможных овощей и солений. Они жили в пятиэтажном доме, где, на их удачу, имелся небольшой подвал. Он лопался от изобилия запасов съестного, всего, что Бабу делала почти полгода, начиная с мая, заканчивая в октябре. Это было необходимо, потому что при том, что Дида болел, всегда лежал, тяжело дыша и жалуясь на свою астму, он почему-то ел шесть раз в день, и его надо было чем-то кормить. Помимо того, что он любил вкусно поесть, он еще и любил поесть много. Много еды на какое-то время заглушало его раздражительность.
– Кто-нибудь даст мне поесть?! – возмущенно орал он на всю квартиру.
И Бабу неслась со всех ног к нему с закуской. «Ну а там посмотрим. Если потом что еще захочет, то посмотрим…», – приговаривала она, а перед мужем появлялась огромная миска.
Марта с искренним восторгом наблюдала за тем, как дед сливал в эту посудину два литра сметаны, крошил туда хрустящий хлеб и медленно поедал содержимое, сидя, а чаще лежа перед телевизором. Марта до последней ложки не отрывала взгляд от деда. Смотрела с восхищением, завороженная, совершенно не понимая, как все это могло поместиться у него в животе.
– А де в твоем пузике ведейко? – спросила она однажды, все еще не выговаривая букву «р».
Обычно Марта молчала, и потому от неожиданности он поперхнулся, но отделался легким кашлем.
– Какое ведерко? – сурово спросил Дида.
– Де вот это все много-много лежит, – сказала Марта, указывая пальчиком на огромный живот деда, хлопая своими изумрудными глазами, искреннее восхищаясь таким фокусом. – А еще покажешь? Как в цийке!
Дед пристально посмотрел на Марту и разгневанно гаркнул в сторону кухни:
– Кто-нибудь принесите этой миску, пусть заткнется!
Не понимая значение слова «заткнется», Марта неожиданно расплакалась, чем расстроила деда еще больше: «В кои веки хотел поделиться. Уберите ее отсюда!»
Бабу поспешно увела Марту с собой, нежно причитая, что все будет хорошо.
– Воспитывать вас некому! – рявкнул напоследок Дида, и после этого больше никогда не предлагал ей поделиться. Шло время, но почему-то тот казус все еще печалил Марту. Находясь у них в гостях, она всегда искала повод поболтать с дедом, что-то ему сказать.
* * *Но как бы Марта ни старалась, дед все время смотрел телевизор или спал. Попробовав однажды оторвать его своей болтовней от телевизора, она получила по губам удар тыльной стороной его ладони. Было не больно, но обидно. Правда, Марта не обижалась. Она впитывала. И размышляла о том, как же ей поговорить с дедом. Если его нельзя отрывать от телевизора, то остается только разбудить – ведь застать его в другом каком-нибудь состоянии у нее не получалось. Решение пришло само собой, тем более что у Марты был наглядный пример. Однажды трехлетняя Марта зашла в комнату и, поиграв возле спящего деда несколько минут и даже поговорив с ним о погоде, как учила Бабуля («А сегодня дойдик»), она с размаху залепила ему пощечину: «Вад тебе!»
Дида спросонья подскочил на месте и, увидев испуганную Марту (кто же знал, что от пощечины он так странно себя поведет, ведь Бабу никогда так не делала!), закричал: «Ах, ты!..» – и потащил ее в спальню.
Мира разговаривала с матерью на кухне, когда вдруг больно кольнуло в груди. Не раздумывая, она направилась в то единственное место, где ее душа уходила в пятки и где она испытывала жгучую Боль…
Она встала в дверях спальни как вкопанная, не в состоянии сойти с места и пыталась зажмуриться, наблюдая происходящее короткими вспышками: вот отец открыл дверцу платяного шкафа, вот щелкает выбранным ремнем, вот – занес руку над Мартой…
Зажмурившись, Мира набрала в легкие воздух и перестала дышать: «Нельзя проявлять эмоции. Ни за что нельзя. Будет только хуже». Ей показалось вечностью мгновенье, которое стало бы олицетворением Первого Наказания, первой жгучей Боли ее маленькой Марты, которая совсем не понимала, зачем ее привели в эту комнату и что ее ожидает. Миру мутило, ноги подкашивались, нутро сжалось в ожидании хлесткого шлепка – но прошло несколько секунд, а ужасного звука так и не последовало. Она открыла глаза и впервые в жизни увидела долгожданную картину, которую рисовала в своем воображении все свое детство: подоспевшая мама крепко держала отца за занесенную руку.
Миру вырвало прямо на ноги отца, и в доме воцарилась гробовая тишина. Отец посмотрел на нее с отвращением, хотел что-то сказать, но боль в запястье его отвлекла. Взглянув на жену, он вдруг увидел незнакомую женщину, которая смотрела на него с устрашающей решимостью дать отпор. Не поверив своим глазам, он прокричал:
– Эта сопля разбудила меня оплеухой!
– Я бы делала это вечность! – прошипела в ответ жена, и в эту минуту Мире показалась, что мама увеличилась в размерах, пытаясь заслонить их собой. Как птица, которая защищает своих птенцов.
– Не смей трогать ребенка! – приказала мама-птица, и отец-хищник впервые растерялся, не зная, как ему поступить. А Мира смотрела на мать и тихо плакала; каждой клеточкой тела и всей душой она источала благодарность, которая звучала в сердце гулким эхом непроизнесенных слов: «Спасибо, мама…»
Дверной звонок разорвал вакуум этого пространства и, вздрогнув от неожиданности, отец опустил руку. «Все с ног на голову, тупые дуры…» – прохрипел он, швырнул ремень в угол и пошел встречать Марка.
– Не надо так лю-лю! – захныкала ему вслед Марта, и ее огромные глаза налились слезами, превратившись в удивительные зеленые моря. Но это не остановило вспышку дикого страха Миры, которая начала приходить в себя.
– Марта, зачем ты ударила дедушку? А если бы он тебя… наказал!?
Марта, сложив руки на груди, исподлобья смотрела на мать, не понимая, почему ее ругают, но тут в комнату вошел Марк. «На ручки!» – Марта расплакалась, всем телом прижимаясь к отцу.
– Ну что ты, моя гусеничка, – проворковал Марк и, окинув присутствующих хмурым взглядом, вышел, унося с собой малышку.
Обычно Марк всегда умел успокоить дочь; он гладил ее по волосам и приговаривал: «Не плачь, гусеничка. Однажды ты станешь бабочкой». Но в этот день Марта никак не могла успокоиться, капризничала и даже не захотела слушать любимую сказку. Вдруг Марк увидел на туалетном столике расческу.
– Смотри, мы можем причесать тебя этим волшебным гребнем, и у тебя будут самые красивые волосы на свете, ни у кого таких не будет. Ты станешь настоящей Длинновлаской. Хочешь?
Марте понравилось слово «Длинновласка», и внимательно посмотрев на расческу, она уточнила:
– У меня буду во-о-от такие волосы?
– Обязательно.
Марта кивнула в знак согласия, и Марк стал неспешно расчесывать ей волосы, тихо напевая мелодию, отчего Марта наконец успокоилась и заснула.
Потом Мира объяснила мужу, что, вероятно, чем-то отравилась, а Марта просто испугалась. Но после того случая она стала привозить дочь к родителям еще реже. А в присутствии своего отца ни на секунду от нее не отходила. Мать тоже все время была начеку. Марта же как будто перестала замечать деда, даже если смотрела на него в упор. Непонятно, как это удавалось маленькому ребенку, но именно это обстоятельство положило начало негласному союзу трех женщин и заговору против насилия, потому что «Не надо так… лю-лю…».
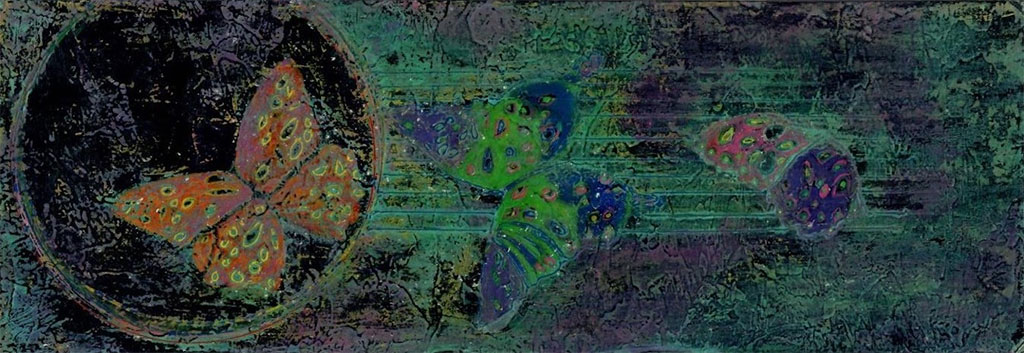
Глава IV
Марк стал называть дочь Длинновлаской, что очень нравилось Марте, да и Мире это нравилось больше, чем гусеничка. После случая в доме Бабу это слово прочно засело у Марты в голове и почему-то всегда ее успокаивало. Стоило ей расшалиться, как Мира гладила ее по голове, произносила «моя Длинновласка» – и Марта успокаивалась.
Мира любила гладить дочь по волосам. Шелковистые, поначалу они переливались всеми оттенками спелой пшеницы, но когда Марте исполнилось два года, вдруг потемнели и превратились в каштановые с золотым переливом. Точь-в-точь как у свекрови в юности. Но Мире больше нравился период светлых волос дочери, особенно когда кончики завились в локоны. Нимб из золотых кудряшек создавал неповторимый образ ангелочка с огромными изумрудными глазами. Но как бы бережно ни ухаживала Мира за ее волосами, как бы аккуратно ни расчесывала, чтобы сохранить локоны, они все-таки выпрямились и теперь лежали по плечам длинными прядями. Мире частенько хотелось закопаться, запутаться в них, почти задохнувшись от счастья при одной только мысли, что у нее есть дочь. Когда Марта бежала ей навстречу, Мире казалось, что ее подхватывал ветер: только бы быстрее до нее «долететь» и прижаться теплой щекой к ее щеке… «В жирафиков!» – говорила Марта, изо всех сил вытягивая шею, а Мира вытягивала свою, и они обнимались, максимально прижимаясь шеями, как это делали жирафы. Когда Марта находила скрученные усики винограда или сросшиеся ягоды черешни, она радостно бежала к Мире: «Мамочка, смотри, жирафики!!!»
Иногда Марта подолгу стояла у окна, взглядом устремившись в себя, уйдя в свои мысли, и Мире отчего-то становилось страшно. Она обнимала ее за хрупкие плечи и чувствовала, что сердце начинает биться чаще, и в эти мгновенья между ними протягивалась почти осязаемая, прочнейшая нить, единственная, которая могла так связывать двух людей. Мира даже не думала, что это возможно. Испытывать такие чувства. Разве это могло сравниться с чем-нибудь еще?
Она начала вести «Дневник Марты», в котором, например, писала: «Не уходи от меня. Даже мыслью. Мир без тебя лишен смысла. Ты всегда будешь петь мне свои замысловатые песни и рассказывать небылицы. И нет ничего чудесней, чем смотреть на тебя, когда ты лопочешь не останавливаясь и говоришь, говоришь, говоришь… О чем? Я не знаю…»
Марта была невероятной выдумщицей и болтушкой. Когда Мира слушала дочь, в очень скором времени сосредоточенность ее улетучивалась и звуки растворялись друг в друге, превращаясь в единый поток детской фантазии. Все, чего Мире хотелось в тот момент, – это забыть об отце, о наказаниях, снова стать маленькой и остаться в невинной заводи этих грез навсегда. Она наконец нашла потерянную тропинку в мир другого детства, куда попадала, глядя на Марту, в ее необыкновенные глаза – изумрудные луга, колосящиеся полевыми цветами – островками в ее радужках. И каждый раз, не желая возвращаться, Мира думала: «Быть может, Марта Ангел?», – и продолжала записывать в свой дневник: «…Велико искушение взять в руки ножницы, выкованные из таких слов, как любовь и привязанность, и подрезать тебе крылья, чтобы ты навсегда осталась со мной…».
– Мамочка, я хочу красивое платье!
– Конечно, я тебе сошью, – говорила Мира и резала свои красивые блузы, которые дарила свекровь и которые не особенно-то были ей нужны: где их носить? в школьной библиотеке? Да и не привыкла она к таким фасонам. Свекровь всегда дарила наряды со словами: «Большое заблуждение, что скромность украшает женщину, Мира. Уж точно не в одежде», – и Мира принимала их с благодарностью, но убирала в дальний ящик. И вот они пригодились. На них всегда было много бисера, пайеток, воланов, оборок и вязаных цветочков, да и ткань была отменная: красивая, качественная, не осыпалась. В новом платье Марта кружилась по комнате в танце: шифон вздымался над туфельками, на расшитом поясе мерцал бисер, и Мира самозабвенно погружалась в теплые блики детского смеха, которые врассыпную убегали от повседневности, растворяясь в синем небе. «Мамочка, я тебя лю-лю!» – говорила Марта, падая ей в объятья. В эти минуты сердце Миры сжималось. Нарастало волнение при одной только мысли, сколько всего ей еще предстоит пережить. Ее маленькой Марте. И поздней ночью, укрывая ее одеялом, она целовала ее, преисполненная благодарностью ко всему и вся за то, что у нее есть дочь, чье детство она создавала своими руками каждый день, не допуская ни малейшей оплошности. Никаких криков, слез и наказаний.



