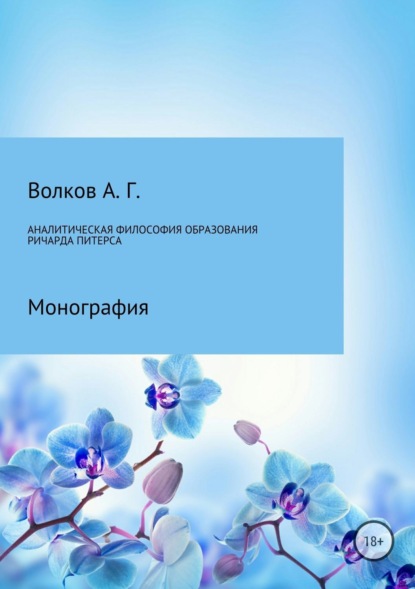 Полная версия
Полная версияАналитическая философия образования Ричарда Питерса
Таким образом, объектом аналитического исследования оказывается не только педагогический, но и другие виды общественного опыта, в том числе медицинский, поскольку, как полагает философ, существует параллель между образовательными и медицинскими причинами. Поэтому в центре его внимания – исследование значения таких понятий, как «образование» и «лечение». Он обращает внимание на то, что понятие «лечить» охватывает совокупность процессов исправления людей, тогда как понятие «образование» указывает на моральное совершенствование, иными словами, образовательные причины связаны с развитием желательных качеств у людей. Отличие педагога от врача видится в том, что образование не имеет определенно понимаемого результата, поскольку человек не осознает тот путь, который для него предназначается. Если для врачей существует консенсус относительно состояния здоровья как цели, то для педагогов он отсутствует, поэтому в педагогике существует множество мнений о целях образования. Поэтому подчеркивается, как необходимо выяснение того, что представляет собой «образованный человек», поскольку развитие оправдывается ценностью того, кем он станет, а соответственно, формирование какого знания и понимания становится необходимым. Из этого делается вывод, что нельзя считать образованным человека, который может быть ловким при решении практических задач, способным осваивать инновации и обладающим узкой специализацией.112
Поэтому философ критически относится к состоянию образования, оценка которого не предусматривает рассмотрение семейства процессов, которые определяют развитие человека. Однако он выделяет и некоторые позитивные стороны этого подхода, в частности ориентацию на постепенное формирование идеала, который определяет содержание образования. Это объясняется тем, что значение термина, используемого для характеристики процесса обучения и подготовки, достаточно неустойчиво, а отсутствие дифференцированной концепции не обеспечивает оснований, которые бы оказывали содействие позитивным состояниям человека113. Именно поэтому Р. Питерс считает актуальным определение целей образования в метафизическом смысле. Запрет трактовки образования как средства достижения желательных состояний рассматривается Р. Питерсом только как указание общего направления, то есть «быть образованным», из чего следует, что цели не могут указать на положение дел. Именно поэтому воспитательный идеал может состоять в том, что каждый ребенок должен учиться с радостью открытия. Возможно, что при рассмотрении семейства процессов выявится такое основание образования, которое приведет к желательному состоянию успеха.
Обращение к «семейству процессов» основывается на понимании языка Л. Витгенштейном, которое характеризуется следующим образом: «Мы узнаем: то, что называют «предложением», «языком», – это не формальное единство, которое я вообразил, а семейство более или менее родственных образований»114. Напоминаем, что Л. Витгенштейн под угрозой, которая нависает над логикой, имеет в виду строгость знания. Эта проблема в философии образования, по Р. Питерсу, должна решаться уже не в логическом, а прагматическом аспекте, поскольку логичным оказывается то, что находится «под углом зрения наших реальных потребностей»115. Именно поэтому целесообразность образования, подчеркивает философ, состоит в формировании специализированного знания, то есть такого, которое обеспечивает достижение практических целей. Кроме того, актуальным оказывается критичность мышления, наличие эстетического вкуса, которые становятся критериями выяснения того, что такое «быть образованным». Такое обозначение – «быть образованным» – свидетельствует о том, что «цели» образования, которые рассматриваются как средство для подготовки квалифицированных кадров, не имеют никакого отношения к устремлениям педагогов, что не означает, что учитель имеет в виду чисто профессиональные и экономические цели. Важность точного представления о целях дают критерии, которые определяют содержание и методы преподавания116.
Аналитическое исследование предполагает рассмотрение этимологии, в которой запечатлевается «семейство процессов» в виде совокупности обусловленных значений. При понимании концепта Р. Питерс опирается на его трактовку Л. Витгенштейном, который утверждает следующее: «Использование слов не всегда попадает под прямое обозначение, как, например, в геометрии, где обозначение используется как термин, например обозначение «треугольника». Скорее, они связаны формой «семейства», сложной сетью совпадений, иногда сходства в деталях, иногда – полностью»117. Поэтому термин «образование» предполагает «семью процессов», чьи принципы единства представляют собой развитие желаемых качеств в чем-то, что определяет существование. Соответственно, существует много таких процессов, которые могут быть интерпретированы в терминах, что выражают ценности человека или группы людей. Р. Питерс считает, что термин «образование» означает развитие детей в соответствии с рисунком, проектом, то есть «облечение в форму», что свидетельствует об императивной функции учителя, которая получила распространение в авторитарном методе обучения. Обращается внимание, что этот метод обучения предполагает беспрекословное принятие доктрин, формирование необходимых навыков, которые подкрепляют знания. С этой точки зрения человек как материал должен быть обработан в аспекте формирования способности понимать и распознавать. Он показывает, что метафора «формирование» несет в себе намерение «лечить», что вызывает возражение, поскольку назначение образования связано с возможностью самосовершенствования и позитивного преобразования. Именно поэтому представитель аналитической философии образования включает в семьи процессов термин «реформа». В то же время он определяет следующие различия между терминами «образование» и «реформа»: реформа предусматривает, что индивид зависит от некоторых заданных стандартов поведения; образование не имеет подобных предсказаний, поскольку предназначено для обеспечения осуществления интересов людей. Реформа включает ограниченное число операций. Образование, напротив, не ограничено в их количестве, потому что определяет передачу некоторых положительных качеств общества, поэтому каждый индивид может выбрать их для себя самостоятельно, без постороннего влияния. Образование предлагает не только то, что должно развиваться в контексте осознания ценностей, но и то, что связано с развитием знания и понимания, поскольку образованный человек – тот, который понимает что-нибудь. Это не просто человек, который что-то создал; именно поэтому такое понимание не должно быть слишком узкоспециализированным. «Образование целостного человека» – это концептуальная истина, которая не совместима с ее узкоспециализированным бытием118.
§ 15. Соотнесение концептов «образование» и «обучение»
В контексте вышесказанного Р. Питерс выявляет существенные недостатки использования термина «образование», в частности его лингвистическое сужение к формальному образованию, то есть обучению. «С приходом индустриализма растет спрос на знания и умения. «Образование» все чаще ассоциируется с «обучением» в специальных учреждениях. Такое большое количество изменений в развитии обязательного образования привело к тому, что это слово используется в связи с развитием понимания и знания»119. Философ предполагает, что речь идет о школьном образовании, поскольку именно оно имеет отношение к знанию и пониманию, лингвистически эквивалентно обучению, поскольку обществу необходимы символы успешности: дипломы, сертификаты, аттестаты, которые используются как средства для конкуренции внутри социально-экономической системы. Обучение стало не просто юридически обязательным, а социально-экономически обязательным. Социально-экономическое давление, что лежит в основе всего, дает уравнение: «образование» умножить на «обучение» равно «социально-политическая сила»120. Философ выражает сожаление, что для общества законным является лишь формальное образование. Он приводит мнение Т. Грина, который отмечает, что во многих развитых странах часто ценятся «вторичные блага» образования: дипломы, сертификаты, аттестаты. Они ценятся больше, чем сами знания, умения и понимания121. Для вышеобозначенного процесса Р. Питерс предлагает использование понятия термина «обучение», который характеризует форму состояния или несознательного опыта, требующего участия. При этом отмечает, что не все процессы обучения являются образовательными, поскольку из них должны быть исключены нежелательные с этической или эстетической точек зрения.
Понятия «образование» и «обучение» с обозначенной точки зрения не являются логически обусловленными, поскольку образование может быть и вне обучения, тем более что некоторые цели могут быть достигнуты без преподавания, хотя при этом могут формироваться ясные представления и навыки деятельности. Чтобы образование было эффективным, считает аналитический философ, необходимо выделить центральные цели, например качество ума, сформировать которое возможно через освоение сложных языковых структур, социальных институтов и традиций при наличии систематичности, освоения нормотворческих закономерностей и процедур, что, подчеркивает философ, невозможно без посторонней помощи. Соответственно, настаивает Р. Питерс, функция школы состоит в выполнении именно этой задачи, которая предполагает овладение мастерством, для чего необходимо ориентироваться на контент (сферу) предназначения обучения, поэтому идеальные условия и внешняя мотивация являются только вспомогательными средствами. Учебная деятельность должна иметь в виду логическую точку, которая указывает «что» и «как» преподавать, то есть предполагает вразумительную ориентацию на когнитивное состояние учеников.122
По Питерсу, термин «образование» определяет каузальность сознательного процесса, и в этом аспекте учебная деятельность должна отвечать таким условиям: 1) обеспеченность процесса обучения; 2) способность демонстрировать то, что изучено; 3) ориентация на возможности учащихся. В первом случае предполагается передача мастерства, поскольку обучение происходит в пределах сообщества, однако при этом необходимо иметь в виду потенции учащегося. Соответственно, утверждается, что понятие «образование» указывает на развитие не только чего-то ценного, но и того, что включает в себя развитие знания и понимания. Поэтому образованный человек – тот, кто имеет понимание не только чего-то ценного, но вместе с тем и того, что включает в себя развитие знания и понимания человечества. При использовании термина «образование», считает Р. Питерс, необходимо иметь в виду наличие двух типов условий: условий формирования и условий возникновения знания в обществе как части человечества. Поэтому он утверждает, что нельзя говорить об образовательной системе страны без оценки того, чем другие уже овладели; необходимо провести параллель между моральным кодом другого сообщества или субкультурой внутри собственного.
Весьма близкое понимание понятия «образования» можно видеть у У. Джеймса: «Когда говорят, что образование – это развитие, все зависит от того, что понимают под словом «развитие». Наш окончательный вывод состоит в том, что жизнь есть развитие, а развитие, рост есть жизнь. На языке педагогики это означает, во-первых, что образовательный процесс не имеет цели вне себя, он и есть своя собственная цель, и, во-вторых, что образование есть процесс непрестанной реорганизации, перестройки, преобразования»123. Не вызывает сомнения, что при описании значения понятия «образование» Р. Питерс опирается на У. Джеймса.
Для характеристики семьи «образовательных» процессов, с точки зрения Р. Питерса, термин «инструкция» может использоваться, но эти два понятия нельзя отождествлять, поскольку образование ассоциируется с изучением, а не с таинственным созерцанием. Поэтому образование имеет только опосредованное отношение к побуждению к какому-либо специфическому типу активности, потому что человек может приобрести образование как наедине, так и в небольшой группе. Поэтому он напоминает, что «образование» сходно с реформой, но при этом не является каким-то определенным видом деятельности или процессом. Скорее, оно должно соответствовать критериям, которым должны отвечать виды деятельности или процессы, охватывать целый ряд задач, решение которых предполагают формирование определенных попыток и успешность в определенной деятельности.
Проблема в том, сетует аналитический философ, что терминам не всегда можно дать определенное четкое трактование, поскольку они образуют так называемую семью, которая объединена сложной сетью совпадений и перекрещиваний. Он указывает на категории, которые представляют интерес для философов. Они обозначают сферу значения только в общих чертах, поэтому следует рассматривать термин «образование» как то, что сознательно создается в мыслях для себя и окружающих. Однако подчеркивает, что это не означает, что не существует определенных критериев образования, которые не могли бы соотноситься с данным термином. Проблема в том, что в естественном языке термины могут приобретать такие значения, которые далеки от их основного значения. Это не означает отказа от ориентации на него, скорее побуждает к различению центрального и периферийного использования. Соответственно, «образование» в качестве «реформы» может выступать также как критерий преобразования и самосовершенствования, что для человека является значимым и ценным. На это также указывает Г. Райл, который считает, что обучать кого-то означает передать ему ценности познания и понимания124. Последнее замечание также подхватил И. Шеффлер при рассмотрении термина «обучение», который, по его мнению, имеет двойной аспект: то, посредством чего люди передают что-то, что имеет смысл, и то, в чем они действительно преуспели. При этом успех может быть обозначен общими чертами: чувством актуальности, точности и силы, а также более конкретными чувствами: мужественностью, чувственностью к другим, чувством стиля.
В связи с потребностью выявления центрального значения Р. Питерс оспаривает точку зрения, что образование связано с обучением (educere), а не с воспитанием (educare), например, указывает на Ч. Стивенсона, который назвал «убедительным определением» образования вероятность коннотативной связи с функцией оценивания125. Тогда считается, что ничто не может называться образованием, если не реализуются главные процессуальные принципы. Р. Питерс настаивает на первичности концептуальной точки зрения на образование, учитывая, что моральные принципы не могут быть сформированы из понятий, тем более когда используется сомнительная этимология. Он осуждает подобные «концептуальные намеки», настаивая на необходимости вспомнить разницу между образованием как «задачей» слова и ее «достижением». Значение термина «достижение» в том, что человек интересуется тем, что имеет смысл, истинность, а не просто рассматривает науку как средство материального прогресса. Образование как «достижения» не обязательно может быть обозначено определенной конкретной целью. По этому поводу приводится пример ученого, который проводит эксперименты без какого-либо принуждения со стороны. Более привлекательной, по его мнению, является концептуальная точка зрения, которая усиливает связь между образованием и социальным назначением; указывается на важность понимания, тем более что невозможно охарактеризовать задачи учителя, не имея представления о задачах ученика.
Чтобы избежать этого недостатка, Р. Питерс рассматривает другие концепты, которые входят в состав концепта «образование», в первую очередь концепт «развитие». При рассмотрении его трактовки Питерс обращается к пониманию индивидуального сознания британскими эмпириками, а именно Ф. Бэконом и Дж. Локком, которые рассматривают его как медленный процесс, с помощью которого общие убеждения приобретаются в виде накопления опыта. Отдельные чувственные данные, как полагается, получаются через чувственные восприятия, вследствие чего начинает формироваться индивидуальный разум, который содержит сложные идеи и ожидания. Соответственно, главная функция педагога заключается в обеспечении оптимальной среды, где индивидуальное развитие может продолжаться или более активно имплантировать определенные идеи в сознание ребенка. Подобное обращение к внутреннему миру, напоминает Р. Питерс, было институциализировано в Средневековье с акцентом на спасении и чистоте души. Затем, в Новом времени, выделяется актуальность откровения вместе с самоанализом как источников знаний, что позволило Р. Декарту перевести платоновскую «душу» в математическую плоскость. Различие, по его мнению, состоит в том, что индивид Средневековья достоверно знал природу собственных психических состояний, разум и причина были не просто связаны, это был внутренний мир сознания, к которому каждый человек имел индивидуальный доступ.
§ 16. Аналитическая трактовка сознания
Придерживаясь диспозиционной трактовки сознания Г. Райлом, Р. Питерс рассматривает сознание как особенность ума, которая является его объективной характеристикой. Как представитель логического эмпиризма, он сосредотачивается на его эмпирических характеристиках, своеобразие которых предполагает выделить тезис, что человек в качестве владельца опыта имеет уникальную и неповторимую точку зрения на окружающий его мир, а соответственно, желает чего-то, боится, сердится на кого-то или что-то, верит, являясь самостоятельной сущностью, которая развивается и вносит свой вклад в развитие человечества. В этой связи мыслитель напоминает положение монадологии Г. Лейбница, согласно которому в сознании каждого человека отражается окружающий мир с определенной точки зрения.
Соответственно, Питерс считает, что сознание человека и его индивидуальность нельзя объяснить с генетической точки зрения без рассмотрения его как отдельного элемента мирового сообщества, который имплицитно присутствует и по отношению к которому человек развивается, в котором, в свою очередь, отражается его собственный стиль и характер бытия. Поэтому ни в коем случае не следует преуменьшать важность индивидуального сознания со стороны формирования своеобразия ума и как центра этической проблемы. По мнению Питерса, необходимо показать процесс развития сознания посредством выявления общей структуры понятий и категорий, посредством выбора объектов в рамках пространства-времени для установления причинно-следственных связей, что является только определенным этапом в развитии ума. В своем дальнейшем развитии дифференциация понимается как процесс овладения основными навыками, и с помощью этого человеку открывается доступ к великому наследию, которое накоплено теми, кто лучше разбирался в более конкретных способах мышления и осмысления. Очевидно, что Р. Питерс использует спенсеровскую модель прогресса для описания совершенствования сознания, которая предполагает, что прогресс – это усложнение структуры и дифференциация элементов общества.
Таким образом, отстаивается положение, что каждый способ мышления предполагает формирование «своих» смыслов, совокупности знаний и использование процедур, с помощью которых они накапливаются. При характеристике этого процесса Р. Питерс снова обращается к метафоре «семья понятий», а кроме того, использует положение эмпиризма, утверждая, что в процессе обучения понятия (например, «масса», «скорость», «сила») должны быть понятны в сочетании. Выдвигается положение, что процесс посвящения в подобные формы мышления и является процессом образования посредством формирования «повестки» (направленности) потока сознания с помощью образования категориальной и концептуальной структуры. Не вызывает сомнений ориентация на феноменологическую трактовку сознания, которое рассматривается как поток, обладающий определенной направленностью. В этой связи приведем гуссерлевскую характеристику Я: «Я – это я, человек в действительности, реальный объект подобно другим в естественном мире. Я осуществляю cogitationes, «акты сознания» в более широком и в более узком смысле, и акты эти, как принадлежные к такому-то человеческому субъекту, – это нечто происходящее все в той же естественной действительности. То же самое и все мои прочие переживания, в переменчивом потоке которых столь своеобразно вспыхивают специфические акты Я, переходя друг в друга, связываясь в синтезы, непрестанно видоизменяясь. В наиболее широком смысле выражением «сознание» (в дальнейшем, впрочем, менее подходящим) охватываются и все переживания»126. Как видим, Э. Гуссерля и Р. Питерса объединяет эмпирическая трактовка сознания, которое рассматривается как поток переживаний.
Для понимания своеобразия интерпретации сознания основателем аналитической философии образования также следует иметь в виду влияние на его взгляды структуралистских тенденций. Г. Косиков выделяет следующие два основных структурных принципа: «1) принцип «структурного объяснения» объектов гуманитарного знания; 2) представление о бессознательном характере структуры»127. Роль структурирования состоит в том, что оно позволяет упорядочить поток переживаний посредством включения индивидуального сознания в общественное в качестве составного компонента. Это влияние объясняет отстаивание положения, что структура сознания развивается в ответ на общественные традиции, которые закреплены в языке. При этом обозначенная тенденция совмещается с эмпирической, предполагающей, что исследование окружающего мира имеет свои истоки в опыте и, соответственно, формирование сознания начинается с формирования вкуса и осязания, причем большинство объектов, которые познаются, несут на себе отпечаток публичного сознания. Именно поэтому даже на уровне конкретных объектов окружающий мир в структурализме рассматривается как селективный мир социальной искусственности, что характерно для цивилизованных обществ.
Р. Питерс принимает и использует в полной мере первый принцип, который помогает представить знание как структурированную целостность, при этом он распространяет его не только на объекты гуманитарного знания, но и на сознание в целом, именно поэтому индивидуальное сознание рассматривается в структуре общественного. Второй принцип скорее преодолевается посредством логического анализа значения понятий, в результате чего снимается «бессознательный характер структуры». Об этом говорит то, что образование трактуется как процесс посвящения в подобные формы мышления посредством формирования потока сознания с помощью категориальной и концептуальной структуры. При условии того, что подобная структура развивается в ответ на общественные традиции, которые закреплены в языке, исследование окружающего мира начинается не с нее.
Представление о структурной целостности Р. Питерс распространяет на отношения между учителем и учеником посредством использования понятия Д. Лоуренса «святая земля», которое акцентирует внимание на необходимости наличия взаимопонимания между ними, иначе говоря – формирования структурного единства. В этом контексте образование выступает способом наложения «рисунка» на сознание другого человека или фиксацией окружающей среды, что становится импульсом для развития. Это возможно с помощью инициации в общественную среду и усвоения концептов. Именно таким образом становится возможным поощрение присоединения к определенной сфере знания и формирования дифференцированных форм сознания.
§ 17. Две модели для описания развития
При рассмотрении концепта «развитие» Р. Питерс обращается к наследию представителя натурализма Э. Нагеля, сохранившего приверженность логическому эмпиризму при рассмотрении пространственных и психических структур, и допускает, что положение об их обусловленности можно распространить на характеристику режимов сознания, которые также имеют своего рода логическую и концептуальную сеть отношений. Их взгляды объединяет положение, что эмпирические высказывания только тогда являются осмысленными, когда они могут быть подтверждены на опыте128. Поэтому при оценке позиции прогрессивистов философ рассматривает наличие опыта как основную предпосылку продуктивности образования, в частности при анализе таких качеств ума, как способность критически мыслить, творить и быть самостоятельным и данные качества не оправдывают себя, если они обеспечены формами знаний и опыта129.
Поскольку опыт постоянно изменяется, то при рассмотрении вопроса о ментальной структуре в центре внимания философа оказывается спор о врожденных идеях. Выражается сомнение, что с помощью его решения можно описать развитие ребенка. При рассмотрении последовательности процессов необратимого рода обращается внимание на то, что в сфере образования этапы должны рассматриваться не с точки зрения формы и структуры, а с точки зрения уровня понимания и желания, а, следовательно, описываться в терминах обучения. И в этой связи Р. Питерс обращается к биологической модели развития сознания Ж. Пиаже, который дает такую трактовку назначения ассимиляции: «Действие организма на окружающие его объекты можно назвать ассимиляцией (употребляя этот термин в самом широком смысле), поскольку это действие зависит от предшествующего поведения, направленного на те самые или на аналогичные объекты. В самом деле, ведь любая связь живого существа со средой обладает той характерной особенностью, что это существо, вместо того чтобы пассивно подчиняться среде, само активно ее преобразует, налагая на нее свою определенную структуру. Физиологически это означает, что организм, поглощая из среды вещества, перерабатывает их в соответствии со своей структурой. Психологически же происходит, по существу, то же самое, только в этом случае вместо изменений субстанциального порядка происходят изменения, исключительно функционально обусловленные моторной деятельностью, восприятием и взаимовлиянием реальных или потенциальных действий (концептуальные операции и т. д.). Таким образом, психическая ассимиляция есть включение объектов в схемы поведения, которые сами являются не чем иным, как канвой действий, обладающих способностью активно воспроизводиться»130. Несомненно, что развитие, обусловленное ассимиляцией, не предполагает самостоятельности при определении его перспектив, поскольку в этом случае их фактически невозможно выявить. Именно это имеет в виду Р. Питерс, когда говорит о возможности использования психологической теории только метафорически. Это объясняется тем, что в ментальном случае развитие обеспечивается не только социальной средой, поскольку дети моделируют себя на других, делая внешнее своим.



