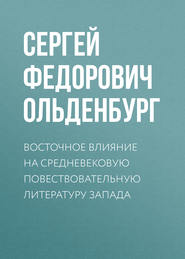 Полная версия
Полная версияВосточное влияние на средневековую повествовательную литературу Запада
Конечно, эта последовательность переходов в высокой мере вероятна, и в высокой мере невероятно, чтобы повести западные и восточные на нашу тему возникли независимо одна от другой; еще менее вероятно, чтобы восточные повести были заимствованы с Запада, но, конечно, не исключены вполне вторая и третья возможности. Только если мы остановимся на них, нам, в сущности, надо сделать то, что сделал Аристотель в фабло, – закрыть книгу, ибо дальнейшая работа невозможна; мы оказались бы тогда в области безграничного, а потому и бесплодного скептицизма; всякие дальнейшие попытки были бы уже совершенно бесполезны – там, где возможно все, в сущности, ничего не возможно. Между тем ясно, что практически есть степень невероятности, которая жизненно равна невозможности. И поэтому если мы по тщательной проверке находим ряд примеров большей вероятности, то мы имеем право считать, что доказали то, чему мы приводили эти примеры. В занимающем нас случае это примеры того, что фабло известного типа – восточного происхождения. Первым примером Lai d'Aristote я и кончаю сегодня, чтобы следующий раз перейти к фабло Aubere.
Лекция III
По отношению к анонимному фабло конца XII или начала XIII в. Aubere нам придется вести наше рассуждение иным путем, чем по отношению к Lai d'Aristote, – дело в том, что на Востоке мы не знаем пока соответствующего отдельного рассказа, но несколько версий его входят в разные восточные переводы «Книги о семи мудрецах». Нам необходимо поэтому сказать несколько слов об этом знаменитом восточном сборнике рассказав. Его индийское происхождение несомненно, но так как индийский оригинал до сих пор не найден, то мы не можем с полной уверенностью сказать, что в Индии уже существовал и сам сборник, а не только входящие в его состав рассказы. Пехлевийская, т. е. персидская, его форма времени Сасанидов до нас не дошла, но дошли до нас сведения об арабских переводах IX в. и сирийский перевод, может быть, даже еще более ранний; есть сведения и о новоперсидском переводе X в., и, наконец, даже сохранился новоперсидский перевод XII в. Греческий перевод относится к XI, испанский и еврейский – к XII в.
Если исключить греческий и испанский переводы-переделки, то оказывается, что восточная обработка не перешла на Запад, но вместо нее возникла своя «Книга о семи мудрецах» с той же основной канвой, что и восточная книга, – о царе, его преступной жене, полюбившей целомудренного царевича, которого защищают семь мудрецов от несправедливого подозрения и гнева его отца-царя, настроенного против него отвергнутой юношей царицей, – знакомый мотив Федры и Ипполита в классическом мире. В западной книге о семи мудрецах при общей основе канвы с восточной мы имеем другие вставные рассказы. Обстоятельство это заставляет предполагать влияние устной передачи, притом весьма, по-видимому, ранней, так как имеется западная форма уже XII в. Большое количество переводов общих форм западной и восточной, особенно большое количество рукописей западной формы, указывает на чрезвычайную популярность нашей книги, любопытно в этом отношении привести справку из XVI в., насколько еще тогда была популярна эта книга: в сохранившихся до наших дней записях книгопродавца, продававшего книги на франкфуртской ярмарке в 1569 г., значится, что он продал 233 экземпляра «Книги о семи мудрецах», значительно больше, чем целого ряда других книг повествовательного характера.
Мы остановились на популярности «Книги о семи мудрецах», потому что именно такая популярность делает возможным предположить широкое распространение путем устной передачи отдельных рассказов из сборника, а коренная разница в составлении сборников западной и восточной групп (к последней из западных должны быть причислены греческие и испанские) показывает, что здесь нет речи о заимствовании путем письменной передачи. Именно греческий и испанский переводы-переделки доказывают, что при письменной передаче, даже при значительных отступлениях, разница не может быть столь коренной, чтобы оставить только общую схему рамки основного рассказа, заменив вставные рассказы новыми. Но общая схема рамки основного рассказа настолько сложна и настолько близка и в западной, и в восточной группе, что невозможно предположить, с другой стороны, и независимое друг от друга возникновение обеих групп. Вопрос о западном происхождении исключается, так как мы не знаем никакого старого западного сборника этой формы, а наличность одного только мотива Федры и Ипполита на Западе не дает нам права говорить о наличности сложного сюжета основного рассказа «Книги о семи мудрецах» на Западе.
Мы здесь еще раз хотели бы предостеречь от смешения, которое часто делается в вопросе о заимствовании между мотивом и сюжетом, который есть определенное сочетание ряда отдельных мотивов, объединенных общей основной мыслью, связанных для составления именно одного данного рассказа. Если всегда есть возможность предположить независимое возникновение в разной среде и в разное время отдельных, даже совершенно одинаковых мотивов, так как человек все-таки всюду человек, и как бы велика ни была разница между отдельными людьми, сходство между ними будет несравненно больше, то независимое возникновение целых сюжетов в высокой мере невероятно. И чем сложнее и своеобразнее сюжет, тем менее вероятно заимствование, ибо здесь мы имеем уже дело с той печатью личности, с тем личным элементом, который в своей необыкновенной индивидуальной сложности так же не повторяется, как и знаменитые сплетения черт на большом пальце каждого человека, о неповторяемости которых говорит не только судебная практика, но и бесконечные криминальные романы.
Итак, установим определенно нашу исходную точку. В восточной группе редакций сборника «О семи мудрецах» есть рассказ, как мы покажем далее, чрезвычайно близкий к фабло Lai d'Aristote. Восточная группа нашей книги, с одной стороны, является источником западной группы ее редакций, с другой – дала на Западе в XI в. греческую редакцию, в XIII в. испанскую и еврейскую; к еще более раннему времени относятся редакции сирийская, арабская и персидская, с которыми, особенно в период крестовых походов, могли знакомиться западные люди и заимствовать из них наиболее интересовавшие их рассказы. Некоторым указанием на последнее обстоятельство мы считаем тот факт, что из группы фабло, которую мы разбираем, кроме Lai d'Aristote, еще три фабло встречаются в восточной группе нашей книги; мы выражаемся столь осторожно и употребляем выражение «некоторым указанием», так как считаем, что, пока мы не доказали большую вероятность восточного происхождения и этих фабло, мы еще не вправе говорить определеннее.
Такое положение дела заставляет нас, мне кажется, рассмотреть подробнее отношение нашего фабло конца XII или начала XIII в. к восточному рассказу, чтобы выяснить, есть ли с обеих сторон та общность сюжета, которая позволила бы нам внешнюю возможность заимствования сюжета фабло с Востока превратить во внутреннюю значительную вероятность. Переходим к содержанию фабло.
«В городе Компьене жил богатый человек, у которого был сын, прекрасный собой и не жалевший отцовских денег. Он влюбился в дочь одного бедного соседа, но молодая красавица соглашалась услышать его, только если он на ней женится. Юноша стал просить у отца разрешения, но тот и слышать об этом не хотел.
Тем временем за девушку посватался житель того же города, незадолго перед тем овдовевший, и женился на ней. Выход замуж его возлюбленной приводит в отчаяние юношу. Однажды он выходит из дому и при виде дома возлюбленной страдает еще более. Вскоре он встречает известную сводню, портниху Обэрэ, которой он обещает 40 ливров, если она поможет ему. Она берет деньги и спрашивает еще его плащ (sorcot), с этим плащом она идет в дом молодой женщины, зная, что мужа ее нет дома, так как это – рыночный день. Обэрэ говорит молодой женщине, что она знала хорошо покойницу, первую жену ее мужа, и как муж ее любил. Под предлогом, что хочет посмотреть, так же ли заботится муж о второй жене, как о первой, она идет смотреть ее постель. Молодая показывает ей все, между прочим, и платья, и Обэрэ, улучив минуту, прячет плащ под одеяло на постели, в плаще находится игла и наперсток. Обэрэ просит для больной дочери белого вина и булку и, получив просимое, уходит.
Возвращается муж; чувствуя себя нездоровым, ложится на постель и замечает присутствие плаща. Вытащив его, он начинает подозревать жену в неверности; мучимый ревностью, он прячет его в шкаф. Вечером муж без всяких объяснений выталкивает жену на улицу. На улице ее встречает с удивленным видом Обэрэ. Молодая женщина рассказывает происшедшее и говорит, что не понимает причину гнева мужа. Она просит Обэрэ проводить ее к родителям. Обэрэ отговаривает ее от этого намерения, объясняя, что могут ее заподозрить в неверности мужу, зовет ее к себе, обещая гостеприимство до тех пор, пока муж не одумается. Молодая женщина принимает предложение, и Обэрэ помещает ее в отдельную комнату. Затем она спешит к юноше, находящемуся в мучительном ожидании. Он является и объясняется в любви молодой женщине. На следующий день оба остаются вместе, и только к вечеру Обэрэ заявляет о своем намерении примирить молодую женщину с мужем, что немало огорчает юношу. Обэрэ успокаивает его обещанием будущих свиданий. Затем она идет с молодой женщиной в монастырь St. Cornille, велит ей здесь лечь крестом перед алтарем и поставить свечи в головах, ногах и с боков. Затем бежит, несмотря на неподходящий час, к мужу и осыпает его упреками, что он заставляет жену так рано ходить в церковь, где Обэрэ ее увидела, придя в церковь после тяжкого сновидения. Этими словами она несколько рассеивает дурные мысли мужа, который идет с Обэрэ в монастырь, видит жену, подымает ее, шепнув, что прогнал ее под влиянием опьянения, и возвращается с ней домой.
Утром муж выходит и встречает Обэрэ, которая все кричит о 30 су. Он спрашивает ее, в чем дело; она объясняет, что третьего дня один юноша отдал ей в починку плащ, с которым она вышла и потеряла его; в плаще была иголка и наперсток. Она в большом смущении, так как юноша требует за утерянный плащ 30 су, которые она уплатить не может. Муж спрашивает Обэрэ, не была ли она в его доме. Она отвечает, что действительно третьего дня приходила к нему в дом за едой для больной дочери и заснула на кровати. Может быть, что она оставила там плащ. Обрадованный таким оборотом дела, муж идет к себе и находит действительно в плаще иголку и наперсток. Он возвращает Обэрэ плащ, уверенный теперь в невинности своей жены».
Изложив подробно содержание фабло, мы ограничимся подробным пересказом одной из восточных версий, так как древнейшие из них настолько друг к другу близки, что было бы бесцельно утомлять вас повторением одного и того же, а новейшие персидские и арабские, более отличающиеся и от старых восточных версий и от Aubere, не представляют интереса для нашей цели, так как нам важен только материал, существенный для выяснения вопроса о возможном заимствовании с Востока сюжета фабло, а не тот, который нужен для его истории вообще, так как мы в настоящее время этою историею не занимаемся. Для пересказа мы выбираем персидскую прозаическую версию XII в., повторяя, что могли бы ее свободно заменить одною из других старых версий.
«В городе Забуле жил прекрасный юноша; он влюбился в красавицу, которую случайно увидел. Чтобы получить к ней доступ, он обратился к старухе, которая сказала ему, что красавица – жена торговца материями, и велела поступить так: пойти на следующий день в лавку мужа той женщины, спросить кусок атласа и купить самого дорогого, говоря: «Я покупаю для друга». Затем передать ей, которая будет у лавки, со словами: «Отнеси это платье моему другу».
На следующий день юноша пошел в лавку, купил кусок дорогого атласа и отдал старухе. Та пошла в дом купца, зашла к его жене, незаметно подсунула платье под подушку и ушла после угощения. Вечером вернулся купец и нашел под подушкой платье; он вспомнил про утреннюю покупку и решил, что юноша купил атлас для его жены, взял палку и избил ее. Она ушла и отправилась к родителям. Старуха отправилась туда и расспросила ее, как это все случилось. Молодая женщина ответила, что решительно ничего не понимает. Старуха сказала, что знает мудреца, который может разгадывать всякие тайны; молодая женщина пожелала его видеть. Старуха обещает разыскать мудреца и предупреждает юношу, затем ведет к нему молодую женщину и оставляет их одних. Юноша соблазняет ее, и до вечера она остается у него. Вечером молодая женщина идет домой, а юноша просит старуху сделать так, «чтобы огонь любви между этой женщиной и ее мужем возгорелся опять». Старуха велит ему на другой день прийти в лавку купца материями и спросить ее, когда она будет проходить мимо, что она сделала с платьем, которое он велел ей отнести к другу. Юноша так и сделал, и спросил, что она сделала с платьем, чтобы в случае, если его другу оно не понравилось, он мог отдать его купцу. Старуха ответила, что другу его платье не понравилось, и что он отдал его, и что она отнесла его в дом купца, но купца не было дома, а платье она оставила у него. Купец обрадовался, отдал деньги, поспешил в дом матери жены, просил прощения у жены и привел ее назад».
Перед нами, таким образом, две формы того же рассказа, и нам чрезвычайно важно установить факт связи между ними. Каким же способом мы располагаем для того, чтобы установить эту связь? Мне лично представляется, что пока мы имеем только следующий способ, который до известной степени только приближенный, потому что при его применении никак не избежать известной субъективной оценки, а эта субъективная оценка, естественно, является элементом недостатка в точности. Сравнивая оба рассказа, мы стараемся понять намерение авторов, их основную мысль, чувство, ими руководившее, для того, чтобы выяснить, являются ли разноречия достаточно существенными, чтобы позволить предположить два самостоятельных, независимых друг от друга построения рассказов, или разноречия объясняются просто известными отступлениями, индивидуальными переменами, которые одно лицо, передавая рассказы другого, свободно может ввести, не изменяя существа передаваемого. В процессе этой нашей работы мы неизбежно внесем субъективный элемент, ибо каждый из нас понимает автора все же несколько по-своему, и если, в общем, к произведению художественному, если только оно не принадлежит к числу символических или говорящих только намеками и неведением, отношение различных читателей не особенно разнится в понимании хода рассказа, то все же, повторяю, и здесь субъективизм неизбежен.
Я высказываю это все несколько подробнее для того, чтобы объяснить выдвигаемый мною метод сравнения, который при первом взгляде может показаться слишком упрощенным, первобытным и недостаточным. Но я считаю совершенно необходимым для исследователя выяснить сразу предел доступных ему возможностей, беря в этом пример с математики, точность метода которой заключается именно в том, что она уясняет себе пределы своей неточности. Мы только ослабим результаты наших выводов, если будем заблуждаться относительно степени точности методов нашей работы и полученных ею данных.
С этой точки зрения я считаю необходимым привести перед вами с надлежащею критическою оценкою понимание сравнительного метода в применении к фабло у одного из главнейших их исследователей последнего времени, г-на Бедье, так как этот метод получил известное распространение и нашел себе последователей.
Каждый рассказ, говорит г-н Бедье, имеет органическую основу, из которой «ни одна черта не может быть удалена без того, чтобы рассказ, как таковой, не перестал существовать. Одним словом, можно любую версию рассказа свести к несократимой форме: этот последний субстрат непременно перейдет во все существующие версии или даже во все мыслимые версии; вне власти ума человеческого что бы то ни было удалить из него. Если пересказать рассказ даже через десять тысяч лет, то эта органическая необходимая его часть останется незыблемой». Мы привели эти слова целиком для того, чтобы не могло быть сомнения в их категоричности и в том значении, которое им придает их автор, считая высказанное мнение, очевидно, основой дальнейшей выработки метода сравнения двух или многих рассказов между собой. Изобретенный г-ном Бедье, таким образом, «элемент» (считаем это наиболее точным определением), он обозначает w, имея, вероятно, в виду указать на его конечность, и утверждает, что относительно двух рассказов, у которых только общее w, нельзя никогда выяснить, который является заимствующей стороною, так как каждый из рассказчиков, который переделывал данный рассказ, должен был неизбежно ввести в свое изложение эту неотъемлемую часть рассказа.
Кроме w в каждом рассказе, продолжает г-н Бедье, есть еще всегда ряд деталей, вводимых каждым передатчиком особо, для того, чтобы конкретизировать рассказ и именно с определенным пониманием: черта местных нравов, шутка и т. п. Эти так называемые индивидуализирующие рассказ подробности изменяются с каждой версией. Таким образом, формулу рассказа можно написать так: w + a + b + c; тогда рассказ с тою же основою и с частью тех же добавленных подробностей, но с частью новых подробностей мы обозначим как w + a + b + m + n; а рассказ с тою же основою, но со всеми иными подробностями как w + 1 + m + n. Два рассказа тождественных будут обозначены формулой w + a + b; два рассказа, ничего между собою общего в деталях не имеющие, будут иметь только ничего для преемственности не доказывающее w. Два же или несколько рассказов, имеющих общие добавочные черты, непременно находятся во взаимоотношениях.
Искусственность всего построения г-на Бедье сразу бросается в глаза: w никогда в жизни не существовало и о нем потому совершенно бесполезно говорить при выяснении вопроса о сравнении, но, более того, даже выделение этого w из рассказов вполне субъективно и разными исследователями всегда будет производиться разно, как мы это покажем далее по отношению к самому г-ну Бедье.
Уже создав свое построение, г-н Бедье почувствовал его слабость в этом субъективном отношении и делает поэтому оговорку, которая, однако, чего он, по-видимому, не почувствовал, рушит все построение. Он допускает, что при определении w может произойти ошибка и «можно принять за основное в рассказе то, что является лишь частной подробностью». Мы вполне признаем это ограничение, но тогда что же такое это w? W – это основа, из которой, как это говорит сам г-н Бедье, «ни одна черта не может быть удалена (без того, чтобы рассказ, как таковой, не перестал существовать». При только что признанном ограничении w является внежизненною фикциею.
Если мы после этого признания тем не менее остановимся еще подробнее на формуле w + a + b + c, то это необходимо сделать, так как она легла в основу опыта, произведенного г-ном Бедье, опыта, увлекшего многих перспективою возможности применения, как им казалось, экспериментального метода в изучении истории литературы.
Сперва мы проверим на w + a + b + c способ сравнения, рекомендуемый г-ном Бедье, а затем разберем и произведенный им опыт. Для нашего рассказа г-н Бедье принимает следующую форму w. Сводня представляет молодому человеку молодую женщину при помощи следующей хитрости: она проникает в комнату молодой женщины и оставляет там без ее ведома часть мужского одеяния, на котором делает особую метку. Муж находит платье, заключает из этого об измене жены и прогоняет ее. Изгнанная, она соединяется с молодым человеком. Затем надлежит примирить ее с мужем: сводня заявляет ему, что она потеряла, не знает где, одежду, которая была ей доверена и на которой особая метка. Муж убеждается тогда, что старуха была одна в спальне, и жалеет о своих подозрениях.
Дав такую формулу, г-н Бедье, однако, сам же добавляет, что нет необходимости, чтобы речь шла именно о платье, хотя эта естественная подобность не может служить настоящим поводом для сближения двух версий. При категоричности заявления г-на Бедье, что из w «ни одна черта не может быть удалена без того, чтобы рассказ, как таковой, не перестал существовать», такое изменение внушает невольное сомнение. Но если всмотреться ближе в только что сообщенное w + a + b + c, то придется убедиться, что вполне возможны и дальнейшая его критика, и изменения. Во-первых, нет надобности, чтобы именно участвовала сводня, ибо в одной из версий (персидской стихотворной) соответствующая роль принадлежит гермафродиту. Затем, хотя прямых указаний нет на это в существующих известных версиях, мужчина, очевидно, не должен обязательно быть молодым. Далее, старуха не должна быть непременно в комнате молодой женщины, указание на дом достаточно. В метке предмета тоже нет надобности, персидская прозаическая версия ее, например, не приводит. Вот уже ряд вещей, которые в незыблемом будто бы w могут быть, на наш взгляд, изменены; другой исследователь сможет, вероятно, найти еще другие изменения.
Посмотрим теперь, как г-н Бедье разрешает одну из взятых им наудачу восточных версий – сирийскую. Мы совершенно согласны с ним, что при большей близости друг к другу старых восточных версий безразлично, которой из них пользоваться при сравнении с Aubere:
a) Распутный человек видит однажды красавицу и посылает к ней с любовным предложением, но без успеха. Идет сам и тоже терпит неудачу. Тогда он идет к соседке старухе и просит ее помочь ему, обещая награду.
b) Старуха посылает его к мужу женщины на базар купить платье, она при этом описывает ему мужа. Платье пусть он принесет ей.
c) Он покупает плащ и приносит его старухе, которая в трех местах прожигает плащ. Старуха велит ему ждать ее в ее доме.
d) Старуха идет к молодой женщине, болтает с ней и незаметно кладет под подушку мужа плащ. Муж, вернувшись, ложится отдохнуть и находит проданный им плащ. Ничего не говоря жене, он избивает ее. Жена бежит к родителям, полная гнева и недоумения. Здесь к ней является старуха и говорит, что, верно, она заколдована, она зовет ее к себе под предлогом, что у нее живет врач, который может ее излечить. Женщина идет к старухе и обещает ей подарок за исцеление. У старухи распутник объясняется ей в любви. Но на следующее утро он просит старуху как-нибудь устроить дело между ней и мужем.
е) Старуха посылает его к мужу, который спросит о плаще; она велит тогда ответить, что он сел с плащом к огню, прожег его в трех местах и передал старухе, чтобы она отдала его в починку; старуха взяла плащ, и он не знает, что с ним сталось. Муж предложит послать за старухой, и она берется уладить дело.
Все происходит по указанию старухи. Она просит мужа спасти ее, говоря, что получила плащ для отдачи портному, зашла с ним к жене купца и не знает теперь, где плащ, не в доме ли он купца. Муж заявляет, что именно из-за этого плаща он рассорился с женой, отдает плащ, идет мириться к разгневанной жене, которую умилостивляет подарками.
Нас не может, конечно, не поразить, что опять вопреки категорическому заявлению о неизменяемости w в него внесены частные черты: сводня названа соседкой, ей обещана награда; плащ кладется под подушку; муж ложится отдохнуть; указана продажа плаща; женщина избита; она обещает подарок за исцеление. Ясно, что на самом деле понятие w реально не может получить осуществления, и потому метод, рекомендованный г-ном Бедье, должен быть безусловно отвергнут, как не могущий быть применимым.
Столь же несостоятельна и мнимая экспериментальная его проверка, рассмотреть которую необходимо ввиду указанного уже мною некоторого ее успеха в кругах специалистов. Вот что сделал г-н Бедье.
Один из известных эллинистов, говорит он, при объяснении того, что переписчики рукописей, независимые друг от друга, могут сделать в том же месте ту же ошибку, прибегает к следующему опыту: он предлагает своим студентам списать с одного и того же текста тут же те же пятьдесят строк греческого текста. Сравнивая списки, он находит иногда в том же месте ту же ошибку и объясняет тогда психологические причины этих общих ошибок; аналогичный, как полагает г-н Бедье, опыт производит и он; он взял фабло, выделил из него по своему методу элемент w, который и сообщил разным лицам, озаботившись предварительно установить факт, что рассказ данным лицам совершенно неизвестен. Эти разные лица представили ему разные версии, которые воспроизвели, за исключением одной комбинации, действующих лиц всех исторически известных версий рассказа. Результат, признаться, вполне естественный, ибо если прочесть или пересказать нескольким лицам схему рассказа и попросить их развить эту схему, то они дадут самые различные формы рассказа – истина старая и банальная, отношение которой к вопросу о распространении или заимствовании рассказов или сказок мы совершенно не понимаем.
Действительно, псевдоопыт г-на Бедье со всех точек зрения не выдерживает критики. Прежде всего, установив фиктивную величину на основании данных, как мы уже видели, совершенно субъективных, ибо безусловной границы между «элементом» и второстепенными подробностями провести никогда нельзя, г-н Бедье дал нечто, никогда не принадлежавшее на самом деле ни одному рассказчику избранного им для опыта рассказа; если предположить (как невероятную крайность), что все версии возникли самостоятельно, то ни один из авторов этих версий не имел перед глазами w г-на Бедье; если же, что вероятно, различные версии стоят в известной связи друг с другом, то авторы их имели перед собой тоже не w, а сразу w + a + b + c или другие сочетания мотивов, объединившихся в общий сюжет. Следовательно, опыт с самого начала грешит тем, что создает не существовавшие никогда в жизни условия, и ничем, разумеется, по существу, не похож на вполне научный опыт эллиниста. Далее, г-н Бедье при своем опыте упустил из виду, что он лишил объекты своего испытания одного из важнейших моментов в процессе творчества, момента, часто определяющего форму и, во всяком случае, чрезвычайно на нее влияющего: самостоятельного выбора сюжета. Ведь уже в том, что один автор выберет Lai d'Aristote, а другой – Aubere, сказывается его характер и литературный вкус, которые неминуемо отразятся на его изложении; то, что он выбрал определенную тему, заставит его ценить именно те, а не другие подробности. Отсюда вполне естественно проистекает большое сходство различных версий одного и того же сюжета. Бывает, конечно, что тот же самый сюжет рассматривается с разных точек зрения, например, Lai d'Aristote был принят как предостережение против женского коварства и как доказательство всепобеждающей силы любви, и соответственно тот же сюжет в обоих случаях украсился разными подробностями. Существенны тут вкусы и моды данной литературы, определенного времени, определенной среды, существенно, в такой связи излагается рассказ: мы видели в прошлый раз на примере рассказов о Чанда-Прадьоте, насколько разно строится рассказ в сборнике или в цикле рассказов, или когда он стоит отдельно. Все эти чрезвычайно важные в жизни рассказов моменты отсутствуют совершенно в псевдоопыте г-на Бедье и лишают его потому всякого научного значения. Устранив (как мне кажется, достаточно убедительно) неправильный метод, устанавливаемый г-ном Бедье для сравнения рассказов, перейду к сравнению восточной и западной формы указанными мною приемами.

