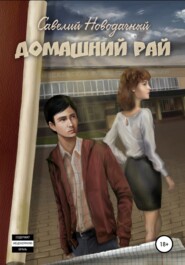скачать книгу бесплатно
– Молодой человек, подойдите-ка сюда, – властно произнес Баронов, и Нахимов покорно поплелся к нему.
Профессор смерил его ястребиным взглядом сверху до низу, задержался на крестообразном паучке пластыря, украшавшего голову студента.
– Вы ведь с первого курса?
– С первого.
– Как вас зовут?
– Александр Нахимов.
– На лицо вас помню, зачет принимал у вашей группы, а вот фамилию забыл. Почему же не на лекции? – Похоже, о промахе Линькова слышал даже далекий от мелких склок Баронов. – Не вас ли видел я сегодня рано утром на Первомайской? Или обознался? – чеканным голосом лектора допрашивал Баронов.
– Меня, – выдохнул, словно пойманный с поличным, Нахимов.
– И…? – профессор замолчал, ожидая дальнейших объяснений, и в его глазах Александр не прочитал никакой враждебности или угрозы, а наоборот, сурового доктора наук, действительно, всерьез заинтересовало, почему студент вместо того, чтобы пребывать на важной для его будущей жизни лекции шляется, как парижский Гаврош, бездельничая, по улицам.
– Я сейчас не могу быть на лекции, у меня неотложные дела.
Баронов нарочито широко открыл рот и выпучил глаза, словно демонстрируя свое безмерное удивление, что у студента могут быть более неотложные дела, чем присутствие на лекции.
– Молодой человек, сейчас вас должны интересовать только лекции и семинары. Посмотрите на эти простые здания, они ничем не отличаются от тысячи других, – такие же кирпичи, окна, кое-где обвалившаяся штукатурка. Не это делает физтех физтехом, а те люди, которые сюда приходят и делятся с вами знаниями. Понимаете, учебный процесс построен по принципу пирамиды, если не заложите основание, то до вершины рискуете и вовсе не добраться, а съехать со скользких граней легче легкого. У воина-самурая главное оружие – меч, он всегда держит его наточенным, а у ученого оружие – мозги, они тоже должны быть всегда острыми и готовыми к бою, нельзя атрофировать то, чем вас наградила природа.
Нахимову стало неудобно, что такой многоуважаемый человек тратит на него свое драгоценное время и решил оправдаться.
– Понимаете, у меня есть дела, связанные со смертью товарища.
– Мои соболезнования, а что с ним случилось, сколько ему было лет? – Баронов тут же смягчил тон, в его голосе прозвучало явное сочувствие.
– Да вы, конечно, знаете про этот случай, это у нас на физтехе произошло.
– Постойте, вы про Семена Весника говорите? Так он был, выходит, вашим товарищем?
– Да, мы из одного города, давно друг друга знали.
Баронов нахмурился, наморщил лоб, в задумчивости поводил рукой по светло-коричневому кожаному сиденью велосипеда, затем сказал:
– Расскажите-ка поподробней. Видите ли, смерть Семена мне тоже показалась очень странной. Я немного знаком с его работами, поскольку сфера его интересов в некоторой степени затрагивала физику низких температур, и твердо был уверен, что в недалеком будущем имя Весника прогремело бы на весь мир. И вот такая досадная, нелепая и необъяснимая смерть. За этим, действительно, что-то кроется.
Нахимов рассказал все профессору Баронову, и об обстоятельствах гибели, и о том, кто был с Семеном в момент смерти, и о пропавшей тетради, и о нападении, даже о Синицыне с его Серыми счел нужным рассказать, хотя до последней секунды колебался, боясь, что его рассказ об инопланетянах встретят с изрядной долей насмешки.
Однако Баронов слушал внимательно и ни разу не усмехнулся.
В это время из огромных дверей Лабораторного корпуса, представляющего собой пятиэтажное здание, сверху напоминающее букву «Е», торопясь, высыпали студенты. Закончилась лекция, и они отправились, кто налево, в сторону главного корпуса, кто направо, к Институтскому переулку. Светло-желтое сталинских времен здание за многие годы претерпело изменения. Студенты спускались по широкой, в пять ступенек, лестнице. Среди них он различил Славика, бережно отставившего перебинтованную руку, старосту их группы черноусого парня Богдана Молокова, извлекающего из помятой пачки «Столичных» сигарету. Следом шла и Виктория в черной юбке и белой блузке под бежевой легкой курточкой.
Они издали заметили Нахимова и стоящего рядом с ним, опершись на велосипед, Баронова, но подойти не решились. Все первокурсники побаивались грозного профессора и предпочли не будить лиха.
Староста Богдан Молоков, очень толковый парень, выпускник восемнадцатой школы-интерната МГУ, несмотря на недюжинные способности, попал под жернова Баронова, сдавая в первом семестре задание по физике. Алексей Вениаминович по своей демократической и отзывчивой натуре согласился подменить приболевшего доцента Каверина, который весь семестр вел у их группы курс общей физики. Надо сказать, что Баронов любил таким образом инспектировать знания новоприбывших студентов. Он даже эмпирически вывел формулу способностей и интеллектуального потенциала учащихся по годам. Из его опыта следовало, что, например, восьмые группы (на физтехе номера групп начинались с последней цифры года поступления, вторая – соответствовала номеру факультета. Например, 853 означала третью группу факультета физической и квантовой электроники, а год поступления – 1978) были суперсильными, следующие девятые – чуть послабее, а нулевые – еще слабей. Затем цикл начинался снова, но с общей тенденцией ослабления потенциала. Причин постепенной деградации способностей и знаний студентов было множество, но главной Баронов считал общую потерю в стране интереса к науке. Какие-то новые вещи и ориентиры привлекали молодежь все больше и больше.
Молокова подвело его высокомерие. Он прекрасно знал весь материал механики, сам решил все задачи из так называемого «задавальника», поэтому настроен был агрессивно и нахально. Пришедшего вместо заболевшего преподавателя скромного невысокого человека он не знал, поэтому сразу же начал демонстрировать свое блестящее знание предмета. Это ужасно не понравилось Баронову, считавшего, что истинного ученого в первую очередь должна отличать скромность. Не желая делать поправку на молодость Молокова, он решил его хорошенько проучить. Дал ему для начала пару стандартных задач, которыми и планировал тестировать знания группы. Богдан небрежно расправился с ними все с тем же гордым и независимым видом. Баронов дал задачку посложнее. Молоков задумался, но решил и ее. Что ж, с хитрым видом Алексей Вениаминович написал на листке студента коротенькое, но, как оказалось, коварное условие задачи. И Молоков завис до конца вечера.
Тем временем остальные студенты с переменным успехом сдали задание. Дольше всех потратил времени Славик Замазкин, у которого ход решения одной из задач остался на черновике.
– Где решение? – поинтересовался Баронов.
– Да вот же, в черновике.
– Как сказал бы уважаемый профессор Тер-Крикоров, вы еще не Пушкин, чтобы я рылся в ваших черновиках.
Но, наконец, и Славик сдал задание. А Молоков пыхтел и пыхтел, то так подбираясь к задаче, то этак.
Теперь уже снисходительно на него поглядывал сам Баронов.
– Никак?
Молоков нехотя сдался.
Баронов со скучающим видом набросал у него на листке пару строк.
– Дальше понятно?
У Богдана отвисла челюсть.
– А разве так можно? Никогда таких трюков раньше не видел.
– Это не трюк, молодой человек, это физика.
Молоков выглядел ошарашенным и пристыженным.
– Ладно, ставлю вам задание. И по-человечески прошу, не будьте фертом. Голова у вас светлая, сечете, по-студенчески говоря.
В аудитории их было лишь двое. На доске остались, как индивидуальные личные памятники, законы Кенига и Кеплера, преобразования Лоренца и эффект Доплера.
– Чем раньше вы поймете, что физику никогда полностью познать нельзя, тем лучше. Это касается любой другой науки. Так уж вселенная устроена.
Молоков нехотя кивнул.
На том и распрощались.
Студенты издалека поприветствовали Нахимова, почтительно поздоровались с Бароновым. Александр проводил взглядом товарищей. Нечто трагичное и страшное, а именно смерть Весника, словно невидимой стеной разделила их. Взгляд Нахимова задержался на худенькой фигурке Вики, следующей наверняка в читальный зал Главного корпуса. Профессор проследил траекторию, по-физически выражаясь, луча, проходящего через глаз студента.
– Красивая девушка, – заметил он. – В женщинах есть тайна, молодой человек. Они ближе к естеству, чем мы. Мужчины для природы – это расходный материал, биохимическое вещество для опытных исследований. Вы знаете, что к младенцам-мальчикам и младенцам-девочкам всегда относятся по-разному? Девочек лелеют, тетешкают, а мальчик растет, как, простите за выражение, сорная трава. Ему ничего не страшно, он везде выживет, в большинстве случаев. Я, конечно, утрирую, но некоторая правда в этих словах имеется. Все-таки иногда я жалею, что физтехам делают такое плотное расписание. Наука наукой, а ведь хочется порой прогуляться, побегать, сходить с девушкой в кино. Но так, видно, повелось еще с тех времен.
Баронов кивнул на Лабораторный корпус.
– Одно из самых первых зданий. Может быть, вы слышали, что Капица специально выбрал для института Долгопрудный. Привлекла его некоторая удаленность города от Москвы. Великий отец-основатель считал, что это не будет отвлекать ученых и студентов от непосредственных занятий наукой, по примеру Кембриджского университетского городка. Он там ведь работал в Кавендишской лаборатории Резерфорда. Так что, не будь Капицы, не было бы и физтеха. Там еще и другие титаны были: Семенов и Ландау. От них на физтехе вольный дух и пошел. Ведь они, черти, никого и ничего не боялись. Только физика – соль, остальное все ноль, от них это тоже. У Ландау даже такая классификация наук была: науки бывают естественные, неестественные и противоестественные. Семенов получил Нобелевскую премию за создание цепных химических реакций. Его теория сыграла грандиозную роль при осуществлении ядерной реакции распада ядер урана. Капица был и великий физик, и великий инженер. Нобелевку он получил за фундаментальные открытия и изобретения в области низких температур, а еще придумал замечательный способ получения кислорода, который до сих пор лежит в основе всей кислородной промышленности. А сделанное Ландау было в Советском Союзе не под силу больше никому. Уникальность его в том, что он знал буквально все разделы физики. Американцы жалели, что в их атомном проекте не было такого человека, который знал бы и ядерную физику, и газодинамику, и гидродинамику. Совсем молодым человеком Ландау внес вклад и в квантовую механику, создав так называемую матрицу плотности, разработал теорию фазовых переходов. Широта его научных взглядов позволила ему придумать замечательный метод, который еще до эпохи ЭВМ произвел революцию в численных методах интегрирования уравнений в частных производных, которые необходимо было сделать для расчета термоядерной «слойки» Сахарова. На логарифмических линейках все расчеты произвели!
– Сахарова? Того самого?
– Да, того самого, – коротко ответил профессор и продолжил:
– Кстати, Капица вызволил Ландау из тюрьмы, но это уже другая история. Уверен, что именно здесь, на физтехе, им рано или поздно поставят памятник…
Баронов помолчал, что-то припоминая, затем продолжил свой невольный экскурс в историю:
– После войны физико-техническому факультету МГУ передали общежитие и учебный корпус, кого бы вы думали? Московского авиационного технологического института. Здесь дирижабли проектировали одно время, но много неудачных исходов было… Бывшее общежитие стало теперь Аудиторным корпусом, учебный – Лабораторным, перед которым мы с вами сейчас и стоим. Война только закончилась, голод, разруха, перед корпусом сорная трава растет, как на пустыре, асфальта нет, весной и осенью все грязь месят. Только в 1958 году асфальт положили. И понемногу пошел расти физтех. Главный корпус, Новый корпус, общежития построили. И это еще не предел, уверяю вас. Я к чему это говорю? Все будет продолжаться, белых пятен в науке хватит и нашим детям, и внукам, и правнукам. А физтех все также будет стоять в авангарде науки. Почему, спросите, физтех? А потому что больше-то и некому. Поэтому я, Нахимов, когда вижу, что студент лодырничает, бездельничает, у меня сердце начинает болеть. Оттого и на лекциях выкладываюсь, а мог бы просто отчитать и домой, своих дел ведь хватает. Нет, ответственность чувствую.
Профессор нисколько не смущался некоторой высокопарности, а говорил с Нахимовым, как с равным, будущим коллегой.
– Я это не к вам отношу, у вас уважительная причина. Мне надо обдумать ваши слова. Держите, прошу вас, со мною связь. Договорились?
Нахимов уже слышал эти слова «договорились?» Но поддержка профессора очень его обрадовала. Значит, он не сошел с ума, не впал в паранойю. О его проблеме теперь знают Ларин, Четвертаков и вот теперь Баронов. Они наверняка что-нибудь придумают.
– Алексей Вениаминович, спасибо за поддержку, я очень вам благодарен.
Баронов улыбнулся.
– Не за что, не за что. Держите со мной связь. Сейчас мне нужно на кафедру. А вы теперь куда?
– Мне надо заехать на базу Семена, забрать документы, вещи, поговорить с его руководителем… Бывшим руководителем…
– Хорошо, до встречи!
– До встречи, Алексей Вениаминович!
Окрыленный Нахимов побежал вдоль Главного корпуса. Не одно поколение физтехов совершило за все время существования института этот путь между учебными корпусами и общежитиями. У всех разные складывались судьбы: кто-то стал доктором, кто-то член-корреспондентом, кто-то академиком, кто-то инженером, конструктором или электронщиком. Были и лауреаты всевозможных премий, и космонавты, и первооткрыватели, даже поэты. Не зря говорили «Если в работе ты используешь мозги, значит, не зря закончил физтех».
Весник мог бы запросто стать даже нобелевским лауреатом. Теперь в Нахимове все больше крепла уверенность, что смерть его отнюдь не была случайной. Но за что зацепиться, где искать причину?
Глава 6
Изучая метод Гамильтона-Якоби-Беллмана, трудно
удержаться от сожаления, что придумал его не ты.
Из лекции на физтехе
Через пару часов на утренней электричке, время от времени прикасаясь к пластырю, проверяя, не сполз ли, ехал Нахимов в Москву со станции Новодачная. И по дороге на станцию и, уже находясь в переполненном, пахнущем одеколоном «Шипр» вагоне, где в отличие от вчерашней поездки, все места оказались заняты, и пассажиры стояли в проходах, встречая знакомых, здоровался, уклоняясь от подробных разъяснений, что стряслось с головой.
Путь его лежал на станцию метро «Сокол», на предприятие «Гранит», «базу» Семена, где он работал наравне с другими сотрудниками и проходил преддипломную практику. Научным руководителем его был Максим Андреевич Колосов, знаменитый в узких кругах, потому что работал в секретном ящике, да и публиковался часто под псевдонимом. Колосов был удивительно разносторонним ученым. Имелись у него труды и в области дифракции волновых полей, и по моделированию физических процессов. Интересы Максима Андреевича затрагивали и смежные области, касающиеся теории информации, математического моделирования и тому подобных вещей. Короче говоря, чем только не занимался талантливый ученый, заставляя формулы и алгоритмы служить делу охраны социалистической родины. Доводилось Нахимову слышать разговоры об отставании советской техники от зарубежной. Совсем уж злые языки говорили и так: «У нас сделали секретные ящики, чтоб американцы не видели, как мы копируем их приборы».
Однако Нахимов знал, что это не так, видя сколько светлых голов работает и на физтехе, и в других столичных предприятиях и организациях. Москва всегда славилась своими кадрами. Может быть, большим упущением являлось то, что такая концентрация умов и сил имелась исключительно в крупных городах: Ленинград, Новосибирск, Красноярск да столицы союзных республик. Все лучшее шло на военные нужды, а вот простому населению доставались крохи с барского стола оборонки, оттого и складывалось впечатление об отставании советской науки и техники. Нахимов помнил, как на лекции по политэкономии зашла об этом речь, и старый профессор воскликнул: «Если бы нашим машиностроением занимались такие ребята, как физтехи, тогда весь мир ездил бы на советских автомобилях, а не на немецких и японских!»
После Окружной стало посвободней, и Нахимов устроился возле окна, по ходу движения, напротив худощавого профессора с оранжевым объемным портфелем на коленях. Профессор, не обращая ни на кого внимания, испещрял формулами лист бумаги, помещенный на темно-синюю твердую папку. Преимущество студентов перед преподавателями в том, что первые знают, как правило, их всех по именам, а последние – нет. Доктор физико-математических наук, профессор Иванков сидящего перед ним юношу совершенно не знал, поскольку лекции и семинары по его предмету, системному анализу, проходили только на четвертом курсе, и не на ФРТК, а на ФУПМ.
Несколько лет назад Павел Юрьевич Иванков являлся деканом факультета управления и прикладной математики. Однако после скандального интервью 1979 года в газете «За науку», органа ректората, парткома, профкома и комитета ВЛКСМ Московского ордена Трудового Красного Знамени физико-технического института, был очень быстро удален с этого поста. Павел Юрьевич имел среди студентов неоднозначную репутацию из-за своих радикальных и совершенно неконформистских взглядов, всегда говорил то, что думал и ни перед кем шапку не ломал. Все отдавали должное его незаурядному таланту и всесторонней эрудиции. На лекциях он иногда отвлекался от основной темы и пускался в исторические, социологические и культурные изыски, чем поражал слушающих его студентов. Многие речи казались крамольными и непривычными, взгляд и на экономику, и на политику был дерзким и несколько даже революционным. Но в достопамятном интервью он не сказал даже сотой доли того, что думал и говорил в приватных беседах, но все равно подвергся остракизму.
Тут Иванков внезапно поднял голову и посмотрел на Нахимова. Красивые синие, и, что поразило Александра больше всего, удивительно добрые глаза, смотрели на него задумчиво. Нет, Павел Юрьевич, видимо, просто задумался и отвлекся, ища вдохновения в атмосфере вагона электрички, наверное, одной из самых интеллектуальных из всех электричек, бороздящих просторы Советского Союза. Иванков снова углубился в записи, продолжив быстро писать крупным угловатым почерком.
Номер «За науку» стоимостью в одну копейку разлетелся мгновенно. Рассказывали, что особо жаждущие готовы были отдать за раритет чуть ли не двадцать пять рублей, такой вызвало ажиотаж интервью. Весник объяснил Нахимову, что руководство института испугал критический настрой высказанного профессором, потому что критика никоим образом не приветствовалась, упрекали за вынос сора из избы. Иванков сокрушенно поведал корреспонденту газеты, пятикурснику, так как номер делали студенты и аспиранты, что энтузиазм времен Капицы и Ландау потерялся, и то, что теперь называется наукой, все более и более превращается в род инженерной деятельности. А ведь наука по определению – это познание ради познания, без прагматического смысла и применения, осуществляемое на конкретном материале. Также ученый указал на случайность подбора преподавательских кадров. Раньше, в былые времена, профессор долго и тщательно растил учеников, выбирая из десятка одного-двух. А теперь вынуждены брать случайных людей, неспособных ни к научной, ни к педагогической практике.
Апофеозом же критически заостренной направленности интервью оказалось то, что Иванков как бы посетовал на недостаточность средств для проживания среднестатистическому ученому, вынужденному для того чтобы иметь возможность «выжить», заниматься хоздоговорными работами. Они, конечно, идут на пользу советскому производству, однако ради них приходится жертвовать наукой как таковой…
Вряд ли Иванков ожидал, что его интервью будет иметь такой оглушительный резонанс. Однако это случилось. Теперь он просто служил профессором на кафедре системного анализа, одновременно работая в Вычислительном Центре АН СССР.
Так что Нахимов во все время поездки поглядывал на свободолюбивого и гордого профессора, ни перед кем не кривящего душой.
Электропоезд фыркнул, подъезжая к Савеловскому вокзалу. Павел Юрьевич энергично собрал листки бумаги, уложил их в пузатый портфель и двинулся к выходу. Чуть помедлив, вслед за ним двинулся и Александр.
Профессор сделал несколько шагов по перрону и затерялся в толпе москвичей…
***
Станция метро «Сокол», куда ехал Нахимов, располагалась на той же зеленой ветке, что и «Каховская», где жили физтехи, только на другом, северном, конце Москвы.
В метро он сел напротив девушки, читающей двадцатый том Золя, «Четвероевангелие». И вдруг, бросив взгляд налево, увидел бывшего студента второго курса Гошу Шеломова. Нахимов был знаком с ним шапочно, знал только, что тот пьянствовал, бегал за девушками и, как результат, оказался отчислен и ушел в армию. Нахимов тут же встал и подошел к нему. Шеломов тоже узнал первокурсника. Вид его переменился, он похудел, осунулся, только римский нос так же горделиво выступал на продолговатом умном лице.
– Какими судьбами, Гоша? – живо поинтересовался Нахимов, никак не ожидавший встретить его именно здесь.
– Да я на побывку, вот к корешу еду на метро «Войковская».
– Как армия?
Шеломов задумался.
– Армия, спору нет, хорошая школа, но лучше ее проходить заочно. Что-то она во мне изменила. В той же оболочке сделался другой человек. Я считаю: каждый должен пройти армию, но все же я не решился бы снова, точнее, не хотел бы снова ее пройти. Я там по технической части, антенны настраивал, новую систему в войсках связи внедряли, поэтому каждый день – экскурсии, майоры с полканами приезжают. Я в Люберцах служу, в Подмосковье. Троим нам за ударный труд дали побывку, мы не хотели оставаться, но майор оставил ночевать, а мы же почти отпускные. Утром медленно встаем: бриться, зубки чистить, старший прапорщик рядом, но ничего не говорит. А потом вызывает командир роты: вас буду готовить на губу! – За что? – Вы были на общем утреннем построении? – Нет. – Вот и пойдете на десять суток. – Так нас же на побывку! – Ничего не знаю! Отправили нас в историческое место на Котельнической набережной. Меня в камеру семнадцать определили, а в тринадцатой, говорят, сидел Гагарин (еще до полета), в двадцать первой – Крупская. К вечеру первого дня думал, не выдержу, до того показалось погано. Нам еще трое суток добавил местный, когда мы слишком медленно вынимали из карманов вещи.
Прикинь, Сашок, в камере – семнадцать человек! Нары без ничего. В центре стол (вот с мой рюкзак). Окошечко микроразмеров с толстыми прутьями, пол деревянный, стены – камень. Надзиратели издеваются по своей же инициативе, служба-то надоедает, и их к тому же поощряет непосредственный начальник. У него простая логика: попал на губу – виноват. Строит по стойке «смирно» и бьет, сваливает иногда с ног физически слабых, а то заставляет строиться «смирно», вися на балке. Или на столе приказывает строиться всем семнадцати. Днем работа с девяти до шести. Однажды повезли на проспект Вернадского, я там договорился с конвойным, позвонил Витьку, он же возле метро «Фрунзенская» живет. Тот подогнал денег на курево, я попросил позвонить домой, сказать, что на выезде. Назад с проспекта ехали – смешно было. Шофёр – дебил, спутал метро «Пролетарская» с Пролетарским районом, два часа кружил. Полчаса над шофером смеялся, полчаса над собой, потом не до смеха стало. Я в армии пить бросил. Можно сказать, переломный момент. Тогда и лычки младшего сержанта снял. Сейчас такое настроение, можно назвать близким к счастью. Вот если б мне дали два месяца так пожить, и, если б это не отразилось на дальнейшем, я б сказал – счастье. Но, когда слишком долго хорошо, – значит, надо беды ждать. Это я знаю. Расслабляться нельзя. В армии бывает целая полоса удач, где должны были наказать, не наказывают, вожжи отпустишь – и сразу беда.
– Ты стал верить в судьбу?
– Нет. Я ни во что не стал верить. Я верю только в то, что через полтора года я должен быть дома. Самое трудное, говорят – последние дни. Иногда слышишь: дали пять лет. Кажется мало, а ведь в армии даже два года кажутся кошмаром. Все это ужасный сон. Ведь и армия тюрьма, в том смысле, что не свободен, собой не распоряжаешься. Такие вот дела, Сашка.
– Мне выходить, – сказал Нахимов, они приближались к станции «Сокол».
– А я на следующей, – флегматично произнес Гоша, и, по-доброму улыбнувшись неожиданному встретившемуся товарищу, попрощался, пожав руку.
Рассказанное Гошей шокировало Нахимова. До своих семнадцати лет он никогда не сталкивался с таким откровенным насилием государства. Ни в семье, ни в школе, ни тем более на физтехе. А вот здесь попавший в лапы озверевших сержантов бедный Шеломов сполна испытал на себе прелести военного быта и гауптвахты. Уж на нем-то розовых очков точно не было. Может, это единичный случай? Он представил, как усмехнулся бы тонко Шеломов при этих словах, и в его умных зеленых глазах появилась бы легкая грусть от такого непонимания жестоких реалий. Островков цивилизации в обществе воистину оставалось все меньше и меньше. На одном полюсе – такой институт, как физтех, в котором тоже, если верить Иванкову, далеко не все гладко, а на другом – жестокие казармы, тюрьмы, где мучают и калечат людей.
Думая о разговоре с Шеломовым, он двигался по Ленинградскому проспекту в сторону центрально-конструкторского бюро «Гранит».
У него появилось странное ощущение, что за ним следят. После случая возле станции Новодачная, где его ударили по голове, он не мог не прислушиваться к своим ощущениям страха и беспокойства. Какая-то невидимая тень витала над ним. Такого раньше никогда не было. Несколько раз он оборачивался, но ничего подозрительного за спиной не было. Совсем юная женщина в светлом плаще толкала перед собой коляску, в магазин «Дары океана» спешили измученные столичной суетой москвичи, в подземный переход метрополитена живой змейкой стекала людская толпа, словом, все, как всегда, все, как обычно. Но что-то начинало давить.
У выхода из метро «Сокол» Нахимов вынул из кошелька двухкопеечную монетку и позвонил на домашний телефон Максима Андреевича Колосова. Тот проживал недалеко от «Гранита». Многие москвичи идут на многоходовые комбинации обменов квартир, чтоб оказаться поближе к месту работы. Зато очень удобно. Не надо тратить уйму времени, пиля с одного конца огромного мегаполиса на другой. Договорились встретиться в кафе недалеко от метро. Максим Андреевич пояснил, что сейчас холостякует: жена уехала в длительную командировку. В кафе и поговорим, мол.
В ожидании Колосова Александр присел на скамейке возле парка и наблюдал за людьми. Пожилой мужчина в красных спортивных трусах и оранжевой футболке с черными полосами быстро прокатил на велосипеде. Прохожие медленно прогуливались, пользуясь благодатной весенней погодой. По-хозяйски ведущие себя упитанные голуби затевали брачные игры на зеленом треугольнике газона. К скамейке, где сидел Нахимов, еще не старая бабушка в легком плаще и зеленых босоножках подкатила шикарную большую коляску с подвешенной к изголовью гирляндой погремушек. Она извлекла плачущего младенца и осмотрела. Оказывается, тот описал ползунки. «Так вот зачем ты просился на руки! Что ты наделал, глупышок?!» – добродушно ворчала бабушка, ласково глядя в глаза недовольного малыша и меняя ему ползунки.
В редкой толпе проходящих москвичей Нахимов сразу узнал Колосова. Высокий мужчина в добротном темно-синем костюме, белой рубашке с гармонично подобранным галстуком, лакированных туфлях шел уверенно и неторопливо. Начавшие седеть волосы уложены в красивую прическу, на породистом крупном носу элегантные очки в серой оправе, волевой тяжелый подбородок указывал на лидерские качества его обладателя.