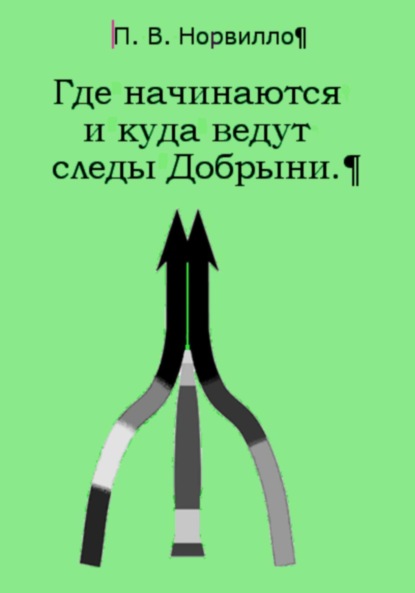
Полная версия:
Где начинаются и куда ведут следы Добрыни
3) Главная часть национального дохода производится свободными тружениками, но патриархальное временное рабство уже сменилось рабством постоянным. Сверх того, выясняется, что подневольную работу могут выполнять не только пленённые чужеземцы, но и, например, задолжавшие земляки. И таким образом, всё очевиднее (а для многих ещё и очень соблазнительной) становится возможность без какой-либо компенсации отчуждать в свою пользу труд не только иноплеменников, но также и сородичей.
4) Происхождение пока ещё не теряет своего значения, но постепенно при определении принадлежности человека всё большей становится роль основной территории проживания и подданства.
И кто знает, к чему привело бы саморазвитие территориально-племенных славянских сообществ*, если бы в IX веке их плавная эволюция в сторону феодализма не прервалась, а примерное равновесие между патриархально-родовыми и сословно-политическими элементами жизни не было резко нарушено в пользу последних. Речь, конечно же, идёт о варяжской узурпации.
Ведь даже после захвата новгородского престола классическое порабощение северных словен для варягов исключалось просто по численному соотношению между ними. Да и в принципе перспектива организовывать – подобно тем же древним грекам и римлянам – деятельность больших масс людей не особо увлекала вольных бродяг Балтики. Куда больше по душе им был незатейливый грабёж (лучше звонкой монетой, но можно и натурой) в духе больших морских дорог. Так что соратники Рюрика даже в мыслях не замахивались на какую-то перестройку традиционных славянских промыслов, нацеливая свои реформаторские аппетиты исключительно в сферу распределения.
А с этой точки зрения для удачливых заговорщиков открывалось два пути: то ли сразу “хапнуть куш” отступного и убраться восвояси; то ли попытать счастья в деле единовременно менее масштабного, но зато систематического и бессрочного ограбления новгородцев, заставив их, яко побеждённых, платить не дань-откуп за море, а увеличенную дань-контрибуцию на месте. Однако даже эту меру находники не могли провести только своими силами, не рискуя затеряться на просторах Новгородчины и раствориться в массе местного населения. Стать во главе славянского государства и заставить работать на себя административную вертикаль, служившую прежним князьям, пиратский атаман мог, только найдя достаточное число влиятельных, а значит, по нормам того времени, знатных “аборигенов”, изнутри знакомых с порядком управления Новгородской землёй и готовых за умеренную мзду поддержать новый режим.
И такие люди нашлись, как без особых сложностей находились они и при всех последующих узурпациях и оккупациях. Потому что традиции верности своему роду-племени, продолжая соблюдаться по внешности, в существе своём были уже в значительной степени подорваны и изжиты, и для многих бояр получаемые “кормы” давно стали ближе и милее, нежели какой-то там национальный суверенитет, если приверженность ему тормозит рост их личных доходов. Так что когда факт государственного переворота поставил местную знать перед выбором: либо собирать, как и прежде, традиционные князевы “уроки” плюс контрибуцию в пользу варягов или же поднимать народ на борьбу с узурпатором и пытаться с одним ополчением одолеть закалённую в боях варяжскую дружину, – то перед лицом такой перспективы лишь меньшая часть новгородского боярства безоговорочно отказалась подчиняться самозванцу.
Со своей стороны новоявленный Рюрик, стараясь создать дополнительные поводы для колебаний в рядах словен и тем укрепить собственные позиции, скорее всего, не скупился на всякого рода жесты и встречные шаги процедурно-идеологического свойства. В частности, добившись от новгородцев твёрдого – на уровне закона – признания особого статуса для себя, своих потомков и свиты, в остальном свежеиспечённый князь вполне мог подтвердить действие прежней системы правосудия и тех её вершителей на местах, кто признал переворот. А также, как нормальный грабитель, не желающий ни с кем делиться добычей, наверняка заверил подданных в своей готовности всеми имеющимися силами защищать страну от других врагов. Наконец, заключил с Хорсом Новгородским договор о взаимном признании и сотрудничестве и сохранил, а может, и усугубил привилегии служителей культа. (Но вряд ли принял местный религиозный обычай в полном объёме, так как сын Рюрика получает чисто варяжское имя.) И всё же главное, что обратило к захватчику сердца бояр, уже давно точивших зубы на крестьянский зажиток, так это требование увеличить поборы плюс разрешение – естественно, в известных пределах – при сборе на местах “ненавистной варяжской дани” выгадывать кое-что и в свой карман.
Что же до главной проигравшей стороны – крестьян, то неотъемлемой чертой жизни этого класса является территориальная рассеянность и вытекающие из неё местная ограниченность и глобальная разобщённость. Поэтому во все времена восстания работавших на земле начинали серьёзно угрожать режиму лишь тогда, когда за их организацию брались какие-либо сторонние и свободные от жёсткой местечковой привязки активисты*. Чисто же крестьянские протесты редко когда захватывали больше нескольких соседних селений и обычно пресекались властями одной лишь угрозой применения силы. Так что когда мятеж наёмников снёс столичную верхушку прежнего фискально-распорядительного аппарата Новгородской земли, а из представителей местных звеньев этого аппарата большинство отказалось стать в ряды антиваряжского сопротивления, это сразу лишило решавшихся на бой жителей глубинки – а такие, наверное, всё-таки находились, – самых призрачных шансов на успех.
С другой стороны, достигнутый к середине IX века уровень производства позволял новгородским смердам сравнительно безболезненно увеличить размер государственных поборов. Что опять-таки побуждало предпочесть откуп от пиратов кровопролитию в безнадёжной ситуации. И в конечном счёте все эти предпосылки и соображения привели к тому, что сторонники активного сопротивления оказались в трагическом меньшинстве и были частью уничтожены, частью бежали на юг, как о том говорится в некоторых летописях. А места бояр-патриотов заняли верные прихвостни новой власти, чем и завершилось варяжское приручение новгородского государства.
В целом ту же операцию – снос и замещение макушки при сохранении основания административной пирамиды – провели варяги и в Полянской земле. С той только разницей, что выяснение отношений и разграничение сфер влияния с полянскими боярством и жречеством совершилось ещё быстрее и прошло более гладко, чем в Новгороде.
Ибо 20-летний опыт не просто подтвердил жизнеспособность, но и позволил варягам доработать весь механизм мобилизации коллаборантов. Свою роль играло и то, что преемник Рюрика шёл к Киеву не безродным бродягой, а уже в ранге признанного князя богатой северной земли. Так что идея “украсть сто рублей и сбежать” у Олега вообще не возникала – он изначально нацеливался на расширение подвластной ему территории, а экономические выгоды играли роль скорее приятного бонуса к решению главной политической задачи. Поэтому, переподчиняя себе народы, бывшие данниками Киева или хазар, убийца Оскольда особо не жадничал и сохранял прежние нормы государевых сборов, сводя к минимуму неудобства плательщиков от смены получателя платежей и связанные с этим поводы для конфликтов. И только по прошествии времени и по мере упрочения позиций варягов дани могли увеличиваться.
Ещё раз подчеркну: необходимым условием, материально-технической базой всех описываемых процессов являлась устойчиво возраставшая эффективность земледельческого и ремесленного труда. Без этого варягам было бы просто нечем покупать лояльность славянских госслужащих среднего звена, да ещё так, чтобы остальное население не ощутило резкого ухудшения своего положения и сравнительно спокойно наблюдало за переменами на княжеских столах.
В связи с чем приходится признать, что не одно лишь варяжское нашествие погубило традиционных славянских князей. Внутри страны этому немало поспособствовала как раз их традиционность, их верность родо-племенному уравнительному гуманизму, наследниками которого были Гостомысл, Водим, Оскольд и “неизвестные” летописи вожди кривичей, северян, уличей и иных покорённых варягами племён. Верность, продолжавшая существовать в обстановке повышения национального благосостояния и роста алчности их знатных и высокопоставленных “помощников”.
Когда бы, скажем, новгородские князья санкционировали доведение поборов с трудящихся до максимально возможных пределов, и варягам было бы уже нечего к этому добавить, то “за те же деньги” местное боярство едва ли стало долго терпеть чужеземцев и нашло бы способ покончить с их предводителем и так или иначе нейтрализовать рядовых находников (например, оформив их за подобающее жалованье на службу к сколь угодно далёкому родичу прежнего князя). Но поскольку единоплеменные правители не только не поощряли, но, напротив, ссылаясь на традиции, ограничивали притязания бояр, постольку боярская оппозиция традиционным способам перераспределения национального богатства нуждалась лишь в поводе, чтобы принять форму открытой измены традиционной княжеской власти.
Стоит также отметить, что сумма, на которую подати, установленные новым правительством, превышали объём средств, реально необходимых для содержания госаппарата, могла лишь казаться контрибуцией, выплачиваемой побеждённым народом своим завоевателям. Ведь, получив её, варяги никуда не девались, а оставались не просто на той же территории, но ещё и на вершине административной вертикали. В таких условиях дополнительная дань, с точки зрения формального права, оборачивалась ничем иным, как чисто феодальным оброком, выплачиваемым населением носителям публичной власти и главным образом в силу внеэкономического принуждения к таким выплатам.
Ясно, что откровенно произвольный характер данного платежа уже сам по себе резко противопоставлял плательщиков получателям. Но, сверх того, варяги, убедившись в отсутствии массовых протестов по поводу первого приращения дани и рассудив, что аппетит приходит во время еды, через какое-то время повысили её ещё раз, а потом и ещё, и ещё (образная память об этом сохранилась в исторической притче “Юрик-новосёл”; см. Приложение 1). Пока, наконец, новоявленный оброк, съев все излишки, не вдвинулся в необходимые жизненные средства трудового люда. После чего крестьяне и ремесленники волей-неволей были вынуждены активизировать выступления в защиту самого своего существования и против утративших разумность притязаний государства. А сторонники обеспеченной жизни за чужой счёт вместо того, чтобы уступить, предпочли “всей силой”, включая силу оружия, выступить в защиту “неотъемлемого права” монарха по своей воле распоряжаться “животами” подданных, начиная с их имущества и кончая собственно жизнями.
Основную нагрузку в реализующих такую защиту-нападение показательных расправах брали на себя варяги, но тянулись за ними и знатные местные бояре со своими отрядами. Потому что, с одной стороны, иметь рядом с собой превосходящие их по силе славянские вооружённые формирования пришельцы вряд ли желали, так что чисто военный вклад привлечённых “полицаев” был сравнительно невелик. Но, с другой стороны, во все времена подружившийся с оккупантами/колонизаторами сам начинал восприниматься как враг независимо от размера его реального участия в подавлении соотечественников. С учётом этого находники не упускали случая продемонстрировать причастность к своим грязным делам тех или иных пользующихся известностью местных деятелей именно ради появления на них клейма “пособников режима”, а уже во вторую очередь – ради экономии собственных сил и средств.
В свою очередь, приглашавшиеся помочь новой власти вряд ли нуждались в долгих уговорах. Потому что те, кто был по-настоящему против узурпаторов, с самого начала выбрали смерть в бою или изгнание. Тогда как оставшиеся самим этим фактом показывали, что они не настроены бросать всё ради продолжения борьбы в крайне сложных условиях и, как минимум, готовы прежде посмотреть, куда повернуться дела при варяжском правлении.
Не будем также забывать, что речь идёт о временах, когда само понятие права в немалой степени сближалось с силой как практической возможностью обеспечить определённый порядок действий для себя и других (ср., напр., кулачное право). Отсюда чья-либо способность удержаться на троне в течение хотя бы нескольких лет после свержения прежнего государя – особенно при наличии внешних угроз – начинала восприниматься как явление, закономерное не только в организационно-техническом, но отчасти также в юридическом смысле. Так что, поскольку внешнюю безопасность своей державы варяжские князья обеспечивали ревностно и вполне надёжно, то служба им, по крайней мере с этой точки зрения, могла представляться как следование национальному долгу, воинской дисциплине и т. п., а вовсе не как предательство.
На таком фоне государственные уполномоченные низового звена, особенно служившие в глубинке, могли, почти не кривя душой, подавать себя как жертвы обстоятельств наравне со всей страной. Дескать, куда деваться, коли наверху всё так сложилось, и не лучше ли, если нашу округу будет представлять перед столицей кто-то свой, нежели присланный чужак, от которого неизвестно, чего ждать*?.. И пока захватчики только знакомились с доставшейся им добычей, ситуация на местах могла оставаться очень похожей на прежние времена, когда у госслужащих и рядовых граждан не возникало даже мимолётных поводов задумываться о том, на какой стороне баррикад они выступают.
Общий же итог получается такой, что варяги, как захватчики львиной доли выросших платежей и главная сила, вынуждающая простых славян подчиняться, действительно “сумели” придать страстям вокруг государевых податей сильнейший национальный привкус. Однако кто бы и что бы ни думал по этому поводу, над всеми трактовками и толкованиями происходящего неоспоримо господствовал тот факт, что вооружённые силы страны, включая их славянскую часть, помимо действий на внешних фронтах отныне готовились ещё и к устрашению и подавлению внутренних противников политики великого князя. И хотя, повторимся, роль коллаборационистов в функционировании новой власти была исключительно подчинённой, это ничуть не умаляло исторического значения происходящего – законной целью для оружия в руках славян-госслужащих становятся в том числе славяне-подданные! Знаменуя тем самым превращение государства в соучастника гражданских конфликтов, то есть, по определению, завершение патриархального этапа его существования.
Так что если тезис о варягах – создателях русской государственности и имеет какой-то смысл, то лишь тот, что прорыв к власти балтийских пиратов резко ускорил становление классово-карательной ипостаси у давно сложившегося фискально-распорядительного аппарата славянских стран-земель. Возможным же такой поворот стал ровно потому, что предпосылки для окончательного оформления в славянских княжествах наряду с “внешней” также и “внутренней” политики достигли весьма высокого уровня зрелости. И узурпаторы явились в момент, когда, казалось бы, прояви они хоть малую толику государственной мудрости и удержись в тех пределах эксплуатации, условия для которых были налицо, и их “володение” было бы тихим и безмятежным на долгие времена.
Но законы истории едины для всех. Поэтому и в X веке на Руси для захвата отечественным боярством хотя бы тех плодов узурпации, которые тогда были вполне зрелы для сбора их, необходимо было завести феодализацию общества значительно дальше такой цели. Вполне очевидно также, что сами варяги и в мыслях не имели стать слепым орудием реализации универсальных принципов общественного развития, а просто следовали за обычной для профессиональных грабителей жаждой наживы. Тем не менее как раз из-за своей бесцеремонности пришельцы оказались на высоте доставшейся им исторической миссии, а выполнив её, ушли, как и подобает мавру, который сделал своё дело.
Ну а то, что сей уход совершился не “по-английски”, а больше напоминал выдворение из кабака настырного, но некредитоспособного клиента, и не обошлось без “битья посуды”, является лишь вопросом формы, ничего не меняющим в существе дела. Что же касается деталей и подробностей, то тут-то мы и подходим вплотную к тому клубку процессов и интересов, который Мал, Ольга и их потомки, взявшие на себя в этой истории роль главных вышибал, с переменным успехом пытались распутать в течение многих лет.
Итак, в Х веке по ходу правления Игоря алчность варягов и их подручных привела к тому, что налоговые пожелания государства стали ущемлять насущнейшие жизненные интересы простых славян. На что те, как это обычно бывает, сначала занялись поиском лазеек, позволяющих уклониться от новых платежей, а затем стали постепенно переходить к более активным методам противодействия столь явному разбою и его носителям. В свой черёд князья-варяги (помимо Киева более или менее самостоятельные правители, напомню, имелись ещё в Полоцке и Турове), столкнувшись с недостаточно быстрым, по их мнению, ростом госдоходов, усилили давление на сборщиков “даней”, требуя от них такого же усиления давления на плательщиков. И в итоге местные власти (состоявшие преимущественно из славян) оказались между двух огней: прямо перед собой они имели людей, доведённых до грани, за которой следует взрыв, а в спину их толкали окрики из столицы с требованиями всё новых поступлений.
Причём центр угрожал служебными санкциями, а крестьяне – физической расправой. При таком выборе местные исполнители, решив, что лучше всё же потерять “работу”, чем голову, явочным порядком затормозили разрушение остатков благополучия трудящихся и стали потихоньку саботировать фискальные затеи киевcкого двора. Тогда последний и впрямь начал тасовать местные кадры, а когда и это не дало желаемого результата, изъявил желание пополнить казну за счёт урезания теперь уже боярских кормов. Что по сути выдвигало на повестку дня вопрос о превращении бояр из самовластцев местного масштаба в совсем уж простых чиновников на окладе. Но для Х века это был явный перебор, в чём и пришлось убедиться сыну Рюрика и иже с ним.
Потому что, ощутив себя между жерновами столичной власти и утративших податливость податных сословий, уездные аристократы дружно сообразили, что сохранение такого положения в полном смысле сотрёт их в порошок и устранит из внутриполитической жизни страны*. И поневоле стали задумываться о том, что князь мог бы быть и полиберальнее и с меньшими запросами. Разумеется, это была весьма умеренная оппозиция варяжскому диктату, и если бы она была предоставлена самой себе, то трудно сказать, когда и на что осмелились бы её представители. Но зато когда вмешательством других сил задача устранения главного деспота была решена и развернулась борьба за изменение либо сохранение прежнего курса, то именно поддержка управленцев местного звена сыграла ключевую роль в успехе первых либеральных шагов правительства Ольги. Каковой успех, дополненный умиротворением древлян, позволил матери Святослава твёрдо встать у руля, несмотря на все происки “волчьей” партии.
Вполне возможно, что всех событий и стимулов, побудивших Ольгу занять ту позицию, которую она заняла, не знали даже её современники и ближайшие союзники. А нам и подавно не дано их узнать. Но главные причины, по которым жена Игоря пошла наперекор политике мужа и самой оголтелой части варягов, и через тысячу лет предельно очевидны. Это, во-первых, воспитание и общий строй взглядов, усвоенные в семье регионального, но достаточно важного варяжского функционера, чуждого экстремизма и смотревшего на происходящее с подлинно державной точки зрения. Во-вторых, естественная забота матери о судьбе сына и более отдалённых потомков, каковая забота в условиях критического падения популярности режима превращалась в тревожное опасение и страстное желание предотвратить надвигающуюся катастрофу*.
При этом по поводу стратегии никаких вариантов, а значит, и сомнений у Ольги быть не могло. Раз признаётся, что к крайне опасному для варяжской династии состоянию, когда раскол между государством и обществом стал проникать уже внутрь правящих кругов, привела политика безудержного грабежа, то отсюда само собой следует, что для укрепления олицетворяемой Святославом княжеской власти необходимо сокращать объём повинностей и упорядочивать их взимание. Но стратегия она и есть стратегия, и чтобы не сесть в лужу с самой что ни на есть рациональной общей идеей, требуется воплотить её в столь же рациональную тактику. А тут было над чем поломать голову.
В самом деле, объявить о чисто символическом снижении податей, фактически оставляя ограбленных в их нынешнем положении – это значило бы не унять, а лишь дополнительно подхлестнуть возмущение и без того уже практически восставших подданных славянской федерации. Обеспечить Киеву более-менее надёжный тыл по ходу войны с древлянами могли только по-настоящему ощутимые уступки на внутреннем налоговом фронте. В то же время, предполагая пересмотреть цели и методы управления страной, Ольга ничуть не собиралась полностью отказываться от тех прерогатив и того уровня самодержавности, какими обладала княжеская власть при её муже. А власти без материального обеспечения не бывает. И при разработке налоговой реформы задача максимально оградить княжеские доходы стояла перед Ольгой ничуть не менее остро, чем задача успокоить массы рядовых плательщиков.
Ограничить потери казны можно было, снизив подати отчасти за счёт бояр. То есть реализовав планы Игоря в отношении администраторов среднего звена, но с той разницей, что новое правительство урезало бы боярское довольствие в пользу крестьян, а не князя. Дескать, не поделим беду на всех сейчас, тогда вскорости вместе пропадём, и делить останется разве что землю на кладбище.
И на словах против этого в условиях острого кризиса было трудно что-то возразить. На деле же приходилось помнить, что от официальных помощников трона и впрямь многое зависит, и что боярство уже показало себя способным содействовать госперевороту ради ожидаемой “прибавки к жалованию”. Так что, затрагивая фактические доходы землевладельцев, Ольге тем более стоило проявлять осмотрительность и учитывать самые разные возможности, вплоть до попыток полянских союзников, если они сочтут себя чрезмерно обиженными, договориться за её спиной с древлянами. (Так, напомню, поступят киевские бояре с Ярополком, а сын Мала пойдёт на сделку, дабы поскорее покончить с князем-волком и освободить киевский престол для древлянского князя.)
Наконец, нельзя было упускать из виду и различия внутри самого боярства. Ибо как раз держатели дальних мелких и средних вотчин, будучи противниками засилья столичных магнатов, перекрывавших провинциалам пути наверх, могли стать полезными партнёрами монархии в её борьбе с попытками крупнейших землевладельцев поставить государство под свой контроль. В связи с чем политически более грамотным ходом становилось перенесение главной тяжести совокупных финансовых уступок боярства на высшую аристократию и за счет этого относительно меньшее “обездоливание” второразрядных вотчинников. Хотя организационно и психологически действовать против своего ближайшего столичного окружения центральной власти, конечно же, было намного сложнее, чем принимать решения, ущемляющие рассеянных по стране ординарных вассалов короны.
Задача увязывания столь противоречивых условий и запросов в единую и сколько-нибудь устойчивую систему даже с высоты опыта ХХ века не выглядит простой*. И тем не менее, судя по стабильности, коей отмечено правление Ольги, задача была успешно решена. Правда, при всей очевидности того генерального направления, в котором должен был готовить свои предложения “теневой кабинет” матери единственного наследника, установить в деталях, какую роль в подготовке искомой системы сыграла лично Ольга, а какую – её помощники и соратники, вряд ли когда-нибудь удастся. Поэтому здесь, пожалуй, самое время прервать рассуждения “за Ольгу” и посмотреть, что же могла предложить для решения указанной проблемы древлянская школа политической мысли.
А в этой связи прежде всего хочется отметить, что мысль теоретика-одиночки подчас может довольно далеко вырываться из пределов непосредственно воспринимаемого. Но массовому сознанию прививаются только идеи, находящие зримое и осязаемое подтверждение в повседневной практике. В нашем случае это означает, что для того, чтобы в 945 году древлянские представители могли как нечто для них самих вполне очевидное развивать перед Ольгой тезис о роли главы государства как стража народных интересов, весь древлянский народ должен был прежде столкнуться с чем-то подобным в реальной жизни. Причём столкнуться не вчера и даже не год назад. Чтобы достаточно свыкнуться с такой государственной идеологией, древлянское общество должно было наблюдать и испытывать на себе соответствующие практические воздействия национальной администрации по меньшей мере несколько последних поколений.



