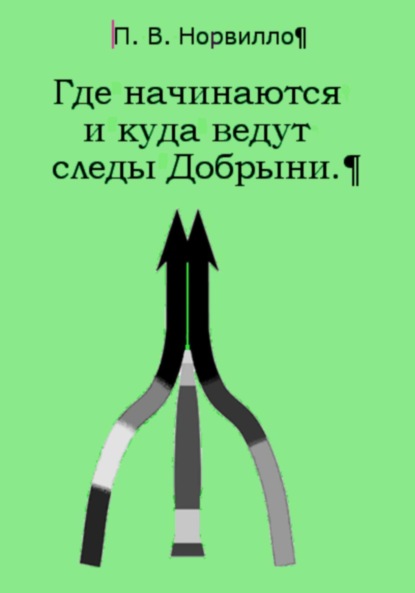
Полная версия:
Где начинаются и куда ведут следы Добрыни
Вот примерно такая история (естественно, без раскрытия всех её закулисных составляющих) сохранялась в государственных анналах, восходивших к временам Ольги и Святослава. Поэтому, когда по прошествии без малого ста лет перед придворным летописцем была поставлена задача, взяв за основу подлинные известия о случившемся в 945 году, препарировать их в более-менее стройную апологию жёсткой антидревлянской позиции Ольги, сделать это оказалось не так уж и трудно. Как-никак с тех пор сменилось не одно поколение, а энергичное феодальное развитие плюс христианизация Руси во многом сузили, а где-то вовсе свели на нет базу для проявления тех норм и обычаев, что регулировали мысли и дела участников обсуждаемых событий.
Возьмём хотя бы такой момент: опыт всех народов, ступивших на путь имущественного расслоения и формирования публичной власти, показывает, что неравенство прижизненных общественных статусов людей всегда и везде начинает сказываться также на обращении с ними после смерти. Потому что доходы рядовых граждан просто физически не позволяли устроить похороны той пышности, что доставалась представителям аристократии, не говоря уже о вождях. Так что и на Руси погребение в ладье явно было не общей нормой, но привилегией обладателей определённого ранга и богатства. То есть прежде всего высшей служилой знати, представители которой после 988 года будут обязаны принять крещение под угрозой объявления изменниками и врагами государства. Отсюда уже тем, кто родился в XI веке, будь то аристократы или простолюдины, не случалось воочию наблюдать похороны в ладье, и о правилах этого обряда они могли лишь услышать от стариков. На таком фоне правильно интерпретировать сообщения летописи о случившемся в середине Х века могли разве что особо подготовленные и критически мыслящие люди, а для всех остальных разглядеть даже самые грубые передёргивания княжеских фальсификаторов становилось делом крайне сложным или вовсе непосильным.
О чём говорит летопись. Начнём сначала: Мал предлагал жениться на Ольге? Да, предлагал. Так чего же лучше! Это ведь только для патриархального родича очевидно, что женитьба на вдове есть один из способов улаживания кровного конфликта. А для поданного феодального государства и правоверного христианина предложение руки и сердца жене человека, которого сам же и убил, суть поступок предельно наглый и циничный. Так что если приписать Ольге убийство официальной иностранной делегации было не совсем удобно, то стоит лишь не напоминать подзабывшему древние обычаи читателю, что в данном случае в роли сватов выступали мирные парламентёры, и он сам подтвердит, что бесчестных людишек, лезущих в шаферы, не дожидаясь даже, пока высохнет кровь у них на руках, и впрямь не грех спустить с лестницы.
Идём дальше: кремация и погребение праха древлян в ладье состоялись по указанию Ольги? Именно так, давний киевский летописец почему-то даже находит нужным подчеркнуть особую личную заинтересованность великой княгини в этом деле. Просто прекрасно! Остаётся лишь умолчать, что жгли и закапывали уже мёртвых, и дело в шляпе. Впрочем, нет, пока ещё не совсем. Ибо получается, будто различные уничтожающие манипуляции обрушились на одно и то же посольство, будто одних и тех же людей убивали дважды, что довольно странно. Ну, да и это не беда: ведь из той же летописи явствует, что древляне дважды слали в Киев своих представителей. Следовательно, требуется ещё, для пущего правдоподобия, равномерно разделить кремацию и погребение между двумя различными посольствами, и фальшь всей конструкции становится несколько менее кричащей, а Ольга к тому же получает возможность побыть дважды жестокой.
Что же до заключительного инцидента, то тут и вовсе всё просто. Конечно, по замыслу организаторов провокации, вернувшиеся с тризны по Игорю должны были выглядеть прежде всего жертвами, тяжко и невинно пострадавшими от “гнусных древлян”. Тем не менее уже в их первых рассказах прорывались реплики в том плане, что, мол, хотя они на нас и напали, но мы им тоже дали. Ведь, как и положено в тайных операциях, в истинный смысл происходящего были посвящены 3-5 человек, а прочие участники были втянуты в схватку совершенно неожиданно для себя и принимали всё за чистую монету.
А по мере отдаления от тех времён и под влиянием присущего людям стремления приукрасить своё прошлое мотив о собственных “постраданиях” киевских посланцев всё более слабел, пока совсем не затих. А мотив “мы им тоже дали” всё более усиливался, пока наконец не утратил вставку “тоже” и не зазвучали “воспоминания” исключительно о том, как “мы им дали”. Как уже отмечалось, свою роль в этом сыграла и вмешавшаяся в драку древлянская стража, которая применяла против варягов только защитные приёмы, так что в общем балансе хозяевам действительно досталось больше, чем гостям. Отсюда нашему редактору истории, дабы сблизить летопись с устными преданиями и потешить своего заказчика, оставалось лишь опустить упоминание о тризне в Киеве, вставить в рассказ об избиении древлян на тризне по Игорю цифру посолиднее и приписать инициативу погрома находившейся там Ольге (которая на самом деле не имела к этому никакого отношения, если не считать того, что провокация была направлена в том числе против её попыток остудить страсти и уладить конфликт преимущественно политическими средствами).
Конечно, начисто зашлифовать все накладки и нестыковки не удаётся, и плоды столь творческого подхода к летописанию продолжают вызывать много вопросов. Например, зачем вообще понадобилось Ольге играть в переговоры и делать вид, что она вроде бы не прочь выйти замуж за Мала? Уж если в Киеве умом и удалью кратно превосходили древлян, то почему тогда тамошняя “русь” не пошла громить простодушных соседей сразу вслед за убийством Игоря, а выжидала с этим до следующего года? И так далее. Но теперь мы совершенно точно знаем, что дело здесь не в глупости древлян, полян или кого-то ещё. Напротив, все главные участники тех событий, включая варягов, действовали по-своему очень логично и последовательно.
Равным образом и киевский хронист, отряженный переписать их историю, фантазировал не от широты души, как слагатели былин, а по чёткому плану. Причём в своих “авторских находках” он старался по максимуму использовать наиболее яркие элементы реальности, о которых его современники “где-то что-то слышали” и на их отсутствие в рассказе могли обратить внимание. И вот это-то наличие строго выдерживаемой линии как в исходных маневрах сражавшихся сторон, так и в последующих попытках переврать происходившее, как раз и позволяет восстановить и проследить по крайней мере основные сюжетные линии эпопеи 945-946 годов. Чем мы, собственно, и занимаемся.
Мал: Итак, испробованы все средства, предложены разные способы закрыть конфликт и тем не менее это не удалось. Мелкая драка, подстроенная варягами на тризне по Игорю, показала, что без большой схватки они не угомонятся, и что, следовательно, Древлянской земле предстоит интервенция. А стало быть, пришла пора от общих рассуждений о полезности опыта 914 года переходить к практическим шагам по выводу страны из войны с минимумом человеческих, экономических и политических потерь. Хотя, конечно, при одинаковой стратегической цели главе древлян из тех времён в тактическом плане было всё-таки несколько проще – ему не пришлось заходить так далеко и возвращаться было куда ближе, чем теперь его наследнику.
Нет, Мал ничуть не раскаивается в казни Игоря – объявив войну древлянскому народу, князь-волк сам выбрал свою участь*. Просто надо реально смотреть на вещи и готовиться к тому, что удовольствие покончить с сыном Рюрика может обойтись дороже, чем отказ платить ему Олегову дань.
Впрочем, дороговизна тоже вещь относительная. За 30 лет экономический уровень Древлянской земли, тщательно маскируемый от Киева, вырос больше, нежели даже аппетиты тамошних волков. Так что в размере дани (само собой, сначала поторговавшись) можно сравнительно безболезненно прибавить. Сложнее обстоит дело с политическим отношением Коростеня к Киеву, ибо для обладателей полного суверенитета любая степень зависимости есть провал, который не измерить никакими деньгами. Однако, с другой стороны, отсутствие всяких прав на Древлянскую землю является исходной позицией и для преемников старого Рюриковича, и это отчасти упрощает задачу насыщения их аппетитов. Потому что те, у кого ничего нет, могут на законном основании считать и выставлять себя победителями, заполучив в итоге хоть что-нибудь.
Да, сейчас в Киеве хорохорятся и пытаются убедить друг друга, что перед объединёнными волчьими силами древлянам не устоять и поляно-варяжская рать непременно восстановит положение, а может, даже сумеет вернуть всё к Олеговым временам. Причём известную роль в формировании таких ожиданий сыграли сами древляне. Для тех, кто мыслит только в логике войны, отсутствие нападения на Киев и настойчивые попытки договориться стали поводом думать, что дружина Игоря хоть и полегла, но перед тем успела нанести вражескому войску потери, подобающие её квалификации. Так что, помимо призывов к “справедливому возмездию”, киевские любители повоевать аргументируют свою позицию тем, что “древлянский зверь” хотя и жив, но тяжело ранен, и именно поэтому надо добить его как можно быстрее, пока он вновь не набрал силу.
Отсюда на данном этапе конфликта ближайшей задачей становится избавление врага от пустых фантазий на тему соотношения сил. Иначе говоря, надо показать, что победа над Игорем далась древлянам вовсе не так трудно, как кому-то хотелось бы, и мира они искали не от слабости. После чего, воочию убедившись, что фронт перед ними держит полностью боеспособная армия, и что одним лишь военным давлением привести древлян к лояльности быстро уж точно не получится, интервентам будет гораздо легче вспомнить о благоразумии. И согласиться на переговоры, лишь бы окончательно не потерять лицо и зафиксировать перед всеми хотя бы сам факт “замирения бунтовщиков”.
При этом, разумеется, для получения требуемого эффекта предстоящая демонстрация своего боевого потенциала должна быть не только внушительной, но и, так сказать, аккуратной. Потому что полномасштабное сражение ничего не даст даже в случае успеха. Дополнительные наблюдения за настроениями полянских верхов и низов подтвердили, что политических условий для взятия Киева нет. И что, следовательно, разгром сил вторжения будет означать лишь затягивание состояния войны, тогда как Древлянской земле нужен мир. В случае же поражения тем более придётся отложить гордость и откупаться от победителей почти любой ценой, лишь бы не допустить ещё худших потерь.
В общем, стремясь максимально убедительно продемонстрировать неприятелю возможности древлянской армии, ещё важнее по ходу операции не растерять этих самых возможностей. Благо время для разработки детального плана кампании, центральным эпизодом которой станет этакое “аккуратное побоище”, есть, поскольку все поступающие от соседей сведения подтверждают, что усложнять себе жизнь и воевать зимой в Киеве не собираются.
Ольга: Итак, желающие непременно сразиться с древлянами добились своего. Но это не означает, будто борьба за контроль над ситуацией окончена, поскольку в политике она не завершается никогда. Просто вслед за обстановкой меняются её предмет и цели. В частности теперь, когда под всеми спорами о вторжении в Древлянскую землю подведена черта, предстоит добиваться, чтобы предстоящая кампания послужила её, Ольги, а не чьим-то чужим интересам.
При этом излишне уточнять, что по ходу соперничества за ещё не поделённую до конца власть попользоваться чужими лаврами ей никто не даст. И если состоится военный разгром Древлянской земли, это поднимет авторитет и влияние только тех, кто реально добывал победу, то есть Свенельда, Асмуда и других лидеров армии. А гражданским лицам, к числу которых относится вдовствующая княгиня-мать, останется лишь воздавать им почести. Чтобы суметь укрепить свои позиции в противовес воеводам или хотя бы наравне с ними, возвращение древлян в киевское подданство должно произойти при её, Ольги, непосредственном участии и преимущественно политическими средствами, не связанными напрямую с вооружённым кровопролитием.
Вот только из Киева карателей не удержать и переговоров не завязать, это можно сделать (во всяком случае попытаться) только находясь с войском. Женщина, пусть даже регентша, в боевом походе? Да, регентство – это единственный шанс продолжать оставаться вместе со Свенельдом и Асмудом. Поэтому экспедицию “возглавляет” сам князь, а Ольга его “сопровождает”.
Но найти повод отбыть в Древлянскую землю – это лишь первая и самая простая часть задачи. Даже у находящейся в армии великой княгини есть право голоса только при обсуждении общеполитических аспектов кампании, а оперативные вопросы находятся целиком в руках воевод. Уже по одному этому Ольга будет бессильна что-то изменить, если древляне начнут активные боевые действия. Более того, в открытой войне она от души будет желать киевскому войску успехов, причём именно таких, в которых ведущую роль сыграют варяги. Ибо отсутствие явного поражения древлян или добытые полянским войском слишком пышные лавры сокрушителей давних соседей-врагов будут означать ослабление позиций дома Рюрика и рост угрозы его свержения внутренним восстанием или заговором. Вот если бы удалось предупредить древлян, дескать, вы не очень, тогда и мы не очень, а там, глядишь, как-нибудь и договоримся…
А впрочем, что толку в пустых мечтаниях. Ведь посылать с подобной вестью просто некого – человека, верного лично ей и одновременно пользующегося доверием Мала, у Ольги ещё нет. Завязывать же такие контакты через пятые-шестые руки – это всё одно что самой отдать сына на растерзание волчьей стае. Достаточно одного сбоя, любого самомалейшего повода для подозрений варягов – а с увеличением числа посредников риск утечек возрастает многократно, – и за “сотрудничество с врагом” её ждёт, самое малое, полевой суд и ссылка, а то и вовсе “шальная древлянская стрела” или что-нибудь в этом роде. Потому что потребная для консолидации феодального общества законная династия для киевлян сейчас реально сводится к одному Святославу. А вот без вдовы Игоря они, вообще говоря, могут и обойтись, поскольку в отсутствие законного мужа производить на свет законных наследников престола ей не дано. Так что как мать и как фактическая глава династии она не имеет ни человеческого, ни политического права рисковать тем, что малолетний Святослав, оставшись без её опеки, надолго превратится лишь в повод для противоборства между придворными группировками за влияние на будущего государя. (Причём в отсутствие княгини-матери позиции либеральной части варягов в этой борьбе будут резко ослаблены.) Поэтому пока ей не остаётся ничего иного, кроме как ждать каких-то новых вводных, которые помогут развернуть происходящее в более спокойное русло. А также уповать в глубине души на то, что радость победы над Игорем не заслонит от древлянских вождей доводы здравого смысла и не побудит их забыть об опыте пращуров, мирившихся с Олегом и Игорем.
И действительно, на первых порах интервенты не встречают никакого сопротивления, не случается даже мелких стычек*. Так что Ольга уже начинает осторожно прощупывать настроения коллег по правительству на тему, какие условия смогут их удовлетворить, если древляне заведут речь о мирном улаживании конфликта через своё возвращение в киевское подданство. Но на самом подходе к Коростеню, кладя конец ожиданиям и надеждам, дорогу объединённой армии полян и варягов преграждает строй древлянских воинов.
Ну что ж, раз проводимые от имени Святослава многообразные перемены не убедили древлян, что времена волчьего засилья в Киеве кончились, а её сын не смог стать символом мирной консолидации всех народов державы Рюриковичей, так пусть славянское имя нового князя послужит боевым знаменем хотя бы для полян (варягов вдохновлять не надо, они и так дерутся за свою сытую жизнь). И вот будущий грозный воитель выводится в первую линию и с его копьём жребий брошен – сводная киевская рать устремляется в атаку. Кажется, теперь только мечам решать, кому и какое достанется будущее…
Первый бой Святослава (тактико-логическая реконструкция): Дальнейшие перипетии столкновения 946 года удобнее проследить со стороны Коростеня, поскольку выбор места для боя был за древлянами, и, опираясь на это место и следуя избранному курсу на “деликатное запугивание” агрессоров, именно оборонявшиеся сумели продиктовать ход и исход данного эпизода.
Мал: Пока всё идёт по плану и кровавого следа интервенты не оставили. Теперь остаётся показать, что на их силу есть контрсила, и выпроводить ожидавшихся, но незваных гостей с миром, клятвами в верности киевскому князю и богатыми подношениями. Главное сейчас – не дать варягам такого подарка, как славянская усобица, а полянам не дать почувствовать в варягах соратников*. И если для вывода Древлянии из-под удара надо будет десять раз покланяться и отдать двадцать мешков кун, то для настоящего политика это не цена по сравнению с выживанием и развитием его государства.
А из такой стратегии поистине сама собой вытекает и тактика, способная привести к указанным целям. В самом деле, при случае даже доблестные и именитые полководцы были не прочь устроить неприятелю ловушку или напасть врасплох. Но главным мерилом качества армии всегда служило умение слаженно и мощно действовать именно в открытом бою. Так что демонстрация военных возможностей древлян, можно сказать, требует фронтальной встречи и никак иначе. А чтобы удержаться в рамках образцово-показательной акции и не превратить всё в битву на взаимное уничтожение следует: а) отнять маневр у противника; б) обеспечить свободу отходного маневра себе. И опять же в лесном краю устроить такое намного проще, чем в любой иной местности. Принципиальный план операции, отвечающей указанным требованиям, см. на схеме.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



