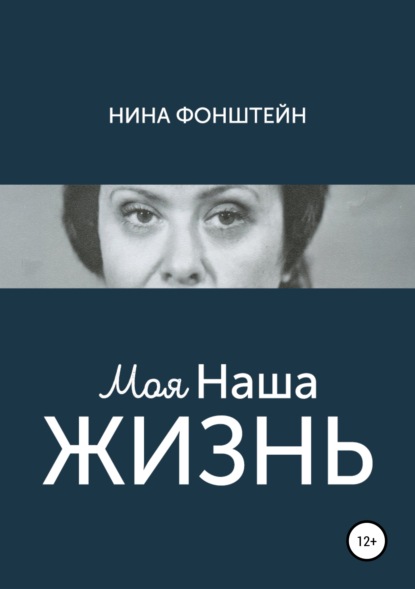 Полная версия
Полная версияМоя Наша жизнь
– Ну что вы хотите, Нина Михайловна. Все биологические системы руководствуются стремлением к выживанию. Товарищ выживает таким образом.
Назавтра, в четверг утром, мы опять встречались с Мовшовичем, который выглядел очень грамотным специалистом, но нежелание излишних проблем превалировало, и все мои попытки его переубедить оказались безуспешными.
После обеда уехала в Кривой Рог, где у меня была назначена на пятницу встреча с Главным инженером Криворожского комбината Никитенко, которую помог организовать его бывший сокурсник и приятель Виталий Пилюшенко, заместитель начальника ЦЗЛ Донецкого металлургического завода.
На ДМЗ нам в выплавке бористой стали отказали еще в ноябре, и Пилюшенко позвонил Никитенко на Кривой Рог, чтобы как-то смягчить мое разочарование. (Мы дружески контактировали с ним на разных металловедческих форумах, работали вместе в комиссии по фрактографии, поэтому я рассчитывала на его не сложившуюся помощь в решении наших проблем с выплавкой стали на их заводе).
Коллеги из ИЧМ проводили меня к поезду, но сами уезжали только завтра:
– Нет смысла приезжать сегодня (до Днепропетровска было 85 км) и выходить на работу на один день.
Я внутренне ухмыльнулась на предмет их недельного пребывания в Запорожье, но смолчала. Я несколько раз бывала в ИЧМ, каждый раз вынося двойственное впечатление о его сотрудниках. Еще на предзащите Лиды Сторожевой я отметила высокий уровень их профессионализма, отличного знания литературы, но во всех реальных действиях (мы с ними пересекались в Липецке, на ММК, на ВАЗе) была заметна какая-то замедленность и предельная осторожность.
Поездка в Кривой Рог была поначалу плодотворна. Никитенко был довольно молодым и по возрасту прогрессивным человеком, однако оказалось, что он на комбинате недавно и при всем желании помочь нуждался в поддержке сталеплавильщиков. Я билась изо всех сил, потому что тогда это был поиск выхода из тупика, куда нас загнали Иводитов с Тишковым в Череповце. Основное и понятное мне опасение криворожцев было связано с недостаточной отсечкой шлака и реальной опасностью окисления ферробора еще до момента контакта со сталью. Бористых сталей они не плавили, и ферробора соответственно у них тоже не было.
Я поехала доставать ферробор и советоваться со своими специалистами. Однако был самый конец декабря, пятница, и билетов в Москву не было никаких. Пришлось вернуться к Никитенко, и он последовательно звонил в свои службы, потом в разные места, пока не добрался до нужного человека в обкоме партии, который и дал необходимые мне указания для получения брони в железнодорожной кассе. В кассе, как и ожидалось, билетов не было никаких, и неистовая толпа готова была растерзать проходящих сквозь нее к кассе за билетами с заветным словом «бронь».
В купе нас ехало четверо. Как потом выяснилось, все получили билеты сегодня: один из пассажиров был зубной врач, вторая – директор магазина, третий – местный учитель, на которого все смотрели вопросительно с явным недоумением.
В Москве после некоторых обсуждений придумали защитить от окисления комки ферробора (на время контакта с кислым шлаком) алюминием, и вся группа села заворачивать двадцать килограмм десятиграммовых кусков ферробора в алюминиевую фольгу, купленную в хозяйственном магазине.
Сложили в мешок и, созвонившись, поехали с Сашей Борцовым опять в Кривой Рог уже в середине января.
Положили мешок в углу сталеплавильной лаборатории, подготовились обсуждать рабочий план выплавки и разливки.
Однако начальник лаборатории сказал, что совещания не будет и выплавки нашей стали тоже.
– Извините, что мы вам не сообщили заранее: мы пришли к окончательному решению только вчера. Нам и самим было интересно попробовать поиграться с бором. Но наш основной продукт – арматура. Много поставляем упрочненной с прокатного нагрева. Заказчики давно просят попробовать бористые стали. Если мы для вас удачно выплавим, это не скроешь, и нам уже не отвертеться никакими разговорами про окисление бора в шлаке. Но они заворачивать ферробор в «золотце» как конфетки не будут.
Разговор был на самом деле длинным, но мы поняли, что круг замкнулся: почти такую же мотивировку отказа мы ранее получили на Донецком металлургическом комбинате. Оставили мешок с ферробором в углу комнаты и уехали.
На Украине ничего не получилось. Надо было готовиться к следующему раунду борьбы с Череповцом, в котором удалось победить (см. выше).
Олег Николаевич Романив
После прочтения моей книжки Женя Шур спросил, почему я не упомянула Романива.
На самом деле, с профессором Олегом Николаевичем Романивом были связаны три наиболее запомнившихся эпизода: моя поездка во Львов, семинар в Славско, день похорон Брежнева и тот факт, что он меня подвел на моей докторской защите.
В 1975-м году мы поехали с Игорем Юшкевичем во Львов знакомиться с оборудованием и используемыми методами фрактографии в лаборатории физико-механического института, которой руководил профессор О. Н. Романив. Помню, когда, постучавшись, вошли в его кабинет, он прервал свой разговор по телефону словами:
– Хвылиночку…
Это было неожиданно, но потом мы поняли, что во Львове, в отличие от привычных нам Киева и Харькова, многие разговаривают на украинском.
Романив отлично говорил и на русском, был очень галантным, «западным» в моем представлении человеком. Он только что опубликовал в соавторстве со своим аспирантом Юрием Зима книгу по фрактографии, нам было интересно встретиться и с Юрой. В целом, поездка была не только интересной, но и полезной. С Юрой мы подружились. В то время одним из аспирантов Романива был Алик Ткач, который занимался интересовавшей меня механикой разрушения, и мы впоследствии сделали интересную совместную работу.
И Алик и Юра несколько раз приезжали к нам в Москву, останавливались у нас дома, иногда приезжал в Москву и Романив.
В это время мы с Женей Шуром увлеклись фрактографией, обзавелись сканирующими микроскопами. Марк Львович Бернштейн договорился с Металлургиздатом о переводе тома, посвященного фрактографии, изданным ASTM – американским обществом испытаний материалов. Предполагалось, что Марк Львович будет редактором, а Женя – переводчиком. К тому времени, когда издание попало в план, Бернштейн был всецело занят своей книгой, поэтому Женя предложил переводить этот огромный том мне, взяв на себя роль редактора.
Перевод этого издания был очень полезен для меня, и мы оба в ходе работы поняли, как важно единообразие терминов при описании элементов поверхностей разрушения, что было далеко от существующей практики. Я уже не помню, кто предложил Госстандарту создать научно-методическую комиссию по фрактографии, аналогичную комиссии Е10 в США. Возможно, что, вследствие широко упоминаемых в литературе ссылок на Е10, эта идея была, что называется, в воздухе.
В качестве председателя комиссии, созданной в 1977-м году, предложили О. Н. Романива, поскольку наибольшее число работ по фрактографии было в его активе. Женя был секретарем комиссии и, в моих воспоминаниях, играл центральную роль в ее деятельности. Романива помню только на одном из семинаров по фрактографии, проведенном в 1979-м году под Львовом в Славско. Он вел себя очень демократично, обстановка была в стиле студенческих костров с вылазками по горам, но не в ущерб весьма серьезному содержанию самого семинара.
Женя контактировал с Олегом Николаевичем больше, чем я. Помню, что мы с Романивом 12-го ноября 1982-го года должны были оппонировать в Московском институте стали (я тогда еще в качестве второго оппонента). Женя пришел специально, чтобы встретиться с Олегом. Однако это был день похорон Брежнева, заседание Ученого совета и соответственно защиту отменили (всем было велено смотреть похороны по телевизору). Гонорар нам выдали, взяв слово, что мы явимся в назначенный новый срок. Бедный диссертант, чья жена приехала из Ижевска на этот день, поспешил разбираться с предоплаченным банкетом, а мы поехали в «Прагу» без уверенности, что ресторан открыт. На входе нас предупредили:
– Музыки не будет.
В ресторане было непривычно тихо, можно было разговаривать, не напрягая голос. Что-то выпили, развеселились, периодически оглядываясь по сторонам, не слишком ли привлекаем внимание. Вспоминали популярный анекдот и приподнимали скатерть, как бы обращаясь к «товарищу майору» с вопросом, нравятся ли наши шутки. Веселились от души.
Романив был успешным ученым и весьма светским человеком, и тогда трудно было представить, что в конце 80-х он оставит металловедение и возглавит, впоследствии на международном уровне, националистическое движение возрождения «Научного общества им. Шевченко», чем будет заниматься до конца жизни (2005).
В 1986-м году я защищала докторскую диссертацию, и, поскольку существенная часть моей работы была посвящена механическим испытаниям и разрушению, я попросила Романива быть одним из моих оппонентов. Он согласился, вовремя прислал отзыв, а недели за три позвонил, что приехать не сможет: его как раз на этот день вызывает Борис Евгеньевич Патон.
– Вы же понимаете, я не могу отклонить вызов Президента Академии.
По жизни мы выглядели друзьями: и все-таки подумаешь, подвести Нину Фонштейн по сравнению с упущенным шансом лично встретиться с Патоном или необходимостью согласовывать с его помощниками другое ее время.
Присутствие оппонента – обязательное условие защиты. Я искала замену среди ученых, имеющих прямое отношение к теме диссертации. У меня в работе было много ссылок на Светлану Дмитриевну Дьяченко, с которой не была лично знакома, но, со сбивчивым объяснением причины моего визита по телефону, помчалась к ней в Харьков.
Ранним утром я появилась по указанному адресу. Дверь открыла сама Дьяченко, около нее вился малыш. Когда я все объяснила, Светлана Дмитриевна с сожалением отрицательно покачала головой:
– В принципе, мне интересно и почитать вашу работу и показаться в Москве. Но я бабушка, а дочь в этот день работает, как сегодня, Она как раз сейчас собирается.
Из соседней комнаты вышла молодая женщина.
– Мам, давай не сразу отказывай. Я позвоню с работы, может, мне удастся поменять день.
Я была тронута: посторонний человек проникся сочувствием, понимая жизненную важность мероприятия.
Мы провели целый день, обсуждая мою работу в сравнении с данными Дьяченко, спорили, соглашались, пили кофе с привезенными мною конфетами. Где-то ближе к обеду позвонила дочь:
– Получилось. Давай согласие.
В день защиты отзыв Олега Николаевича Романива (отсутствующего оппонента) зачитали (так положено), Светлана Дмитриевна Дьяченко приехала утром и поздно вечером уехала, оставив на всю жизнь глубокую благодарность.
Перестройка
Фамилию Горбачева мы, кажется, услышали практически впервые как председателя организации похорон К. У. Черненко, но после всей этой череды похорон, получившей в народе злое обобщение «Пятилетка в четыре гроба», уже были достаточно опытны, чтобы предвидеть, кто будет следующим лидером.
В самом начале его карьеры в мае 1986 года новый Генсек выступал на каком-то пленуме в Ленинграде. Помню, что мы слушали его с нескрываемым восхищением. Говорил он, конечно, общие вещи, но почти полтора часа без бумажки, и вместе с общими словами о необходимости ускорения экономического развития звучало слово «перестройка». Подразумевалась тогда только перестройка управления промышленностью.
Потом начались ревизии деятельности отраслей, увольнения министров, еженедельные постановления «О дальнейшем улучшении»… «Об ускорении».
Юрий Александрович Кузнецов, заместитель начальника технического управления Минчермета, жаловался:
– Ну хоть бы посмотрели сначала на наши мощности. По этому, например, постановлению в сельхозмаш для увеличения долговечности их тракторов и комбайнов нужно направить нержавеющей стали больше, чем мы ее производим. Плюс при их бюджете и ценах на их продукцию они и взять ее не смогут.
Амиров встречал Горбачева и раньше, хорошо знал его биографию как секретаря ЦК Ставропольского края. Говорил и часто повторял:
– К сожалению, он не экономист, – слабое знание экономики отражалось во всех спешно принимаемых постановлениях, хотя вроде бы именно на улучшение ситуации с разваленной экономикой были направлены все усилия.
Вначале как панацея от всех бед был запрет на привычный в России выпивон, подразумевалось наказание за принятую расплату водкой или казенным спиртом, распитие спиртного вблизи предприятий, ограничение времени продажи водки. Ничего не изменилось, делали все то же, но с опаской, сопровождаемой многими веселыми анекдотами.
Потом был Рейкьявик (октябрь 1986), встреча с Рейганом, сопровождаемым приехавшими с ним известными диссидентами. Центральным вопросом встречи было сокращение стратегического вооружения СССР в обмен на согласие США приостановить развитие программы СОИ. СОИ – стратегическая оборонная инициатива – подразумевала вывод вооружений в космос, и на соперничество с ней у СССР просто не было экономических ресурсов.
Формально соответствующие договоренности были достигнуты лишь еще через пару лет, и отношения между СССР и США улучшились совсем не вдруг. В Рейкьявике Рейган поднял в качестве условий вопрос о правах человека в СССР. В качестве доказательств их нарушения американская делегация привезла список людей, которым отказано в выезде из страны, список политических заключенных.
По-видимому, постепенно последовавшие освобождения заключенных (академика Сахарова освободили в 1987-м), получившая широкое признание «гласность», а также разрешение на выезд многим «отказникам» в 1989-м были в той или иной степени демонстрацией уступок, на которых настаивали США.
Все произошло не вдруг. Вначале по инерции андроповских действий наказывали за хранение самиздата. Помню, что в 86-м году позвонил Миша, и я почувствовала некоторое напряжение в голосе:
– Я заеду забрать книжку, что давал читать.
У нас хранились «Зияющие высоты» А. Зиновьева, и Миша увез ее куда-то, чтобы не рисковать, потому что в этот день в их институте пришли с обыском в фотолабораторию (наверно, кто-то привычно «постучал»).
Потом все-таки начались издания ранее запрещенных авторов, различные правовые послабления: разрешение предпринимательства, за которым следовало образование кооперативов, законодательное признание частной собственности. Однако экономический рост не просто замедлился, а сменился падением, приближающим страну к кризису.
Мы это видели в постепенном сворачивании исследовательских проектов, уменьшении бюджетного финансирования. Перестройка смотрелась как частичное разрушение старого здания без видимой замены или реконструкции выброшенных участков.
Изменения в отношении зарубежной деятельности были смешными. С одной стороны, отменили необходимость выездных виз (получения предварительного разрешения на выезд), но лаборатории внешних сношений не упразднили, и мы по-прежнему спускались на пять этажей для телефонных разговоров с иностранцами по одному контролируемому каналу.
Как-то мне позвонил Майкл Корчинский, знаменитый организатор уникальной конференции Microalloying-75, с которым встречалась и раньше во время его посещений ЦНИИчермета. В частности, я ему помогла с переводом статьи, которую он подготовил для МиТОМа, и он относился ко мне со старомодным почтением. В частности, в 1990-м году он организовал широкий, на 100 человек, семинар по ванадию, по модному тогда принципу «Восток – Запад». Со стороны Востока были представители науки всех стран соцлагеря, Запад был представлен ведущими специалистами по микролегированию. Доклады делали Пикеринг, Глэдман (Англия), Лагнеборг (Швеция), Томас (США). Меня Корчинский просил предложить список группы российских представителей. Разумеется, в числе прочих в эту группу попали Леня Эфрон, Женя Шур и Володя Левит.
В этот раз оказалось, что он проезжал через Москву в Екатеринбург с директором УралЧЕРМЕТа Л. А. Смирновым и хотел пригласить меня на ужин. Я замялась. Сотрудники лаборатории внимательно слушали наш разговор, если не записывали его (им теперь мало что было делать). Я не очень уверенно произнесла:
– Хорошо, наверно, нашему директору это время подойдет. – Корчинский все понял без объяснений:
– Вам лучше прийти с директором? Пригласите его от моего имени.
Столяров (в это время директором был уже Володя Столяров) не упирался: имя Корчинского было широко известно, он бывал в институте во времена Голованенко.
Пришли в ресторан, вначале все было очень мило, произносили различные тосты. Наконец, очередь дошла до Корчинского. Я знала, что он человек прямой, но не догадывалась, до какой степени. Он начал в лоб:
– Вы все говорите про перестройку. А я в нее поверю, когда вы будете доверять своим сотрудникам, а не сопровождать их начальством на встречи с иностранными коллегами.
В ЦНИИчермете помнят еще более резкое сомнение в перестройке, высказанное Клаусом Хулкой, давним партнером из СВММ:
– Я поверю в перестройку, когда у вас перестанут пахнуть мужские туалеты (он сказал это еще более прямо и грубо).
Однако тогда еще трудно было представить, что полуначатая незавершенная «некомплектная» перестройка приведет к развалу Союза и за этим – полному краху общесоюзных учреждений, включая ЦНИИчермет.
Исходные элементы жесткой конструкции заменяли несогласованными элементами демократизации, в которых острый глаз видел способы легкой наживы. Большие деньги у одних и полное отсутствие у других закономерно привели к «лихим» девяностым.
Международный Инкубатор технологий и российские реалии 90-х
Сейчас можно часто слышать: «Лихие девяностые». Однако, казалось бы, как это могло коснуться меня или моих близких, если с бизнесом я лично связана не была, а середину девяностых провела в тепличных условиях финансируемого американцами Международного инкубатора технологий?
И тем не менее, трое из моих восьми сотрудников Инкубатора оказались по разным причинам и при разных обстоятельствах жертвами этой не подчиняемой никаким законам лихости, которая и была реалиями нашей жизни тех лет.
Можно было представить чисто статистически, что происходит вокруг, потому что все ниже описываемое произошло в течение нескольких месяцев 1996-го года.
Сначала Катя, наша секретарша, достаточно самостоятельная и боевая девушка, опытный водитель, стала жертвой аварии на МКАД. Ее обогнала «девятка», беззастенчиво подрезая, и, не сумев обойти, ударила ее машину в левую дверь. Удар был таким сильным, что Катя отлетела внутри машины вправо, ударившись головой и, как потом выяснилось, получив сотрясение мозга.
Обе машины встали, ожидая разборки. Шофер девятки, чей-то, как выяснилось, водитель, нервничал и усиленно кому-то названивал. Катя вызывала милицию. Покровители «девятки», с классическими лицами распальцованной шпаны, явились раньше милиции, осмотрели повреждения обеих машин и какое-то время совещались.
Когда приехала милиция, Катя попыталась описать им дорожную ситуацию, которая была вполне понятна и без объяснений, достаточно было осмотреть битые машины. Однако милиционеры скорее смотрели на номера «девятки» и приехавших защитников виновника аварии и Катю не очень слушали. Когда она попыталась поднять голос:
– Оформите, пожалуйста, протокол, укажите виноватого, – милиционеры ответили быстро и грубо:
– Ты что, сука, с солнцевскими поссорить нас хочешь?
Развернули машину и уехали.
«Солнцевские» (наверно, милиционеры определили их правильно) подошли к Кате, резко открыв дверь ее изуродованной машины:
– Номера твои мы списали. Давай свой телефон. Будет так: Слава тебе завтра позвонит, и ты поедешь с ним на оценку его ремонта. Ты оплачиваешь его ремонт или две его цены, если опоздаешь больше чем на три дня. Тебе понятно?
На Катины попытки вставить слово никто не обращал внимания.
Все друзья и знакомые были возмущены, но бессильны помочь. Назавтра «Слава» ей позвонил, и Катя с помощью в прямом смысле поддерживающих ее друзей, пошатываясь от головокружения, поехала с ним, оплатила ремонт его «девятки» и выплачивала долги за этот ремонт и починку своей машины.
Когда мы искали экспертов для Инкубатора, кто-то порекомендовал нам Сергея Солодова, который скучал на работе в мэрии. Сергей оказался очень подтянутым и четким человеком, толковым инженером, но как-то сразу стало очевидным, что зарплата его не волнует, на самом деле ему хотелось интересной работы.
Как-то позже, когда между нами установились доверительные отношения, Сергей мне объяснил свое пренебрежение зарплатой.
– Отец несколько лет назад сумел приобрести в собственность нефтяную вышку в Тюмени. Она качает нефть, и нам «капает».
Я поняла в целом, детали мы не обсуждали.
И вдруг, спустя несколько месяцев, Сергей сильно помрачнел, стал часто отпрашиваться с работы. Потом исчезла его машина, потом вдруг Сергей переехал в другую квартиру.
Он уже практически не мог работать и из суммы его объяснений, которые я получала от него кусочками, постепенно вырисовалась следующая картина.
Какие-то лихие ребята ухитрились захватить «папину вышку» в их собственность, однако дело было не просто в потере доходов. В свое время, для приобретения и совершенствования этой точки, Солодовы вынуждены были занимать деньги, и, как я поняла, довольно большие. В то время были распространены предложения от разных источников: внеси (одолжи) деньги и будешь получать в месяц 3, 5 или 10 % и за какое-то время деньги вернутся.
Как утверждал Сергей, все кредиторы давно вернули свои деньги в виде суммы этих месячных «капаний», но теперь они дружно требовали назад свои исходные капиталы. Все просьбы Сергея отсрочить эти выплаты не действовали даже на друзей.
Сначала он продал машину, потом свою бывшую холостяцкую квартиру. Когда он осознал, что и этого недостаточно, он нанял каких-то таких же лихих ребят, чтобы выяснили ситуацию и помогли вернуть собственность. Те честно занимались расследованием и, как мне лично рассказывал Сергей, вывод был неутешительным:
– Лучше тебе затихнуть и не пытаться что-то отыграть. Они из тех, которым легче убить, чем лишиться денег.
Все выглядело пугающе, потому что слух о его попытках найти злодеев как-то расползся. Боясь за себя и сына, жена попросила его развестись и уйти из дома, пока все не утрясется, Он уволился и, как мы слышали, уехал из Москвы. Как я писала, в качестве одного из водителей мы наняли Диму Кузьмина, скромного парня, по образованию геолога, чья специальность никому в это время была не нужна.
Дима был на редкость немногословен и неразговорчив. Ответы можно было получать, предугадав их возможное содержание.
– Дим, я вижу, ты куда-то спешишь сегодня.
– Типа того.
При этом он был не просто хорошим водителем, но и очень добрым парнем, вызывающим симпатии. Леня Келнер помог ему поступить в школу экономики АНХ, работающей по программе, совместной с Калифорнийским университетом, и он с энтузиазмом начал осваивать английский и экономические премудрости.
Возил он меня на машине Инкубатора, но спустя год купил себе новую машину. Он был настолько доволен, что иногда вместо «Типа того» от него можно было услышать довольное «Да».
И вдруг Дима резко помрачнел. Зная, что при его чрезмерной лаконичности рассказа от него не добьешься, я пошла в бой:
– Дим, что-то случилось?
– Вроде того.
– Что именно?
– Машину мою угнали.
Как всегда, все надо было вытягивать из него клещами.
Почти со слезами он проговорил:
– Я уже думал, что началась светлая полоса: работаю в Инкубаторе, учусь в АНХ, машину купил.
Постепенно, в несколько приемов, выяснилось, что он оставил новую незастрахованную машину на платной охраняемой парковке (тогда не было обязательного страхования). Когда он пришел через пару часов ее забирать, ее на стоянке не оказалось, и охранники, без какого-то ни было беспокойства, заявили, что машина выезжала обычным образом, с предъявлением квитанции и без признаков каких-то сигналов нестандартного запуска.
Это было очевидным враньем, и Дима побежал в милицию. Там им заниматься не стали:
– Мы заранее знаем, что расследование ничего не даст. Надо на них наехать, но в нашем варианте тебе это будет дорого, к тому же нас за это шпыняют. Что ты, не можешь найти каких-нибудь отморозков подешевле, чтобы наехали?
Дима нашел «отморозков», и те сделали несколько безуспешных разборок. Охранники, что были в ту смену, когда угнали Димину машину, уже уволились, а когда их нашли по сложно выведанным адресам, их подельники оказались сильнее Диминых бойцов, и кончилось тем, что Диму еще и наказали «за беспокойство», и, как неохотно он потом признавался, он еще и выплачивал им «штраф».
– Дима, большие деньги?
– Вроде того.
– Тысячи?
– Похоже на то.
Он стал оформляться и через год уехал в Австралию к сестре, муж которой работал там геологом и где геологи – разведчики нефти (Димина специальность) были нужны.

