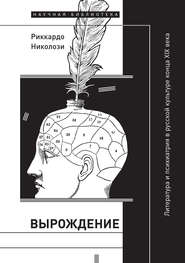
Полная версия:
Вырождение
412
В широком, однако потому и неспецифическом смысле любой фикциональный текст – это мысленный эксперимент, т. е. высказывание о неактуализированных возможностях. Ведь фикцию вообще можно определить как конструирование (мимесис в Аристотелевом смысле) правдоподобной, внутренне связной, возможной, однако не актуализированной действительности, в реалистических произведениях связанной сложным отношением сходства с «реальным» миром. Об исследовании фикциональных симуляций действительности при помощи модально-логической теории возможных миров см., в частности: Lewis D. Truth in Fiction // American Philosophical Quarterly. 1978. № 15/1. P. 37–46; Doležel L. Heterocosmica: Fiction and Possible Worlds. Baltimore, 1998; Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / Пер. с англ. и итал. С. Серебряного. СПб., 2007.
413
Об основополагающем различии между «подтверждающими теорию» (constructive) и «опровергающими теорию» (destructive) умственными экспериментами см.: Brown J. R. The Laboratory of the Mind: Thought Experiments in the Natural Sciences. London; New York, 1991. P. 34–36.
414
Так нередко поступали древнегреческие математики. Евклид, например, доказывает, что не существует самого большого простого числа, опровергая предположение о существовании такого числа путем демонстрирования логического противоречия, заключенного в этом предположении (Rescher N. Reductio ad absurdum // Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 8 / Hg. von J. Ritter und K. Gründer. Basel, 1992. S. 369–370).
415
Brown. The Laboratory of the Mind. P. 1–3; Gendler T. S. Galileo and the Indispensability of Scientific Thought Experiments // The British Journal for the Philosophy of Science. 1998. № 49/3. P. 397–424.
416
Fauconnier G., Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York, 2002. P. 233–240.
417
Albrecht A., Danneberg L. First Steps Toward an Explication of Counterfactual Imagination // Counterfactual Thinking – Counterfactual Writing / Ed. by D. Birke et al. Berlin, 2011. P. 12–29. Классический пример контрфактуальных имагинаций – исторические мысленные эксперименты, исходящие из предположения «что было бы, если…». Историки относятся к ним крайне неоднозначно, поскольку их познавательная функция считается чрезвычайно сомнительной. О плодотворном использовании контрфактуальных мысленных экспериментов в исторической науке и политологии см.: Counterfactual Thought Experiments in World Politics: Logical, Methodological, and Psychological Perspectives / Ed. by Ph. Tetlock and A. Belkin. Princeton, 1996; Unmaking the West: «What-If?» Scenarios That Rewrite World History / Ed. by Ph. E. Tetlock et al. Ann Arbor, 2006. О контрфактуальности в художественной литературе см.: Dannenberg H. P. Coincidence and Counterfactuality. Plotting Time and Space in Narrative Fiction. Lincoln; London, 2008.
418
Физиократы считали, что единственный источник реальных материальных благ – это земледелие, а прочие отрасли экономики – промышленность, торговля, финансы – занимаются лишь дальнейшей переработкой и перераспределением этих благ. Поэтому физиократы предлагали облагать налогом только чистый продукт с земельных наделов (Bender N. Voltaire zwischen Aufklärung und Rokoko. Luxus als Notwendigkeit // Das «andere» 18. Jahrhundert: Komparatistische Blicke auf das Rokoko der Romania / Hg. von A. Oster. Heidelberg, 2010. S. 33–49. S. 43–49.
419
Dirscherl K. Der Roman der Philosophen. Diderot – Rousseau – Voltaire. Tübingen, 1985. S. 138.
420
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой. СПб., 1994. С. 80. Понятием «противодискурсия» (contre-discours) Фуко обозначает автономию литературы от эпистемических конфигураций (Фуко М. Мысль о Внешнем / Пер. с фр. Т. Вайзер // Современные стратегии культурологических исследований: Труды Ин-та европейских культур. Вып. 2 / Отв. ред. Т. А. Филиппова. М., 2008. С. 318–347).
421
Warning. Kompensatorische Bilder einer «wilden Ontologie».
422
Küpper J. Vergas Antwort auf Zola. Mastro Don Gesualdo als «Vollendung» des naturalistischen Projekts // 100 Jahre Rougon-Macquart im Wandel der Rezeptionsgeschichte / Hg. von W. Engler u. a. Tübingen, 1995. S. 109–136.
423
Первой попыткой художественного воплощения концепции наследственности в русской литературе 1860‐х годов стал неоконченный роман Н. Г. Помяловского «Брат и сестра» (1862). В предисловии автор описывает научную функцию литературы при помощи метафор, характерных для раннего натурализма (Каминский В. И. К вопросу о гносеологии реализма и некоторых нереалистических методов в русской литературе // Русская литература. 1974. № 1. C. 28–45. С. 43), указывая среди прочего на значение теорий наследственности и биологического детерминизма: «Не скажу, чтобы я был циник, но предмет, выбранный мною, циничен часто до последнего предела. ‹…› Доктор изучает сифилис и гангрену, живет среди трупов, однако его никто не называет циником. ‹…› Позвольте же и писателю обратить внимание общества на ту массу разврата, безнадежной бедности и невежества, которая накопилась в недрах его. ‹…› Вперед предупреждаю, что я не обличитель (в этой фразе прошу не искать ничего против обличительной литературы). Дело вот в чем: можно ли человека с отшибленной смолоду головой обличить в том, что он дурак? Можно ли обличать человека, вечно пьющего, но у которого пьянство – болезнь, наследованная от отца, и деда, и прадеда? ‹…› Будем заявлять только факты и, по возможности, их причину – из них всякий может делать вывод, какой кто хочет» (Помяловский Н. Г. Полное собрание сочинений. СПб., 1897. С. 631–632). Однако ни у Помяловского, ни у других авторов – например, у Ф. М. Решетникова, изобразившего пьянство как наследственный порок в очерке «Макся» (1864), – концепция наследственности не выступает в роли повествовательной схемы, как в романе о вырождении 1880‐х годов.
424
Не следует, однако, расценивать «демедикализацию» наследственности как признак общего равнодушия Достоевского к медицинской науке. Напротив, его медицинские познания, особенно в области эпилепсии, были весьма основательны. Писатель был знаком с научными работами Жан-Этьена Эскироля и Жак-Жозефа Моро, где эпилепсия рассматривается в психопатологическом контексте, причем центральная роль отводится вопросам наследственной предрасположенности и дегенеративному развитию заболевания. Смерть трехлетнего сына Алексея вследствие эпилептического припадка в 1878 году усилила страхи Достоевского относительно наследственного характера общей семейной патологии, уже успевшей проявиться в различных формах (алкоголизм, истерия, нервное истощение, шизоидные расстройства личности и т. д.) (Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевского 1506–1933. М., 1933). Наследственность как возможную причину эпилепсии Достоевского уже в 1840‐х годах диагностировал Степан Яновский, врач и друг писателя (Rice J. L. Dostoevsky and the: An Essay in Literary and Medical History. Ann Arbor, 1985).
425
Произвольность этой медицинской границы также демонстрируется в пародийной инсценировке судебно-психиатрической экспертизы по вопросу об умственной ненормальности Дмитрия. Ср. главу VI.2 этой книги.
426
Link J. Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird. 2. Aufl. Opladen; Wiesbaden, 1999. S. 236–237.
427
Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972–1990 (при дальнейшем цитировании – ПСС). Т. 14. С. 425.
428
Там же. С. 9.
429
Первый, тогда еще не получивший повествовательного развития намек на тему вырождения содержится уже в «Идиоте» (1868–1869), где князь Мышкин говорит о себе как о последнем, больном представителе своего рода («князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня; мне кажется, я последний»; часть I, гл. 1).
430
ПСС. Т. 14. С. 30.
431
Fusso S. Dostoevskii and the Family // The Cambridge Companion to Dostoevskii / Ed. by W. J. Leatherbarrow. Cambridge, 2002. P. 175–190.
432
Kluge R.-D. Das Leben ist mehr als der Sinn des Lebens: «Die Brüder Karamasow» // F. M. Dostojewski. Dichter, Denker, Visionär / Hg. von H. Setzer u. a. Tübingen, 1998. S. 137–157, здесь: 144–145. О карамазовщине как о сексуальном желании и его сублимации у братьев см.: Зеньковский В. В. Федор Павлович Карамазов // О Достоевском II. Сборник статей / Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1933. С. 93–114.
433
ПСС. Т. 21. С. 13–23. С. 16.
434
Wett B. «Neuer Mensch» und «Goldene Mittelmäßigkeit». F. M. Dostoevskijs Kritik am rationalistisch-utopischen Menschenbild. München, 1986.
435
Ср. похожий в структурном отношении вывод, к которому приходит Вольф Шмид, рассуждая о «Братьях Карамазовых» как о «неудавшейся теодицее»: Schmid W. Die «Brüder Karamazov» als religiöser «nadryv» ihres Autors // Wiener Slawistischer Almanach. 1996. № 41. S. 25–50. В своем (криптo)деконструктивистском анализе Шмид показывает, как «вопреки воле конкретного автора любое подтверждение метафизической веры втайне сопровождается ее отрицанием» (Ibid. С. 27). По мнению Шмида, именно этим вкравшимся в произведение противоположным смыслом компенсируется характерное для романа идей отсутствие полифонии. Похожей позиции, хотя и под иным углом зрения, придерживается И. П. Смирнов, который интерпретирует «Братьев Карамазовых» как акт «самоотрицания» литературы (Смирнов И. П. Преодоление литературы в «Братьях Карамазовых» и их идейные источники // Die Welt der Slaven. 1996. № 41/2. S. 275–298. S. 275).
436
Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М., 1999. С. 162–167. Как уже пояснялось выше (гл. III.1), экспериментальный метод Достоевского сложился в широком контексте русского антинигилистического романа.
437
ПСС. Т. 14. С. 464.
438
Там же. С. 495.
439
ПСС. Т. 29. С. 100.
440
Там же. Т. 24. С. 238–239.
441
Zola É. Œuvres complètes / Éd. par H. Mitterand. Vol. 6. Paris, 1967. P. 1–310. P. 221, 309.
442
Реизов Б. Г. К истории замысла «Братьев Карамазовых» // Реизов Б. Г. Из истории европейских литератур. Л., 1970. С. 129–158, особенно 147–158. Ср. также скупые указания на эту интертекстуальную связь в: Belknap R. L. The Genesis of The Brothers Karamazov: The Aesthetics, Ideology, and Psychology of Making a Text. Evanston, 1990. P. 39–40; Matlaw R. E. The Brothers Karamazov: Novelistic Technique. The Hague, 1957. P. 34–35.
443
Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского. М., 1964. С. 349–353.
444
Марков Е. Критическая беседа // Русская речь. 1879. № 12. С. 268.
445
Чиж В. Ф. Достоевский как психопатолог [1885] // Чиж В. Ф. Болезнь Н. В. Гоголя. Записки психиатра. М., 2001. С. 287–384. С. 290–293. Уже в начале 1870‐х годов П. Н. Ткачев назвал персонажей Достоевского «вырождающимися» в психиатрическом смысле слова (Ткачев П. Н. Больные люди [1873] // Ткачев П. Н. Избранные сочинения. Т. 3. М., 1932. С. 5–48). Николай Михайловский тоже указывал на обилие патологических характеров в произведениях Достоевского, однако не с целью подчеркнуть его опередивший свое время талант психопатолога, как это сделал Чиж, а с тем, чтобы акцентировать его «ненормальный» (иными словами, психопатологический) интерес к ненормальности (Михайловский Н. К. Жестокий талант // Михайловский Н. К. Сочинения. Т. 5. СПб., 1897. С. 1–78). Ср. также высказывания М. Горького об опасности карамазовщины, на счет которой он и относит стигматы вырождения (Горький М. О «карамазовщине»; Еще о «карамазовщине» [1913] // Ф. М. Достоевский в русской критике. М., 1956. С. 389–399). К этому же контексту принадлежит описание психопатологических черт персонажей Достоевского в «Лекциях по русской литературе» Владимира Набокова (Набоков В. Лекции по русской литературе / Пер. с англ. С. Антонова, Е. Голышевой, Г. Дашевского, И. Клягиной, А. Курт и Е. Рубиновой. М., 2010. С. 161–216).
446
Речь идет о романах «Карьера Ругонов» («La fortune des Rougon»), «Добыча» («La curée»), «Проступок аббата Муре» («La faute de l’abbé Mouret»), «Чрево Парижа» («Le ventre de Paris») и «Завоевание Плассана» («La conquête de Plassans») (Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М., 1922. С. 34). По свидетельству современников, Достоевский также читал «Западню» («L’Assomoir») и «Нана» («Nana») (Реизов. К истории замысла «Братьев Карамазовых». С. 152).
447
Так пишет Золя в предисловии к «Карьере Ругонов» («La fortune des Rougon»).
448
Роберт Л. Белкнап подчеркивает, что интертекстуальная отсылка к «Ругон-Маккарам» усиливается почти дословным текстуальным воспроизведением в «Братьях Карамазовых» пассажа Золя, описывающего всеобщее удивление по поводу связи Аделаиды с Маккаром в «Карьере Ругонов», при описании женитьбы Федора Карамазова на Аделаиде Миусовой (Belknap. The Genesis of The Brothers Karamazov. P. 39).
449
ПСС. Т. 14. С. 126–127. Об Алешином «кликушестве» см.: Rice J. L. The Covert Design of «The Brothers Karamazov»: Alesha’s Pathology and Dialectic // Slavic Review. 2009. № 68/2. P. 355–375. Об «истерическом дискурсе» у Достоевского см.: Лахманн Р. Истерический дискурс Достоевского // Русская литература и медицина. Тело, предписания, социальная практика / Под ред. К. Богданова и Р. Николози. М., 2006. С. 148–169.
450
Föcking M. Pathologia litteralis. Erzählte Wissenschaft und wissenschaftliches Erzählen im französischen 19. Jahrhundert. Tübingen, 2002. S. 293–294.
451
ПСС. Т. 14. С. 128.
452
Там же. С. 19.
453
Там же. Т. 15. С. 43.
454
Там же. С. 28, 101. Имя Бернара символизирует ложный идеал нового человека-рационалиста, сводящего мир к химическим компонентам и реакциям. После судебного процесса Дмитрий оказывается перед альтернативой между «Бернаром» и христианским идеалом нового человека.
455
В связи с этой интерпретацией ср. комментарий к «Братьям Карамазовым» в: ПСС. Т. 15. С. 588.
456
Там же. Т. 14. С. 73.
457
Там же. С. 74–75.
458
ПСС. Т. 14. C. 74.
459
Там же. 100.
460
Там же. С. 101.
461
Там же. С. 240.
462
Там же. С. 201.
463
Об Иване ср.: Там же. С. 209. Дмитрию же после показания свидетелей снится сон, с которого начинается его нравственное возрождение. Во сне Дмитрий хочет помочь страждущему «дитю» «со всем безудержем карамазовским» (Там же. С. 457). Карамазовская разрушительная сила обращается здесь во благо.
464
ПСС. Т. 15. С. 170.
465
О сцене суда в «Братьях Карамазовых» ср.: Rosenshield G. Western Law, Russian Justice. Dostoevsky, the Jury Trial, and the Law. Madison, 2005. P. 131–231.
466
ПСС. Т. 15. С. 171.
467
Братья Карамазовы сталкиваются с постоянным утверждением и вместе с тем отрицанием своей биологической принадлежности к семье. Эти противоречивые суждения высказывает главным образом сам отец, Федор Павлович. Во время встречи членов семьи в келье старца Зосимы он именует Ивана «плоть от плоти моея, любимейшая плоть моя» (Там же. Т. 14. С. 66), одновременно отвергая Дмитрия и называя его «отцеубийцей». Чуть позже, во время домашнего ужина, оканчивающегося кровопролитием, Федора Павловича словно бы удивляет тот факт, что Иван и Алеша – дети одной матери (Там же. С. 127). В следующем после этого разговоре с Алешей он снова ставит под сомнение принадлежность Ивана к семье: «Да я Ивана не признаю совсем. Откуда такой появился? Не наша совсем душа» (Там же. С. 159). Вместе с тем именно Ивану Смердяков впоследствии припишет наибольшее сходство с отцом: «Вы как Федор Павлович, наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с» (ПСС. Т. 15. С. 68). Ср. в этой связи также опровержение слов Ракитина в суде путем раскрытия родства с Грушенькой, которое он всегда резко отрицал.
468
О фигурах, заменяющих отца, в «Братьях Карамазовых» см.: Golstein V. Accidental Families and Surrogate Fathers: Richard, Grigory, and Smerdiakov // A New Word on The Brothers Karamazov / Ed. by R. L. Jackson. Evanston, 2004. P. 90–106.
469
В «Дневнике писателя» Достоевский подчеркивал: «Семья ведь тоже созидается, а не дается готовою ‹…›. Созидается же семья неустанным трудом любви» (ПСС. Т. 22. С. 70).
470
ПСС. Т. 14. С. 183.
471
Там же. Т. 15. С. 190.
472
Аналитическая способность к саморефлексии отличает Жака Лантье еще и от ломброзианского прирожденного преступника (о теории Ломброзо см. главу VI.1 этой книги). Несмотря на явные переклички с теорией атавизма, составляющей эволюционистскую основу представления Ломброзо о «прирожденном преступнике» (delinquente nato), образ Лантье не вполне укладывается в ломброзианскую схему, на что указывал и сам основоположник криминальной антропологии (Rondini A. Cose da pazzi. Cesare Lombroso e la letteratura. Pisa, 2001. P. 60). Если принять во внимание, что рядом с интеллектуально развитым, высоконравственным, однако демонстрирующим признаки атавизма Лантье Золя ставит несдержанного, отмеченного физическими стигматами вырождения, однако, по сути, «невиновного» Кабюша, на которого несправедливо, но совершенно объяснимо с точки зрения криминальной антропологии падает подозрение в убийстве на сексуальной почве, – то может даже показаться, будто Золя задумал «Человека-зверя» как карнавальный перифраз теории Ломброзо. Связь между «Человеком-зверем» и криминальной антропологией также поясняет П. Матвеев в своей рецензии на роман Золя (Матвеев П. Атавизм в современном французском романе («La bête humaine» par É. Zola) // Русский вестник. 1890. № 11. С. 126–172).
473
ПСС. Т. 14. С. 112.
474
Там же. С. 22.
475
Там же. С. 354–355.
476
Link. Versuch über den Normalismus. S. 248.
477
Золя Э. Человек-зверь / Пер. с фр. Я. Лесюка // Золя Э. Собрание сочинений: В 26 т. Т. 13. Мечта. Человек-зверь. М., 1964. С. 231–642. С. 594. («Elle avait fini par l’acculer à la table, et il ne pouvait la fuir davantage, il la regardait, dans la vive clarté de la lampe. Jamais il ne l’avait vue ainsi, la chemise ouverte, coiffée si haut, qu’elle était toute nue, le cou nu, les seins nus. Il étouffait, luttant, déjà emporté, étourdi par le flot de son sang, dans l’abominable frisson. Et il se souvenait que le couteau était là, derrière lui, sur la table: il le sentait, il n’avait qu’à allonger la main» – Zola. Œuvres complètes. Vol. 6. P. 268.)
478
«В крови отца моего не повинен!» (ПСС. Т. 14. С. 412).
479
Мифо-символическая связь крови, наследственности и вырождения ярче всего проявляется в последнем томе «Ругон-Маккаров», романе «Доктор Паскаль» (1893). Смерть слабоумного Шарля Ругона, одного из последних отпрысков рода, в возрасте шестнадцати лет от носового кровотечения символизирует вырождение семьи, неудержимый «упадок рода», чья «ослабленная кровь» иссякает в энтропическом рассеянии (Warning R. Zola als Erzähler // Anfänge vom Ende. Schreibweisen des Naturalismus in der Romania / Hg. von L. Schneider und X. Jing. Paderborn, 2014. S. 29–48, здесь: 39–40). Одним из знаменитейших воплощений этой литературной связки: кровь, наследственность и вырождение – стал роман Брэма Стокера «Дракула» («Dracula», 1897) (Kline S. J. The Degeneration of Women. Bram Stoker’s Dracula as Allegorical Criticism of the Fin de Siècle. Rheinbach-Merzbach, 1992).
480
Этимологически «преступление» означает «поступок противный закону», действие по глаголу «преступать», т. е. «нарушать, выходить из пределов законов, прав своих, власти» (Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Т. 3. СПб.; М., 1907. С. 1033).
481
Невзирая на сильную неприязнь, почти ненависть к Смердякову, Иван начинает разговор «тихо и смиренно, себе самому неожиданно». В ходе беседы именно те фразы, в которых содержится косвенное задание убить, вырываются у Ивана внезапно и неожиданно, например: «да ты сам уж не хочешь ли так подвести, чтобы сошлось? – вырвалось у него вдруг»; «Я завтра в Москву уезжаю, если хочешь это знать, – завтра рано утром – вот и все! – ‹…› проговорил он, сам себе потом удивляясь, каким образом понадобилось ему тогда это сказать Смердякову»; «А из Чермашни разве не вызвали бы тоже… в каком-нибудь таком случае? – завопил вдруг Иван Федорович, неизвестно для чего вдруг ужасно возвысив голос» (ПСС. Т. 14. С. 244–250).
482
Там же. Т. 15. С. 117.
483
Ср. эпиграф к роману из Евангелия от Иоанна (12: 24): «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (ПСС. Т. 14. С. 5).
484
Ср. в связи с этим слова черта, который рассказывает бредящему Ивану о своей диалектической роли в происходящих в мире событиях.
485
Там же. С. 223–224.
486
Там же. С. 238.
487
Там же. С. 73.
488
Gerigk H.-J. Text und Wahrheit. Vorbemerkungen zu einer kritischen Deutung der «Brüder Karamazov» // Slavistische Studien zum VI. Internationalen Slavistenkongreß in Prag / Hg. von E. Koschmieder u. a. München, 1968. S. 331–348. S. 348.
489
По мнению Майкла Холквиста, Смердяков «обречен навсегда остаться беспомощным сыном» (Holquist M. Dostoevsky and the Novel. Princeton, 1977. P. 182).
490
ПСС. Т. 14. С. 90.
491
Там же. С. 115.
492
Там же. С. 114.
493
Там же. С. 353.
494
Там же. С. 409.
495
Хорст-Юрген Геригк тоже видит в Смердякове стигматы вырождения, однако не находит в них противоречия авторскому замыслу, так как в «Братьях Карамазовых» «не вырождение приводит к преступлению, а жажда зла вызывает дегенеративные проявления» (Gerigk H.-J. Der Mörder Smerdjakow. Bemerkungen zu Dostojewskijs Typologie der kriminellen Persönlichkeit // Dostoevsky Studies. 1986. № 7. P. 107–122. P. 117). Поэтому у Достоевского вырождение – это «типология post festum, в отличие от характерных для его века типологий ante festum» (Ibid. P. 120). Временное улучшение здоровья Смердякова после эпилептического припадка (когда Иван навещает его во второй раз) Геригк расценивает как признак того, что Смердякову «предоставляется возможность сознаться в содеянном и вернуться, понеся наказание, в человеческое общество, от которого он сам отлучил себя своим преступлением. На миг Смердяков обретает свободу выбора: восстановить справедливость или оставить все как есть. Эта свобода незамедлительно влечет за собой телесное выздоровление, которое, однако, сразу же останавливается и сменяется усугублением болезни после того, как Смердяков принимает решение осуществить дьявольский план самоубийства, чтобы сломать жизнь Дмитрию и оставить Ивана наедине с угрызениями совести» (Ibid. P. 118). Вопрос заключается в том, действительно ли Смердяков сталкивается с альтернативой, ведь и убийство, и самоубийство, как показано выше, структурно необходимы. Сочетание этой структурной необходимости с биологическим предопределением и придает контрэксперименту Достоевского явно противоречивый характер.

