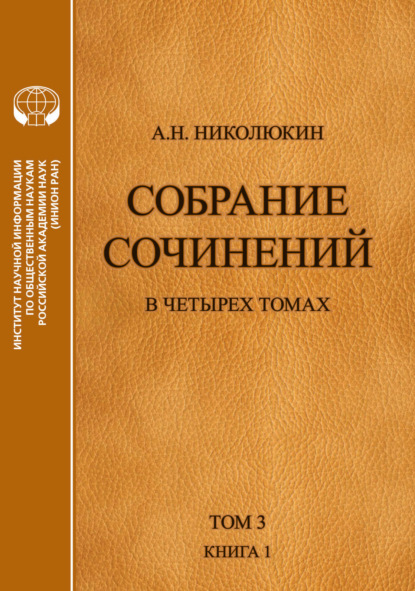
Полная версия:
Собрание сочинений в 4 томах. Том 3, книга 1. Человек выстоит. Фантастический реализм Фолкнера
Желанием увести подальше от своей творческой лаборатории объясняется и утверждение Фолкнера, что тот или иной роман написан «ради денег» или «чтобы купить хорошую лошадь». Американской публике были вполне понятны столь «деловые» мотивы сочинительства, и она оставляла автора в покое. Как не вспомнить здесь слова писателя, что в сегодняшней Америке нет места для художника, что деньги губят его талант. С грустью и сознанием абсолютной невозможности влиять на общественную жизнь своей страны говорил Фолкнер в 1955 г., будучи уже всемирно прославленным американцем: «Писатель в Соединенных Штатах не является частью культуры страны. Он подобен собачке, которую все любят, но никто не принимает всерьез» (141).
Эскапады молодого Фолкнера, автора эксцентричной автобиографии, в которой он вел свой род от истребленных ныне миссисипских аллигаторов, превратились позднее в юмор, столь щедро разбросанный по его книгам. Современники рассказывали немало историй о проделках курсанта Фолкнера, отправившегося в конце Первой мировой войны в Канаду изучать летное дело. Вернувшись в родной город, он продолжал свои «штучки». Иные из них были в традициях повес былых времен, другие обнаруживали желание посмеяться над принятой в Америке системой ценностей. Острый ум Фолкнера подмечал парадоксы американской духовной жизни.
Становление Фолкнера как человека и как писателя приходится на 1920-е годы. Как говорил американский критик Генри Нэш Смит, к 1932 г. писатель уже прошел три стадии отношения к людям и героям своих книг: «Сначала вам все вещи и все люди представляются положительными. Затем на втором, циничном этапе вы приходите к убеждению, что все плохие. А потом вы осознаете, что каждый способен почти на всякое – на героизм или трусость, на нежность или жестокость» (123). Таков теперешний Фолкнер, заключает критик, и таким он остался до конца своей жизни.
Периодизация творчества Фолкнера, естественно, вытекает из особенностей его художественного метода и развития повествовательной манеры. С тех пор как в 1929 г. появились романы «Сарторис», «Шум и ярость», в которых явно определилась специфика метода и стилистической манеры писателя, и вплоть до последних частей трилогии о Сноупсах, задуманных в то же время, но увидевших свет тремя десятилетиями позже, его творчество развивалось в одном направлении, составляя единый и цельный период художественных исканий. Даже роман «Притча», самый необычный в его наследии, над которым работа велась свыше десяти лет, не открывает нового периода, ибо здесь продолжены и развиты в философско-мифологическом плане художественные идеи, составляющие сущность йокнапатофского цикла романов. Лишь ранние пробы пера Фолкнера – от первых опубликованных стихотворений вплоть до романов «Солдатская награда» (1926) и «Москиты» (1927) – могут быть отнесены к ученическому периоду.
Нам представляется существенным рассмотреть художественную условность фолкнеровского романа, специфику его фантастического реализма в связи с развитием реализма ХХ в. и как определенный этап в движении того типа критического реализма, который связан с именем Достоевского. Особый интерес представляет проблема гуманизма Фолкнера, восходящая к национальной демократической традиции и наследию Достоевского, типологически весьма близкого творчеству американского писателя. Сильные и слабые стороны гуманизма Фолкнера становятся очевидны при сопоставлении с такими современниками, как М. Булгаков и М. Шолохов.
Воздействие Фолкнера на современный реализм проявляется широко и иногда самым неожиданным образом. Оно несводимо к каким-либо отдельным чертам и явлениям. Было бы неправильно объяснять тенденции развития современной американской литературы влиянием того или иного писателя, даже такого большого, как Фолкнер. Однако не без воздействия художественной системы Фолкнера в американской прозе практически исчез всезнающий автор, уступая место традиционному рассказчику или изложению событий с определенной точки зрения, когда читатель вынужден сам размышлять и обдумывать ситуации, от чего он нередко бывал избавлен в прежних книгах.
Сдвиг от авторского повествования, господствовавшего в литературе прошлого, к повествованию с позиций того или иного персонажа, рассказчика, отмечавшийся критикой, наконец, само расширение круга рассказчиков, формирующих повествование, – все это отражает тенденции, наметившиеся еще в романах Достоевского и разработанные писателями XX в.
* * *В ходе работы над настоящей книгой мною были подготовлены два издания У. Фолкнера: «Собрание рассказов» (1977) и «Статьи, речи, интервью, письма» (1985). Цитаты из Фолкнера приводятся по этим книгам, а также по вышедшему Собранию сочинений в шести томах (М.: Худож. лит., 1985–1987).
Произведения и письма Достоевского цитируются по изданиям: Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990; Достоевский Ф.М. Письма: [в 4 т.] / под ред. А.С. Долинина. М.; Л.: ГИЗ, 1928–1959. (Том и страницы, во втором случае с пометой «Письма», указываются в тексте.)
Вселенная Фолкнера
Однажды на охоте, когда усталая за день компания собралась у костра, друзья-охотники, наслышанные о таланте Фолкнера, попросили его рассказать что-нибудь занимательное. Писатель припомнил свой рассказ, так и оставшийся ненаписанным. Как-то американский солдат в Париже обратил внимание на красивую девушку, служившую в гостинице. Все его попытки познакомиться оказались тщетны: он не знал французского, а она английского. Единственное, чего удалось ему добиться, – это получить от нее записочку. Чтобы прочитать ее, он обратился к знакомому французу, но тот, прочитав, избил его. Тогда он обратился к своему командиру, но тот, ознакомившись с текстом, передал бедного солдата в трибунал. Его с позором уволили из армии, и вот, вернувшись в Новый Орлеан, он показал злополучную записку старой няньке-француженке. Едва взглянув на нее, она схватила метлу и выгнала его вон из дому.
По мере того как Фолкнер рассказывал, интерес слушателей возрастал. С него не спускали глаз, хотя рассказ длился уже почти час. Солдат обратился к адвокату, чтобы тот заключил с ним соглашение на прочтение французской записки, а в случае, если откажется ее перевести, должен будет заплатить миллион долларов. Когда договор наконец был подписан, солдат полез в карман, но записки там не оказалось – он потерял ее… Пораженные слушатели разочарованно молчали, затем разразились смехом, а некоторые еще долго не хотели простить писателю, что он целый час водил их за нос.
«Я ни разу не написал рассказа, который бы мне действительно нравился, – сказал Фолкнер в 1948 г. – Вот почему я пишу все новые рассказы»[17]. Это несколько парадоксальное замечание не случайно. Во время беседы в Маниле, где Фолкнер побывал в 1955 г. после посещения Японии, он развил эту мысль: «Причина, побуждающая писателя продолжать работу, заключается в том, что произведение – рассказ, стихотворение, книга, – которое он только что завершил, не выразило волнующей его правды, не соответствует его мечте, страстному желанию воплотить эту мечту. Поэтому он пишет другую книгу, другое стихотворение или рассказ. Поэтому, пока он жив, писатель будет продолжать писать, преследуя мечту, ибо, как только он сравняется с мечтой и создаст, как он верил, творение, озаренное светом истины и не уступающее мечте, ему ничего не останется, как прекратить работу» (205).
Вечный творческий поиск – что бы ни было уже сделано и что бы ни было найдено – определяющая черта облика американского писателя. «Покой нам только снится», – мог бы сказать он о себе и своей работе.
В 1950 г. в Нью-Йорке вышло в свет «Собрание рассказов» Фолкнера – итог двадцатилетнего поиска в жанре новеллистики, завершившегося лишь незадолго до присуждения писателю Нобелевской премии.
В письме к Малколму Каули, подготовившему в 1946 г. издание сборника избранных произведений, положившего начало широкому признанию писателя, Фолкнер рассказывает об этом замысле: «Чем больше я думаю о нем, тем больше мне нравится эта идея. Единственное предисловие, которое, как мне помнится, я прочел, причем мне было тогда шестнадцать лет, – это предисловие к роману Сенкевича… Точно не помню, но сказано там примерно следующее: “Эта книга написана в трудах”, может, там даже сказано “ценою мук или жертв”, с тем чтобы укрепить человеческие сердца. Я думаю, это единственно достойная цель любого произведения» (428).
Фолкнер рассматривал «Собрание рассказов» как целостное художественное произведение. В том же письме к М. Каули он подчеркивал, что «для собрания рассказов общая оформленность, связанность так же важны, как и для романа: то есть должна быть определенная цельность, единый настрой, развитие в направлении к одной цели, финалу» (428). Для писателя существовала огромная вселенная, в которую входил и округ Йокнапатофа, и вся Америка, а также Европа и весь мир. В центре книги – космос души современного человека в ее борении с собой и с миром социального зла.
Фолкнер предполагал написать предисловие к своему «Собранию рассказов», проникнутое мыслью о долге писателя возвышать человеческие сердца. Но он отказался от этой идеи, оставив ее до другого, может быть, более подходящего случая. Вскоре таковой представился. Чувства, вызревавшие у него с юности, писатель выразил в речи при получении Нобелевской премии, своего рода эстетическом кредо. Фолкнер не мог не вспомнить о только что изданном «Собрании рассказов», когда начал речь словами: «Я понимаю, что эта награда предназначена не мне, а моему труду – работе всей жизни в поте лица и душевных муках» (29). Завершающая мысль речи – о долге писателя – как бы вновь перекликается с тем, что хотел выразить Фолкнер в оставшемся не написанным предисловии к сборнику рассказов. Долг поэта, писателя, его привилегия состоят в том, чтобы «помочь человеку выстоять, укрепляя человеческие сердца, напоминая о мужестве, чести, надежде, гордости, сострадании, жалости, самопожертвовании – о том, что составляет извечную славу человечества» (30).
Когда студенты Виргинского университета однажды спросили Фолкнера, считает ли он, что человек победит, несмотря на угрозу самоуничтожения, писатель не только ответил утвердительно, но по существу высказался против модернистской концепции неверия в человека и его будущее. Тогда оппоненты задали ему иронический вопрос: «Сэр, полагаете ли вы, что человек с каждым днем становится все лучше и лучше во всех отношениях?» С присущим ему спокойствием Фолкнер отвечал: «Мне кажется, человек пытается быть лучше по сравнению с собственным представлением о себе. Думаю, именно в этом бессмертие человека, в его стремлении быть лучше, смелее, честнее. Иногда у него это не получается, а иногда, к собственному удивлению, он действительно становится лучше» (297). Возвращаясь к одной из своих капитальных идей, Фолкнер повторяет и развивает мысль о человеке, этом высшем мериле жизни и правды, в публицистических выступлениях и в новеллистике.
Немалая доля истины содержится в утверждении крупнейших американских критиков и среди них такого знатока творчества Фолкнера, как Малколм Каули, что Фолкнер прежде всего рассказчик. Не разделяя целиком точку зрения Каули, другой американский критик, Ирвинг Хау, признает, что «Фолкнер показал себя мастером повествовательной прозы, находящейся где-то между рассказом и романом»[18].
Сам Фолкнер сказал как-то, что писать роман легче, чем рассказ. «Можно быть более небрежным, в роман можно вставить больше всякого вздора, и вам это простят. В рассказе, который по сути своей близок к стихотворению, каждое слово должно быть предельно точным. В романе можно быть небрежным, в рассказе – нельзя. Я имею в виду настоящие рассказы, такие, как писал Чехов. Вот почему после поэзии я ставлю рассказ – он требует почти такой же точности, не допускает неряшливости и небрежности» (335).
Мастерство Фолкнера-новеллиста объясняется прежде всего точностью и выразительностью характеристик. И еще одним свойством, отличающим действительно большого писателя. Его рассказы (как и романы) заставляют читателя думать и после того, как книга прочитана. Они продолжают жить своей жизнью, в которую читатель вдруг получил право войти и попытаться разобраться самостоятельно без помощи и поддержки всеведущего автора, оставшись один на один с героями. Это самая удивительная способность таланта большого художника: создавать мир своих героев на таком уровне художественного воображения, что он представляется читателю столь же жизненным, как сама реальность.
В беседах и интервью Фолкнер не раз пытался объяснить свои художественный метод и стиль, поражавшие неподготовленного читателя необычностью целого и своеобразием частного. В Японии писателя спросили, не является ли его стиль результатом сознательных усилий в освоении различных новых форм в области прозы, или же он возникает естественно, и художник не может писать иначе, чем пишет. Характерно, что, отвечая на этот вопрос, писатель свел разговор о стиле к необходимости изображать правду жизни: «Я бы сказал, что стиль – следствие необходимости, настоятельной потребности… Человек знает, что не может жить вечно, что жизнь коротка. И в то же время в его душе, в его сердце горит желание выразить и некую всеобщую истину. Правда, он постоянно осознает кратковременность отпущенного ему на это срока. В моем случае это-то и объясняет стремление вместить все в одну фразу, поскольку возможности написать другую фразу может и не представиться» (186).
О стремлении выразить целое в одной фразе Фолкнер говорил во многих публичных выступлениях. При этом всегда отмечал, что стиль сам по себе его не волнует: у него просто нет времени заниматься стилем как таковым. Если писатель чересчур беспокоится о стиле, в конце концов у него не остается ничего, кроме стиля. И добавлял: «Я не имею в виду, что стиль не важен… Стиль очень важен… Я сам очень бы хотел писать ясно, прозрачно, просто» (299–300).
Выразить желаемое предельно сжато, уплотнить, превратить прозу в «тяжелую воду» мысли и чувства – это стремление не покидало писателя всю жизнь. Однажды слушатели военной академии Вест-Пойнт, куда Фолкнер приезжал незадолго до смерти, спросили, почему на первых страницах «Осквернителя праха» пишется «он» и не объясняется, кто это. Была ли при этом у писателя особая цель, или то результат процесса его художественного мышления, способ выражать свои мысли.
В своем ответе Фолкнер высказал одну из самых заветных идей, своего рода эстетический принцип, легший в основу всего его творчества. «Я думаю, что любому художнику – музыканту, писателю, живописцу – хотелось бы собрать весь свой опыт – все, что он видел, наблюдал и чувствовал, и сконцентрировать его в одном-едином цвете, тоне или слове… Художнику это не удается, но все-таки он не оставляет попыток. И неясность, многословность, обнаруживаемая вами в произведениях писателей, – следствие их страстного стремления вместить весь этот опыт в одном слове. Затем ему необходимо прибавить к нему еще одно слово, и рождается предложение, но он упорно пытается вместить весь свой опыт в одно нерасчленяемое целое – в абзац или страницу, прежде чем поставить точку» (382–383).
Фолкнер любил повторять, что он – неудавшийся поэт. Неудавшийся поэт, говорил он, становится новеллистом. Неудавшемуся же новеллисту не остается ничего иного, кроме романа, и он становится романистом. Только поэзия, полагал Фолкнер, может «сосредоточить всю красоту и страсть человеческого сердца на булавочной головке» (397–398).
Так относился писатель и к своей новеллистике, стремясь «поднять» ее до поэзии. Некоторые рассказы («Каркассонн») даже своей поэтикой приближаются к стихотворению, другие («По ту сторону», «Смертельный прыжок») кажутся прямо-таки созданными по совету Чехова: «Написав рассказ, следует вычеркнуть его начало и конец»[19].
Освобождение Чеховым жанра рассказа от предыстории явилось по существу революцией в этом жанре. Оно означало, что отныне читателю следует понимать смысл происходящего без пояснений автора, из одних поступков и разговоров героев рассказа. Именно по этому пути пошел в своей новеллистике Фолкнер.
Советский новеллист С. Антонов отмечал, что у Чехова «конец рассказа ощущается не как завершение ситуации, а как законченность мысли. Иногда завершение ситуации может совпасть с завершением мысли, а иногда и нет»[20]. В рассказах и романах Фолкнера мы встречаемся с обратным положением: завершенность действия, но незавершенность мысли, вернее, установка на продолжение мысли за пределами рассказа. В других произведениях писатель вновь и вновь возвращается к тем же героям, к тем же ситуациям и мыслям. Известна история создания романа «Шум и ярость», когда писатель четыре раза переписывал его с новой точки зрения и все же остался неудовлетворен итогом работы. Одни и те же герои цикла Йокнапатофы появляются на страницах книг Фолкнера именно потому, что, завершив то или иное действие, они не завершают мысль рассказа или романа. Так продолжался вечный поиск.
Незавершенность раздумий о судьбах героев и всей страны – одно из важнейших положений творчества Фолкнера, стремившегося передать жизнь в ее вечном движении, становлении, которое никогда не приводит к статичности образа. Этот художественный принцип в известной мере определяет композиционное сцепление романов и рассказов йокнапатофского цикла, то внутреннее движение мысли, которое ведет от одного произведения к другому.
Через микромир округа Йокнапатофа Фолкнер сумел взглянуть на всю страну и эпоху. В этой первоначальной ячейке, затерянной на Юге Америки, он разглядел образ, символ всего американского мироздания. Недаром однажды он заметил, что пространство родной земли величиной с почтовую марку дает достаточный материал, чтобы писать и никогда не исчерпать его.
* * *Всю свою жизнь Фолкнер провел в Оксфорде штат Миссисипи, лишь ненадолго выезжая в другие места, чтобы скорее вернуться домой. И хотя в молодости он побывал в Канаде и Европе, а после присуждения Нобелевской премии объехал многие страны, его неизменно тянуло к родным полям и холмам американского Юга, свидетелям всей его жизни, в которую он не любил кого-либо посвящать.
Фолкнер не терпел, когда интересовались его биографией. Это было личное, сокровенное. Для людей оставались его книги. Вот их и читайте, говорил он. Я люблю «Дон-Кихота», «Моби Дика», «Братьев Карамазовых», но мне нет никакого дела до Сервантеса, Мелвилла или Достоевского. Важны книги, а не их авторы.
Фолкнер вспоминает об одной из многочисленных попыток журналистов проникнуть в мир его личной жизни, когда известный литературный критик и эссеист, его старый приятель, сказал ему, что один популярный иллюстрированный еженедельник предложил этому критику хороший гонорар за статью о Фолкнере – за статью не о романах Фолкнера, а о нем самом как личности. Фолкнер сказал: «нет» и объяснил почему. «Я полагаю, что только произведения писателя представляют собой общественное достояние, только они могут подвергаться обсуждению, исследованию и рецензированию; таковыми их делает сам писатель, предлагая их для публикации и получая за них деньги… Его частная жизнь принадлежит ему самому» (87).
В одной из бесед на вопрос о том, где и когда он научился писать рассказы такой силы художественного воздействия, Фолкнер отвечал в свойственном ему спокойном, ироническом тоне: «Я научился этому, как мне представляется, по необходимости. Я был старшим из четырех братьев, и на нас были возложены определенные домашние обязанности – дойка и кормление скота и тому подобные работы. Довольно рано я обнаружил, что когда я рассказывал разные истории, то братья делали за меня всю работу. Вот тогда-то я и пристрастился к сочинительству. И мне удавалось, если дома было много работы, привлечь соседских ребят, и они работали как по контракту, пока я рассказывал» (384). Это все, что удалось слушателям узнать о личной жизни писателя.
Большинство историй «Собрания рассказов» посвящено Америке и американскому Югу. Здесь и мужество «высоких людей» (как называется один из рассказов), и непреклонность в рассказе «Жила однажды королева», людская низость и жестокость в «Лисьей травле» и «Уоше», корыстный расчет накопителя и традиционный южный юмор в «Медном кентавре», «Муле во дворе», «Медвежьей охоте», горести маленького человека («Пенсильванский вокзал», «Черная музыка»), положение негров на Юге («Засушливый сентябрь», «Когда наступает ночь»), проблематика индейских аборигенов в рассказах раздела «Дикая земля», сложная символика последней группы новелл, объединенных названием «По ту сторону». Все вместе это и есть тот мир Фолкнера, страна Йокнапатофа, даже когда действующие лица формально не входят в число тех 15 611 человек, которые, по утверждению писателя, населяли ее в 1936 г., и единственным владельцем которой был сам Фолкнер, создавший ее силой своего художественного воображения.
Начать знакомство с этой страной можно с любого романа или рассказа, хотя ни один из них не даст вам полного о ней представления. Для этого потребуется перечитать их все – и не просто перечитать, а прочитать каждый снова после того как прочитаны все другие. Тогда замкнется та великая цепь бытия, которой неразрывно связаны между собой герои всего цикла. Рассказ «Когда наступает ночь», например, вводит нас в круг героев «Шума и ярости», «Уош» – в проблематику романа «Авессалом, Авессалом!», рассказ «Моя бабушка Миллард, генерал Бедфорд Форрест и битва при Угонном ручье» служит прологом, а рассказ «Жила однажды королева» – эпилогом романа «Сарторис», рассказы «Медный кентавр» и «Мул во дворе» вошли позже в роман «Город», а «Поджигатель», напротив, когда-то входил в рукопись романа «Поселок», но затем Фолкнер изъял его оттуда, сохранив в начале романа лишь краткий пересказ событий этого рассказа.
Но, может быть, лучше всего путешествие по стране Фолкнера начать с одного из самых известных его рассказов – «Роза для Эмили» (1930). До сих пор критики ведут спор относительно него. Написаны десятки статей, в 1970 г. вышел специальный сборник исследований, посвященных рассказу, но критики не только не пришли к единому мнению по частным вопросам (например, лежала ли прядь седых волос на подушке рядом с трупом любовника Эмили со времени его убийства, или же она появилась там в последние годы), они не смогли согласовать даже вопроса о времени действия рассказа. И это не случайно. Рассказ Фолкнера исполнен внутренней противоречивости и оставляет после прочтения впечатление двойственности или, как ныне принято говорить, амбивалентности.
В «Розе для Эмили» писатель создал трагический апофеоз американского Юга, цепляющегося за прошлое в надежде сохранить его навсегда. Потерпев историческое поражение в Гражданской войне, Юг остался непреклонен в своей решимости не изменять существующие там условия общественной жизни. В одной из статей, написанных много позже, Фолкнер говорил по этому поводу: «Северянин даже не представляет себе, что на самом деле доказала Гражданская война. Он полагает, что она доказала неправоту южан. Однако южанин и без того понимал, что он неправ, сознавал неизбежность жертвы. Эта война должна была убедить Север – но этого не произошло, – что Юг не остановится ни перед чем, даже перед фатальной неизбежностью поражения, чтобы сохранить существующие условия жизни белых и черных и не допустить их изменения силой закона или путем экономической угрозы»[21].
Стареющая Эмили, ее дом с разлагающимся трупом убитого ею возлюбленного и молчаливым слугой-негром Тобом – это тот Юг, который всю жизнь так мучительно любил и одновременно ненавидел Фолкнер. Когда его спросили о смысле названия рассказа, он ответил: «Была простая женщина, у которой не было личной жизни. Отец ее держал взаперти, а потом у нее появился любовник, который хотел ее бросить, и ей ничего не оставалось, как убить его. Так что это просто Роза для Эмили» (299). Думается, однако, что рассказ глубже, чем дань простого человеческого сочувствия несчастной женщине.
Представляют ли герои рассказа – Эмили и ее любовник Гомер Бэррон – Юг и Север в их ожесточенной схватке, из которой Юг довольно странным образом выходит победителем, – этот вопрос давно интересовал читателей, и об этом они спросили писателя. И хотя автор не всегда оказывается лучшим судьей своих произведений, ответ Фолкнера поможет нам разобраться в сложном сплетении художественного вымысла и реальных исторических судеб общества, изображенного в рассказе. Вот что он ответил: «Писатель использует свою среду, то есть то, что он знает, и, если есть какая-то символика в том, что мужчина представляет Север, а убившая его женщина – Юг, я не хочу сказать, что такой подход не оправдан и символики здесь нет, но это не сознательное намерение автора» (280). В этом утверждении нашла отражение диалектика творчества Фолкнера как автора романов об историческом прошлом и как художника, обращающегося к современной Америке.
Но у рассказа есть и другая сторона, на которую до сих пор не обращалось внимания. «Роза для Эмили» – своеобразный сатирический гротеск, мрачным светом озаряющий жизнь Юга. Американские исследователи (Роберт Вудворт, Пол Макглинн и др.), специально занимавшиеся хронологией событий в рассказе (хотя и не достигнув при этом единого мнения), отмечают, что так как полковник Сарторис освободил Эмили от уплаты налогов в 1894 г., о чем говорится на первой странице рассказа, а сам он умер в 1919 г. (как явствует из романа «Сарторис»), то посещение дома Эмили делегацией муниципалитета через десять лет после его смерти приходится примерно на 1929 г. Таким образом, смерть Эмили отнесена к концу 1930-х годов (после делегации муниципалитета в дом «лет десять не ступала нога постороннего человека»).



