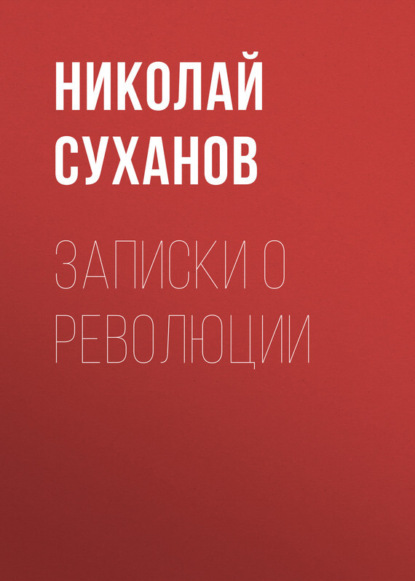 Полная версия
Полная версияЗаписки о революции
И все же правительство было уже низвергнуто 21 октября, как царь Николай – 28 февраля. Теперь оставалось, в сущности, завершить сделанное дело. Оставалось, во-первых, оформить переворот, объявив новое правительство, а во-вторых, фактически ликвидировать претендентов на власть, достигнув тем самым всеобщего признания совершившегося факта.
Значение этого факта, совершившегося 21 октября, было неясно не только обывателю и стороннему наблюдателю, оно не было ясно и самим руководителям переворота. Загляните в воспоминания одного из главнейших деятелей октябрьских дней, секретаря Военно-революционного комитета Антонова-Овсеенки. Вы увидите полную «несознательность» в области внутреннего развития событий. Отсюда проистекала и бессистемность, беспорядочность внешних военно-технических мероприятий большевиков. Это могло бы кончиться для них совсем не так удачно, не имей они дело с таким противником. Было счастье, что противник был не только несознателен, но и совершенно слеп, и не только слеп, но и равен нулю в смысле реальной силы…
Но тут надо считаться вот с чем: ни Смольный, ни Зимний не могли сознавать полностью смысл событий. Он затемнялся историческим положением Совета в революции. Путаница понятий неизбежно происходила оттого, что уже полгода вся полнота реальной власти была в руках Совета, а наряду с этим существовало правительство, да еще независимое и неограниченное. Совет по традиции не признавал себя властью, а правительство по традиции не сознавало себя чистейшей бутафорией… Да ведь и гарнизон-то, в частности, сколько раз выносил резолюции, почти тождественные его вотуму 21 октября. Сколько раз он присягал в верности Совету! И после июльских событий, и в дни корниловщины… А ведь это не только не было переворотом, но даже производилось-то во славу коалиции. Где же тут заметить, что сейчас произошло нечто совсем иное!..
Этого никак не могли заметить в Зимнем. Но этого не оценили и в Смольном. Если бы заметили в Зимнем, то отчаянная попытка в ту же минуту разгромить Смольный была, казалось бы, неизбежной. Если бы оценили в Смольном, то неизбежность такой попытки со стороны Зимнего, казалось бы, должна была быть очевидной, и для ее предотвращения было бы необходимо ликвидировать Зимний немедленно, единым духом…
Но нет, дело переворота обеими сторонами считалось еще не начатым. Зимний после вотума 21 октября и ухом не повел. А Смольный потихоньку, ощупью, осторожно и беспорядочно приступил к тому, что казалось сущностью переворота, а на деле было лишь его оформлением и фактическим завершением.
Через несколько часов после собрания гарнизона, в ночь на воскресенье 22 октября, представители Военно-революционного комитета явились в Главный штаб, к командующему округом Полковникову. Они потребовали права контрассигновать все распоряжения штаба по гарнизону. Полковников категорически отказался. Представители Смольного удалились.
Главный штаб – это был главный штаб враждебной армии. Правильная тактика (по Марксу) требовала, чтобы повстанцы, будучи нападающей стороной, сокрушительным натиском, внезапным нападением разгромили, разорили, парализовали, ликвидировали этот центр всей вражеской организации. Отряд в 300 человек добровольцев – матросов, рабочих, партийных солдат – мог сделать это без малейшего затруднения. В это время никому ив голову не приходила возможность такого набега… Но Смольный поступил иначе. Большевики пришли к врагу и сказали: мы требуем себе власти над вами.
Акт Военно-революционного комитета в ночь на 22 октября был совершенно излишним. Он мог оказаться весьма опасным, если бы вызвал достойный ответ со стороны штаба. Но он оказался совершенно безопасным. Командующий округом не понял этого акта и не дал достойного ответа. Он мог арестовать делегатов «частной организации», которая (подобно Корнилову 26 августа) требует себе власти над высшей военной властью и вступает определенно на путь мятежа. Затем Полковников мог, собрав 500 юнкеров, офицеров и казаков, сделать попытку разгромить, разорить, парализовать Смольный, и в данный момент он имел немало шансов на удачу. Во всяком случае, казалось бы, ему больше ничего не оставалось делать.
Но штаб ничего не понял. Да и в самом деле: ведь это не в первый раз Совет желает контрассигновать его распоряжения. Ведь в апрельские дни нечто подобное было объявлено по гарнизону даже без всякого предупреждения: командующему не выводить войск из казарм без разрешения таких-то советских меньшевиков и эсеров. И никакого тут не было мятежа и переворота. Отлично объяснились с Гучковым и Милюковым в контактной комиссии. Зачем же сейчас думать о переворотах, о мятежах?.. Полковников ответил категорическим отказом. Делегаты ушли ни с чем. Все в порядке.
На другой день, в воскресенье, командующий округом давал журналистам компетентные разъяснения о сущности происшедшего конфликта. Дело, видите ли, в том, что правительство не пожелало утвердить комиссара, присланного в штаб Петербургским Советом. Правительство не хочет признать на таком посту большевика. К тому же при штабе уже есть комиссар, присланный ЦИК. Кроме того, в частях Петербургского гарнизона в последнее время усиленно идут перевыборы комиссаров частей: меньшевики и эсеры выбрасываются, а на место их всюду ставятся большевики. Правительство опротестовывает выборы… Вот в чем сущность конфликта. Но надо надеяться, что он будет улажен. Тем более что День Совета, как видим, проходит спокойно.
Все внимание Зимнего и штаба было приковано к уличным выступлениям. На случай их «меры принять!». Но выступлений нет. Стало быть, все в порядке. Можно заниматься очередными делами.
В воскресенье, 22 октября, совет министров ими занимался. Подписана отставка Верховскому. На его место был пожалован реакционный генерал Маниковский. Не признано возможным отказаться от посылки Терещенки на Парижскую конференцию. Но в качестве дани назревающему оппозиционному предпарламентскому блоку была решена уступка: в члены делегации кроме Терещенки были пожалованы Коновалов и Прокопович.
Впрочем, глава правительства вник и в дело охраны порядка. Он хорошо усвоил себе существо конфликта между штабом и Смольным. Полковников подробно доложил ему, в чем дело. Умных и государственных людей не собьешь с толку: Москва некогда сгорела от копеечной свечки; мировая война не столь давно началась из-за убийства австрийского наследника, а конфликт между Смольным и штабом возник из-за неутверждения комиссаров…
Ясно-то оно ясно, но все-таки Керенский, по слухам, стоял за окончательную ликвидацию Военно-революционного комитета. Керенский был решителен. Но… его убедил Полковников немного подождать: он уладит! А кроме того, как сообщают «Известия», Керенский в воскресенье имел на эту тему беседу с некоторыми членами ЦИК (не с Гоцем ли, почтенные «Известия»?), которые ему заявили, что «в этом конфликте они безусловно на его стороне, но просят его воздерживаться пока от активной борьбы, так как надеются разрешить конфликт мирным путем, посредством переговоров членов ЦИК с Петербургским Советом». Очень хорошо и мудро! Керенский стал ждать…
Между тем в Смольном стал собираться на экстренное заседание Совет. Депутаты собрались кое-как. Большинство их митинговало по заводам и другим местам. Но не в депутатах было дело. Дело было опять в представителях полков, которых снова собрали в экстренном порядке… К ним прилетел Троцкий, который и разъяснил им новое положение дел. Штаб, оказывается, не согласен подчиниться контролю Военно-революционного комитета. Не правда ли, это очень странно?.. Но так или иначе это обязывает к «дальнейшему шагу».
Дальнейший шаг был предложен и сделан в виде телефонограммы, немедленно разосланной по всем частям гарнизона. Телефонограмма была дана от имени Совета и гласила:
«На собрании 21 октября революционный гарнизон Петрограда сплотился вокруг Военно-революционного комитета, как своего руководящего органа. Несмотря на это, штаб Петроградского военного округа не признал Военно-революционного комитета, отказавшись вести работу совместно с представителями солдатской секции Совета. Этим самым штаб порывает с революционным гарнизоном и с Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов. Порвав с организованным гарнизоном столицы, штаб становится орудием контрреволюционных сил. Военно-революционный комитет снимает с себя всякую ответственность за действия штаба… Солдаты Петрограда! Охрана революционного порядка от контрреволюционных покушений ложится на вас под руководством Военно-революционного комитета. Никакие распоряжения по гарнизону, не подписанные Военно-революционным комитетом, не действительны. Все распоряжения Совета на сегодняшний день – День Петроградского Совета остаются в полной своей силе. Всякому солдату гарнизона вменяется в обязанность бдительность, выдержка и неуклонная дисциплина. Революция в опасности! Да здравствует революционный гарнизон!»
В этом документе предпосылки вполне пустопорожни и никчемны; это только страшные агитационные слова с очень наивным содержанием. Но выводы крайне существенны: гарнизону не исполнять приказаний законной власти.
Это уже был определенно акт восстания. Теперь враждебные действия были определенно начаты перед лицом всего народа… Но, не правда ли, вместе с тем были двинуты войска для занятия штаба, вокзалов, телеграфа, телефона и других центров столицы? А также были отправлены отряды для ареста Временного правительства? Ведь нельзя же определенно и недвусмысленно перед лицом страны и армии объявить войну и не начинать боевых действий в ожидании, пока инициатива перейдет в руки неприятеля.
Однако дело было именно так. Война была объявлена в терминах, не допускающих сомнений, а боевые действия не начинались. Никто не покушался ни на штаб, ни на Временное правительство… Мягко выражаясь, это было не по Марксу. И все же такой образ действий оказался вполне безопасным.
Получив объявление войны, но не будучи ни арестован, ни связан в своих действиях, взял ли штаб инициативу в свои руки? Бросился ли он на мятежников в последней отчаянной попытке отстоять государство и революцию от антигосударственных большевиков?.. Ничего похожего штаб не сделал.
Вместо боевых действий Полковников назначил заседание в штабе. На него были приглашены представители ЦИК, Петербургского Совета и полковых комитетов. Из Смольного на это заседание прислали известного большевистского прапорщика Дашкевича с двумя-тремя представителями только что закончившегося гарнизонного собрания. Дашкевич без долгих разговоров повторил постановление этого собрания, то есть содержание приведенной телефонограммы: все распоряжения штаба должны контролироваться, без чего выполняться не будут… А затем делегация Смольного удалилась, не пожелав выслушать противника.
В штабе начали судить-рядить, что делать. Немногочисленные представители гарнизонных комитетов докладывали о настроении своих частей. Они, конечно, не могли сказать ничего утешительного для начальника округа. Но тогда (см. газеты) представители штаба стали утешать сами себя: ведь конфликт произошел из-за неутверждения комиссара; это ничего; это произошло только потому, что уже раньше был утвержден избранник ЦИК. Как-нибудь уладится… В газетах затем читаем: «После непродолжительного обмена мнений никаких определенных решений не было принято; было признано необходимым выжидать разрешения конфликта между ЦИК и Петроградским Советом» («Речь» № 250).
Очень хорошо. Но как же в самом деле: были ли большевики робки, несознательны, корявы, или они знали, с кем имели дело? Был ли с их стороны преступно-легкомысленный риск, или они действовали наверняка?
Заседание в штабе состоялось уже вечером. Одновременно с Дашкевичем, направлявшимся в штаб, из Смольного выехала группа товарищей – небольшевиков, примиренчески настроенных. В их присутствии была принята мятежная телефонограмма. Они видели, что смягчить формы кризиса можно только немедленным соглашением советских партий – на платформе немедленной ликвидации керенщины. Из Смольного эта группа бросилась искать лидеров советских партий. И она нашла их в Мариинском дворце.
Мы заседали там в междуфракционном совещании, отыскивая общую формулу по внешней политике. Люди из Смольного прервали нас. Они рассказали о чрезвычайных событиях, происшедших в эту ночь и сегодня днем после бесчисленных, решительных, многотысячных митингов Дня Совета. Люди из Смольного, в числе которых помню Капелинского, поставили вопрос: что делать?.. Но ведь мы знаем со слов «Известий»: «Члены ЦИК были безусловно на стороне Керенского…» Во всяком случае, сейчас в Мариинском дворце случайная группа ни до чего не договорилась. Да и подлинно ли серьезно дело? Авось…
Тем временем командующий округом Полковников снова докладывал о новом положении министру-президенту. Керенский и другие министры вновь выдвигали вопрос об окончательной ликвидации Военно-революционного комитета: «Самая идея его организации является прямым вмешательством в компетенцию военных властей». Но… Полковников убедил подождать: с Военно-революционным комитетом ведутся переговоры об «увеличении числа представителей Совета при штабе, соглашение возможно». Было решено «пока ограничиться требованием отмены телефонограммы».
Глупо? Непонятно? Оперетка?.. Да, но вы забываете, что в апреле было то же…
Однако Керенский после ночного заседания правительства отправился из Зимнего в штаб и провел там ночь за работой. Он собирал силы на случай «выступления большевиков». При этом премьер сотрудничал с начальником штаба округа генералом Багратуни: командующий Полковников возбудил недовольство Зимнего своей нерешительностью…
Какие же были силы у Керенского? Конечно, прежде всего это был вообще гарнизон столицы. Ведь вся полнота власти в руках Временного правительства; военные власти на своих местах, и их доклады нам известны: «Нет никаких оснований думать, что гарнизон не исполнит приказов». Если бы не было такого убеждения, то, конечно, вся картина поведения Зимнего и штаба была бы иная…
Но все же против большевиков могут потребоваться особо надежные части, на которые можно опереться без всякого риска и в любых пределах. Это ведь было признано еще тогда, когда вызывался с фронта 3-й корпус, то есть в августе. И с тех пор изыскивались эти особо надежные кадры, которые могли понадобиться против внутреннего врага. Этот самый 3-й корпус, во главе которого еще Корниловым был поставлен реакционнейший генерал Краснов, был расположен в окрестностях Петербурга. Керенский в первых же числах сентября шифрованной телеграммой на имя Краснова приказал разместить этот корпус в Гатчине, Царском и Петергофе. В последнее время корпус частью растащили по ближайшей провинции ради усмирения бунтовавших гарнизонов. Все же красновские казаки были бы серьезной угрозой большевикам… если бы большевики по соседству серьезно не поработали среди казаков, не вошли бы с ними в контакт, не обещали бы им мира и немедленной отправки на любезный Дон…
Но во всяком случае, эти части считались особо надежными. Керенский снова, как в августе, первым делом обратился к ним. Однако большевики приняли свои меры. Северный областной советский съезд достаточно скрепил их военную организацию. Передвижению казаков были оказаны всякие технические препятствия. И в течение трех ближайших суток казаки не попали в Петербург. Впрочем, я не утверждаю, что Керенский в ночь на 23-е приказал красновцам выступить. Скорее он приказал только быть наготове.
Кроме казаков особо надежными считались, конечно, юнкера. Большевики – частью убеждением и угрозами, частью техническими средствами – воздействовали и на них. Из уездов по приказу Керенского в Петербург явилось их не так много. Но во всяком случае, Зимний с 23-го числа охранялся по преимуществу юнкерами. Наиболее активными оказались Николаевское инженерное и Михайловское училища. Вместе с юнкерами на охрану правительства и порядка был двинут женский ударный батальон. Он по частям также стал теперь дежурить в Зимнем.
Видимо, в ту же ночь Керенский и Багратуни распорядились о вызове в Петербург батальона самокатчиков. Батальон было двинулся, но потом решил запросить Смольный: зачем его зовут и надо ли идти? Смольный «с братским приветом», конечно, ответил, что совсем не надо…
Вообще с вызовом особо надежных войск дело обстояло негладко, очень негладко. Но особенно тревожиться нечего. Ведь это только на всякий случай. Может быть, никакого выступления не будет. День Совета прошел без всяких эксцессов… Правда, большевики осуществили свое решение: распоряжения штаба действительно контролируются на местах комиссарами частей. Но все же распоряжения исполняются.
Какие же именно штаб делал распоряжения в эту ночь и на следующий день? Это были распоряжения о караулах и нарядах. Их контролировали, но выполняли. И караулы, и наряды несли в эти сутки, можно сказать, блестяще. Полковников ставил это на вид. Стало быть, все в порядке.
В понедельник, 23-го, с утра в Предпарламенте при довольно пустом зале мирно текли скучные прения поспешней политике. Вчера была какая-то тревога, был бурный День Совета, но все миновало, и серьезные люди перешли к своим очередным делам… Говорили разные микроскопические фракции. С ораторами лениво перекрикивались зевающие депутаты.
Я не помню оживления и в кулуарах. Не помню никакой особой реакции на чрезвычайные события. Большевики? Ну ведь они всегда… Я атаковал товарищей по фракции и требовал обсуждения общеполитической проблемы. Но, несмотря на сочувствие многих, из этого ничего не выходило. Мартов и его верные Мартынов, Семковский, Астров решительно саботировали, ссылаясь на то, что еще будут наши выступления, будет резолюция по внешней политике и мы скажем все, что надо. Мартов по-прежнему считал несвоевременными решительную атаку и курс на немедленную коренную ликвидацию керенщины…
А в Смольном в эти часы все шло своим порядком. Заседал Военно-революционный комитет. Тут же для связи находились представители от каждого полка. Работа была непрерывной. Но работали одни большевики. Их партийная военная организация, конечно, поступила в полное распоряжение комитета… Было избрано бюро: председатель Лазимир, его товарищ Подвойский, секретарь Антонов, члены Садовский, Сухарьков. Как видим, все люди не особенно именитые, а иные просто никчемные. Но тут же работали и крупные организаторы: Свердлов, Лашевич и – всему венец – Троцкий.
Смольный в эти дни сильно преобразился. Отделы ЦИК почти не работали. Их чистенькие комнаты во втором этаже были закрыты. Но Смольный гудел новой толпой совсем серого вида. Было грязно, заплевано, пахло махоркой, сапогами, мокрыми шинелями. Всюду сновали вооруженные группы матросов, солдат и рабочих. Непрерывной чередой тянулись всякие ходоки и делегаты частей по лестнице в третий этаж, где пребывал Военно-революционный комитет. Но главная толкотня была внизу, около комнаты № 18, где помещалась большевистская фракция Совета…
В эти дни тут уже было несколько сотен провинциальных делегатов, приехавших на съезд. Это были кадры полезных работников, первоклассных провинциальных организаторов и ораторов, поступивших в распоряжение Военно-революционного комитета. Однако эти слова надо понимать весьма относительно: эта квалификация не исключает очень низкого культурного уровня и совсем нежного политического возраста огромного большинства из этой делегатской массы. Если на первом, июньском съезде в кадетском корпусе мы имели дело с меньшевистско-эсеровской интеллигентской обывательщиной, мещански косной и находящейся в плену у бульварной прессы, то сейчас перед нами была совсем серая масса, «серая сотня», носительница стихийного духа, разгулявшегося по лицу русской земли.
Ныне были «приняты меры» к охране Смольного. У некоторых дверей стояли вялые часовые. Внизу дежурили караулы. А в подъезде между колоннами под чехлом дремала трехдюймовка. Но сомнений тут быть не могло: хороший отряд в пятьсот человек был совершенно достаточен, чтобы ликвидировать Смольный со всем его содержанием… Так же как было достаточно такого отряда 28 февраля, чтобы разгромить Таврический дворец и направить всю революцию совсем по иному руслу…
В заседании Военно-революционного комитета решались важные дела. Прежде всего была составлена и отдана для распубликования следующая прокламация к населению Петербурга:
«В интересах защиты революции и ее завоевании от покушении со стороны контрреволюции нами назначены комиссары при воинских частях и особо важных пунктах столицы и ее окрестностей. Приказы и распоряжения, распространяющиеся на эти пункты, подлежат исполнению лишь по утверждении их уполномоченными нами комиссарами. Комиссары, как представители Совета, неприкосновенны. Противодействие комиссарам есть противодействие Совету. Советом приняты меры по охранению революционного порядка от контрреволюционных и погромных покушений. Все граждане приглашаются оказывать всемерную помощь комиссарам. В случае возникновения беспорядков надлежит обращаться к комиссарам Военно-революционного комитета в ближайшую воинскую часть».
Какое практическое значение могла иметь эта прокламация? Разумеется, ни малейшего. Большевистской защите от контрреволюции обыватель не поверит, а рабочим районам и казармам эта дипломатия не нужна. Что же касается каких-то беспорядков, то никто из «граждан», конечно, не стал бы обращаться за содействием к каким-то большевистским комиссарам… Результат прокламации мог быть только один: население столицы могло усвоить то, что ему вбивали в голову: мы, большевики, начали восстание против законной власти.
Зачем это вбивалось в головы всем и каждому при полном воздержании от боевых действий, мне не вполне ясно. Но положение правительства казалось теперь совсем невыносимо. Казалось, после этой всенародной пощечины должна немедленно произойти схватка.
Но все было тихо… Делает ли Смольный глупости или играет с Зимним, как кошка с мышью, провоцируя его нападение? Решил ли уже Зимний сдаться за безнадежностью борьбы или «мудро» не идет на провокацию, выжидая момента?
Что предпринимали в штабе и в Зимнем в эти часы, мне совершенно неизвестно. Вероятнее всего, ждали, пока меньшевистско-эсеровские лидеры уладят «конфликт», отстояв для неограниченных и полномочных правителей их прежние положения опереточных министров.
Однако, насколько я знаю, ни ЦИК, ни «звездная палата» не предпринимали никаких мер воздействия на Смольный. Бесполезность переговоров была очевидна. Не рискуя быть жестоко осмеянными, Дан и Гоц могли бы явиться в Смольный только в том случае, если бы они решительно поставили крест на всяком контакте с буржуазией и категорически присоединились бы к большевистской платформе мира и земли. Но до этого было далеко.
Именно в эти дневные часы Дан был в Смольном. Но не для переговоров с большевиками. Он собрал меньшевистских делегатов и наставлял их по «текущему моменту». Коренная реконструкция власти, говорил он, сейчас несвоевременна, но частичное обновление кабинета возможно и нужно в связи с «новым курсом политики демократии». Новый курс состоит в решительной политике мира. Для нее, пожалуй, придется пожертвовать Терещенкой. Мирные переговоры, по мнению Дана, это дело ближайшего будущего.
Все это, конечно, был существенный прогресс, но идти к большевикам для переговоров о «ликвидации конфликта» с таким багажом было бесполезно. Да советские лидеры об этом, видимо, и не думали, занимаясь текущими делами в своих фракциях и в Предпарламенте… Впрочем, на вечер 23-го было назначено заседание бюро ЦИК. Оно должно было состояться в Мариинском дворце. В порядке дня было большевистское «выступление»…
А пока все, что сделал ЦИК для «ликвидации конфликта», выразилось в прокламации, опубликованной комиссаром «звездной палаты» при Главном штабе. Таковым состоял некто Малевский. И за душой у него не нашлось ровно ничего, кроме голого требования спокойствия и порядка во избежание гражданской войны, которая будет на радость врагам революции.
Этого было явно недостаточно. Если правительство, ничего «решительного» не предпринимая, ждало, пока ЦИК ликвидирует конфликт, то ведь так всегда было. Ведь здесь искони сосредоточивались все надежды наших полномочных, независимых, неограниченных. Ведь таков был древний закон и порядок: в «нормальное» время неприхотливым звездоносцам давали пинка, требуя, чтобы они помалкивали на задворках и не совали нос в государственные дела; в острые же моменты им кричали: спасайте, на то вы и существуете!.. И до сих пор малых ребят из Зимнего всегда спасали дядьки Смольного.
Но сейчас дядьки были выжиты из Смольного. Там теперь жили серые волки. А дядьки оказались не только беспомощны, но и нераспорядительны. Они забыли свои обязанности и занимались текущими делами, когда волк уже разинул пасть. Ведь это прямая измена! Ведь они предают неограниченных!.. Малое дитя, если бы видело как следует опасность, имело бы все основания кричать не только от страха, но и от обиды. Но дело-то в том, что дядьки прозевали опасность не только для господского дитяти: ведь пасть была разинута и для них самих.



