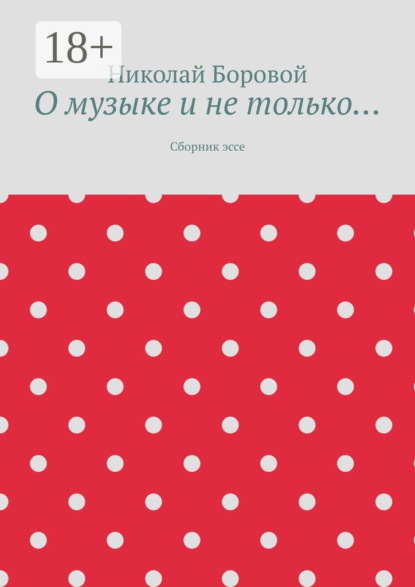
Полная версия:
О музыке и не только… Сборник эссе
…Тем более, что Антон Рубинштейн – один из выдающихся дирижеров своей эпохи, а кроме того – один из легендарных, великих, непревзойденных пианистов, которых когда-либо знала история игры на фортепиано. Среди многих сотен имен выдающихся исполнителей, многих десятков пианистов-виртуозов, современников Рубинштейна, музыкальная критика ставит Рубинштейна в ряд с еще четырьмя фигурами, стоящими в истории этого искусства особняком и считающимися непревзойденными – Ф. Лист до него, С. Рахманинов, Бузони и С. Рихтер после него. Антон Рубинштейн еще при жизни Ф. Листа добился признания «равновеликого» ему пианиста, после его смерти сменил его на «пьедестале» первого пианиста мира, предшествовал в этом С. Рахманинову. Собственно, Рубинштейн изначально и раскрыл себя как гениальный ребенок-пианист, уже в десятилетнем возрасте он совершил турне с моцартовскими концертами по европейским столицам, в возрасте 13 лет он становится молодым другом Шопена, Листа, Мендельсона, после – философа Артура Шопенгауэра, входит в дом Гете, будучи всего 14 лет от роду он слышит о себе слова Листа – «вот человек, который сменит меня». С раннего же возраста раскрывается композиторский талант А.Рубинштейна, яркий и самобытный, разноплановый. Фактически, посреди длинного ряда имен великих исполнителей, раскрывших себя и в музыкальном сочинительстве, исполнительское искусство которых привело на определенном этапе пути к развитию музыкальной, композиторской фантазии, Антон Рубинштейн, как Гуммель, Лист или Рахманинов – это редкий пример художника, в котором сосуществовали два равновеликих, самобытных и параллельно развивавшихся таланта композитора и исполнителя. Причем гений Рубинштейна поражает здесь еще и тем, что как композитор он не был привязан к «материнскому» инструменту, как например Шопен, Паганини, Шпор или Крейцер, а работал в самых разнообразных жанрах, прекрасно чувствовал и другие инструменты, проявил пример самобытного оркестрового мышления. Но что же позволило А.Рубинштейну, среди десятков выдающихся пианистов-виртуозов, его предшественников и современников, таких как Е. Тальберг и К. Таузиг, Г. фон Бюлов и К. Шуман, В. Тауберт и П. Бенуа, наконец – его выдающийся брат Николай, занять место первого и непревзойденного исполнителя, рядом с именем которого может стоять только имя великого Ференца Листа? Недаром же склонные к высокопарным метафорам немецкие критики писали – разница между А.Рубинштейном и другими солистами такова же, какова разница между львом – царем зверей – и другими животными… Метафора эта, кстати, прижилась и сопровождала великого артиста на протяжении всей жизни. Музыкальный критик В. Стасов в статье «Руки Рубинштейна», написанной через год после смерти пианиста и композитора, так же пользуется ей – описывая музыкальный вечер у поэта Я. Полонского в 1889 году, он рассказывает, как проходя мимо репетиционной залы, он внезапно замер, потрясенный раздавшимися звуками фортепиано, полными мощи, глубины, неповторимой красоты: «лев – пишет он – разминал свои царственные лапы». Пианизм А.Рубинштейна отличался не просто исключительной техникой виртуоза, а «вулканической» мощью исполнительского темперамента, гениальной способностью к импровизации, непревзойденной способностью к интерпретации, почти актерскому «вживанию» в исполняемое произведение, его эмоциональные и философские смыслы, сам пианист отмечал всегда по этому поводу, что исполнение произведения должно быть его сотворчеством, его всякий раз новым открытием и переживанием. По различным воспоминаниям современников и слушателей – талант Рубинштейна-пианиста не был запечатлен в звукозаписи – исполняя произведение, Рубинштейн словно бы «здесь и сейчас» эмоционально проживал его, раскрывал происходящее «внутри» произведения, скульптурно рисовал заложенные в нем эмоциональные и философские смыслы, творил тот же эффект эмоционального потрясения публики и эмоционально-волевого воздействия на нее, который творит актер на сцене в трагических ролях. Блестящая виртуозность и глубина интерпретации, титаническая мощь исполнения, эмоционального «вживания» в произведение – таким осталось в памяти современников искусство великого пианиста. Небывало экспрессивная манера рубинштейновского исполнения была притчей во языцах, нашла отображение в карикатурах того времени, при этом, как отмечали слышавшие пианиста, если он ощущал необходимость, он мог заставить инструмент звучать на тончайшем piano, полном краски, которое охватывало огромный зал и проникало в самые последние закоулки такового. Кроме того, исполнению Рубинштейна было свойственно скульптурное ясное понимание произведения, его «устройства» и замысла, пронизывающих его смыслов и образности, темы и композиционная структура произведения, с присущим таковым смысловым символизмом, всегда представали слушателю из под вдохновенных рук пианиста наиболее ясными и «раскрытыми», об этом пишет, например, С. Майкопар, возможно – композиторский дар и глубина самостоятельного музыкального мышления, дополняли здесь великий исполнительский талант Рубинштейна. Некоторое представление о том, чем являлось фортепиано в руках Рубинштейна, может дать высказывание критика Г. Лароша – «Для меня… фортепиано олицетворяется в Рубинштейне; фортепиано, сродное органу, фортепиано, близкое к арфе, цимбалам или гуслям, фортепиано прошлого, фортепиано наших дней, фортепиано-гроза, фортепиано-водопад, фортепиано-шелест, фортепиано-шепот, фортепиано-вздох, ученое фортепиано для синклита теоретиков, вещая лира, укрощающая зверей и складывающая камень в храмы и дворцы». Как музыкальным произведениям Рубинштейна, так и его исполнительской манере были присущи накал, мощь творческого темперамента, музыка и игра Рубинштейна никогда не оставляли равнодушными, эмоционально потрясали и будоражили, побуждали к наиболее трагическим, глубинным размышлениям и чувствам, производили необычное впечатление на привыкшую к «выверенным» вкусам европейскую публику. К слову сказать, в самых истоках творческого пути Рубинштейна-пианиста, признавшая его исполнительский гений европейская публика, очень долго не могла привыкнуть к оригинальности, «титанизму», драматизму его исполнительской манеры, некоторые ведущие европейские критики, такие как Ганслик, «пали» перед самобытным талантом пианиста лишь к концу его творческой карьеры. К примеру, во время гастролей 1862 года итальянская пресса писала приблизительно следующее по смыслу: «мы не можем сказать, что это было и не знаем как это определить, но одно ясно – это было потрясающе, величественно, удивительно». Надо полагать, невиданной славе Рубинштейна-пианиста служили сплав виртуозной техники и способности к глубокой, нетривиальной интерпретации эмоционального и философского смысла произведения, плодотворное взаимодействие исполнительского дара с талантом артистическим и композиторским, приведшее к концепции «исполнение как сотворчество». Всегда скупой на высказывания и похвалы композитор Танеев сказал как-то о игре Рубинштейна: «когда Антон Григорьевич играет, я не могу оставаться спокойным, его исполнение – это красота, как бы переходящая в страдание». Красота, переходящая в страдание, будоражащая душевные и духовные глубины человека – это слова, которые можно было бы отнести и к очень многим произведениям, написанным Рубинштейном. По дошедшим до нас свидетельствам, исполнение Рубинштейна всегда производило эмоциональное потрясение, затрагивало не только виртуозностью, а именно эмоционально-образной выразительностью, проникновенностью, глубиной, эти свидетельства отставляют ощущения эмоционального воздействия исполнителя на публику подобного тому, которое передано в описании сценической игры Ф. Шаляпина. Так, один из слушателей отмечает, что во время исполнения наиболее драматических моментов «Лесного Царя» Шуберта или вариаций Листа на тему моцартовского «Дон Жуана», слушателя неотвратимо пробирал холод ужаса, настолько пианисту удавалось передать манерой игры трагизм ситуации и эмоций, пронизывающих произведение… Таланту Рубинштейна-пианиста, его исполнительскому почерку были присущи «титанизм», та «страстность», духовная мощь исполнительского темперамента, которая, по словам одного из его современников, всегда отличает гениальность от одаренности, в целом – актерская, небывалая способность к эмоционально-смысловому «вживанию» в исполняемое произведение, его эмоциональной и философской интерпретации. Та же сила небывалого эмоционального воздействия и художественной изобразительности, которой обладал пианизм А. Рубинштейна, была присуща и его композиторскому дару. Так, одна из дочерей Л. Толстого вспоминала, как присутствуя на исполнении рубинштейновского «Океана», во время прослушивания второй части этой по-истине выдающейся симфонии – там, где композитор рисует буйство водной стихии, перед которым бессильно все созданное руками человека – она расплакалась, ибо почти физически ощутила страдания тонущих в бушующих волнах людей, их отчаяние, их последние мольбы о помощи, их обреченность стать жертвой, которую взимает стихия.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



