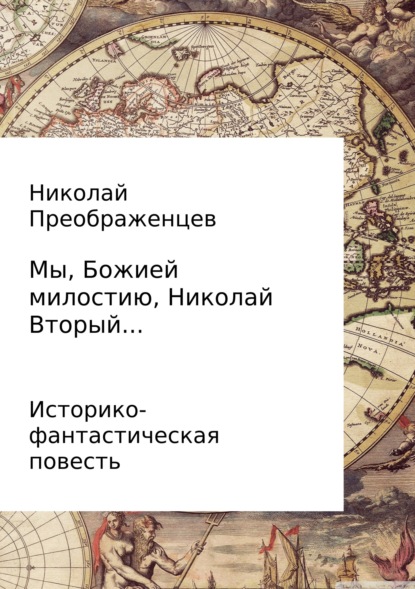 Полная версия
Полная версияМы, Божией милостию, Николай Вторый…
Помещение ложи было просторным и очень высоким, я успел только заметить тёмно-синюю бархатную отделку стен и светло-голубую портьеру у самого потолка, как на меня навалилось сияние огромного театрального зала, балконов, лож и могучего красного занавеса из нескольких полукружий с золотой тесьмой, увенчанного неизменным двуглавым орлом. От идущего волнами к сцене и уже заполненного партера, состоящего из голубых, белых и ярко-красных платьев женщин и чёрных, как налакированных, костюмов мужчин, от блеска канделябров и огромной люстры посредине перехватило дыхание. – Ники, а ты уже здесь? – раздался знакомый голос за моей спиной. – Непохоже на тебя, ты ведь обычно к самому третьему звонку приезжаешь. – В проходе между креслами ложи стоял Сандро и улыбался во весь рот. Из-за его спины бросилась ко мне довольно миниатюрная женщина с крупными чертами лица и копной волнистых чёрных волос. Она обняла меня и крепко поцеловала в щёку. – Ники, как ты мой родной? – спросила женщина и я поразился её внешнему сходству с императрицей-матерью, которую я видел вчера за завтраком. То же лицо, тот же голос, тот же, как тогда говорили, шарм. Но нет властности, неприступности, непоколебимой уверенности в своей правоте, а есть мягкость и какая-то наивность что ли, как у ребёнка. – Сестра, это точно сестра, как же её зовут, ах, да – Ксения. – Я получше, – отвечал я, подбирая слова. – Но по-прежнему ничего не помню, как отрезало. Вот Сандро и… другие мне рассказывают. – Выглядишь ты прекрасно, может, небольшая шишка и есть, ну так это пройдёт, – сказала она, бесцеремонно ощупывая мою голову. Я невольно обернулся – из зрительного зала нас было не видно, а на сцене ещё никого не было. В этот момент грянули первые звуки оркестра, мы быстро расселись, я – в центре, а Сандро и Ксения у меня по бокам. Аккорды увертюры показались мне чрезмерно мрачными и тревожными. – О чём этот балет? – пытался я вспомнить, – это же сказка. Ну, да – Шарль Перро или братья Гримм, не важно, но не Гофман же. А сюжет – что-то вроде Сказки о мёртвой царевне Александра Сергеевича. Принцессу кто-то заколдовал, она уколола ручку о веретено – нечего было работать – и погрузилась в сон, а вместе с тем и всё королевство. Ну а потом прекрасный принц, на белым коне или без него, разрубил там все эти… водоросли, нет, как их, вьюны эти, которые всё оплели, увидел: гроб качается хрустальный, открыл и поцеловал. И сон, ясное дело, у принцессы прошёл, как рукой, все проснулись и сыграли, как положено, весёлую свадебку. А когда проснусь я? И проснусь ли вообще? А может быть, всё дело в любви? Ведь принцесса проснулась, потому что принц в неё влюбился, а не так просто поцеловал хорошенькую мордашку. Вот, императрица, назвать ее про себя Аликс, пока язык не поворачивается, видимо, меня любит. Но на самом деле не меня, а того, настоящего. А где он, настоящий, исчез и нет его… Поэтому мне и проснуться не суждено… – От этой мысли я даже вздрогнул. На сцене начались танцы на каком-то балу. Лёгкие балерины порхали от кулисы к кулисе легко, непринуждённо и почти невесомо. А музыка… Музыка очаровывала и захватывала, она стала безмерно мелодичной, радостной, с оттенками таинства и волшебства. – Всё-таки Чайковский – гений! Не хватало мне ещё прослезиться, нервы, как у того интеллигента, ни к чёрту. – Не надоело, – наклонился ко мне Сандро, – в четвёртый раз смотришь. Но я понимаю, старая любовь не сгорает до конца. Хороша твоя Матильда, ничего не скажешь, вкус у тебя и у твоего папеньки был отменный. – На сцене как раз невысокая, но очень стройная темноволосая балерина в бледно-малиновой пачке сделала немыслимое па и получила из рук то ли папаши, то ли мажордома палочку со звездой на конце. При чём здесь Александр 3-й, которого мне упоминали который раз, я не понял, но спрашивать не стал. И сразу опять музыка стала тревожнее, и на сцене появилась тоже несомненно хорошенькая, но вся в чёрных лохмотьях балерина, танцевавшая, судя по всему, партию нехорошей колдуньи. – За кулисы-то пойдёшь в антракте, или уж лучше после окончания? – наклонился опять ко мне Сандро. – Даю слово, жене твоей ничего не скажу, а вот КсенИ, – он произнёс ее имя на французский манер, – лишнего знать не надо. – Знаю, знаю, – откликнулся он на протестующее выражение моего лица, – у вас всё там давно закончилось, ещё два года назад, после помолвки. Ну, а поговорить… почему бы не воздать дань, так сказать, несомненному таланту. – После решим, – сказал я, чтобы выиграть время. – Сандро, – перегнулась с другой стороны Ксения, – не приставай к Ники, как тебе не стыдно. – И Сандро, улыбнувшись, приложил палец к губам. Кому предназначался этот жест, я так и не понял.
Злая колдунья свершила своё чёрное дело, принцесса укололась, и начался антракт. Сандро извинился и вышел, а я остался один на один с Ксенией. Её большие глаза смотрели на меня с сочувствием. Она болтала о разных пустяках, а я, улыбаясь и поддакивая впопад и невпопад, разглядывал, не стесняясь, её прекрасные густые волосы, довольно крупный и чуть курносый нос и такие же большие и мясистые губы. – Если даже в ней, как и в Николае, то есть во мне, 95% немецкой и датской крови, всё равно она больше похожа на русскую княжну, чем на прусскую принцессу. И говорит по-русски чисто и правильно, без единой ошибки. – В этот момент Ксения перешла от светских новостей к более важным, как она сказала, вещам. – Я тут получила из Парижа… от человека, которого обещала не называть, брошюру на французском о Сионских мудрецах. Ты читал? – Нет, не помню, – соврал я. – Неужели это всё правда, и эти жиды и масоны хотят захватить весь мир и разрушить всю нашу нравственность, все наши устои и церковь тоже. А ведь среди масонов есть и очень высокопоставленные люди, в том числе и у нас в государственном аппарате. Ты этому веришь? – Я… я не знаю. А ты не можешь мне её, брошюру прислать? Я посоветуюсь со знающими товарищами, то есть я хотел сказать с экспертами. – Всё время ты, Ники ввёртываешь свои английские словечки. Эксперты… Хорошо, я пришлю, но ты никому не говори, откуда ты это получил. – Конечно, не беспокойся. – Вернулся Сандро, из оркестра вновь задудели трубы, и действие продолжилось. Всё время до конца спектакля я напряжённо думал о том, что произойдёт со всеми этими симпатичными, и в большинстве своём неглупыми людьми – с Ксенией, Сандро, братом Михаилом, с этим, наконец, грузинским князем орловского розлива… Ну хорошо, мне, Аликс и ещё многим предстоит погибнуть, а эти куда денутся, я совершенно не помню; доживут до революции, уедут в эмиграцию – или что? И тут меня пронзила мысль, пугающая и восторженная, как перед эпилептическим припадком: а что если я всё смогу изменить? Может, революция для России не обязательна, и если постараться, то её и не будет? – Я опять вздрогнул, по коже, по всему телу забегали ясно осязаемые мурашки, показавшиеся мне живыми, как муравьи. – У кого-то из фантастов, у Бредбери что ли, человек в прошлом наступил на бабочку, а в настоящем у всех людей выросли хоботы или огромные уши, точно не помню. А ведь я не бабочка, не насекомое, а император всероссийский как-никак. Хозяин по должности Земли Русской. М-да.
Кшесинская-Красинская
Спектакль закончился бурными аплодисментами. Как и сто лет спустя, публика не хотела отпускать своих любимцев, балеруны и балерины выходили, вернее выпархивали своим балетным скоком из-за тяжёлого занавеса и с удовольствием кланялись почтенной публике. Появились огромные букеты роз, самый большой в корзине с триколорной лентой нести было невозможно, его прямо-таки волокли по сцене два служителя. – Молодец, – заметил Сандро мне на ухо. – Отличный выбор, а широты души тебе не занимать. – Они с Ксенией быстро простились и вышли из ложи. На их место вошёл Петипа. – Поздравляю, Мариус э-э-э Иванович, – сказал я и тепло пожал ему руку. – Вся труппа и оркестр, как всегда, на высоте. – Желаете пройти за кулисы, государь? – Я кивнул головой. Старый маэстро, легко ступая на своих балетных ногах, повёл меня в сопровождении двух гвардейцев охраны к боковой лестнице, потом полутёмными коридорами вывел на широкую сцену, уже отгороженную от зала высоким занавесом, который показался изнутри отнюдь не таким роскошным, как снаружи. На сцене пахло невообразимым театральным запахом, смесью грима, талька, пыльных декораций, машинного масла, духов и лёгкого артистического пота. Пройдя сцену насквозь, мы вышли во внутренний коридор театра, довольно широкий с дверями по обеим сторонам. Петипа остановился у двери с надписью Кшесинская 1-ая и Кшесинская 2-ая, поклонился и немедленно исчез. Я слегка постучал и, не дожидаясь ответа, вошёл в комнату, которая, как я помнил, называется на артистическом жаргоне гримуборной. Гвардейцы остались караулить в коридоре. В комнате, довольно просторной, напротив друг друга стояли два больших стола из светлого, наверное, орехового дерева, перед каждым из столов были прикреплены три зеркала, то, что в центре, смотрело прямо, а двое по бокам, чуть под углом к столешнице; с боков к столам на гибких штангах были прикреплены электрические лампы, горевшие ярким искусственным цветом. Вся дальняя часть комнаты у окна была заставлена большими и очень большими букетами в вазах и кадках. У правого стола в кресле сидела та самая черноволосая балерина в бледно-малиновой пачке, она повернула ко мне своё лицо с тёмно-бардовыми от грима щеками и неестественно ярко подведёнными чёрной тушью глазами. Затем она встала, и мне почудилось, что она хочет меня поцеловать, но не поцеловала, даже не подала руки. – Ники, – просто, безо всякого выражения сказала она. – Наконец-то ты пришёл. Ты помнишь, мы договорились, что до конца жизни мы будем называть друг друга на ты? – Помню, – сказал я не совсем уверенно. – Вот уже почти два года, как ты не приходил ко мне сюда. Я, конечно, писала тебе, но в письмах всё не выразишь. – Её голос с лёгким польским акцентом звучал мягко и мелодично, и огромный слой грима, и размалёванные глаза не могли скрыть очарования её молодого лица с прямым, хрупким носом и красиво очерченными губами. Жёсткие тёмные волосы Матильды Кшесинский были убраны наверх и скреплены диадемой из искусственных брильянтов, а цепное ожерелье, как браслет обвивало и подчёркивало высоту ее белоснежной шеи.
Мы стояли напротив друг друга, как на сцене под пронизывающим электрическим светом, и я совершенно не знал, что мне делать дальше. Но Матильда, видимо, всё за меня решила. – Садись Ники, поговорим. Мы так давно не разговаривали, – добавила она и царственным жестом указала на другое кресло. Невольно повинуясь, я сел, и она тоже опустилась в своё кресло, аккуратно расправив пачку. Помолчали. Потом она немного театрально сжала руки на коленях, и спокойно продолжала. – Я любила тебя Ники всей душой, и ты это знаешь. С того самого момента, как твой батюшка посадил нас вместе за обеденный стол после моего дебюта. Любила не как цесаревича и наследника престола, а просто так – любила и всё. Когда я узнала о твоей помолвке мне показалось, что жизнь моя кончена и что радостей больше не будет, а впереди много, много горя. Я знала, что найдутся люди, которые будут меня жалеть, но найдутся и такие, которые будут радоваться. Что я потом переживала, когда знала, что ты был уже со своей невестой, трудно выразить. Кончилась весна моей счастливой юности, – произнесла она опять несколько театрально, и я подумал: сейчас заплачет, но она не заплакала. – Для меня наступила новая, трудная жизнь, но я ни о чём не жалею, и не собираюсь жалеть. – Она слегка ударила кулаками себя по коленям. – Ты в одном из писем написал, что будешь помогать мне и после нашего… расставания. – И она впервые взглянула прямо на меня. – И у меня есть к тебе две просьбы, большая и малая. – Глаза её, тёмно-карие с зелёными прожилками, смотрели дерзко и решительно. – Да, – подумал я, – в такую женщину можно было и влюбиться. – Во-первых, Петипа ставит новый балет, Синюю бороду Шенка, музыка так себе, но именно это, – она сделала неопределённый жест рукой, – Мариус Иванович выбрал для своего бенефиса. Меня он там видеть не хочет, говорит нет подходящей партии, а я хочу танцевать. И именно богиню Венеру. Ты можешь с ним поговорить? – Поговорю. Это… малая просьба? – Да, Ники ты всегда понимал меня с полуслова, – сказала она печально, и мне показалось, что эта печаль была совершенно искренней. Она встряхнула головой, как будто отбрасывая что-то в сторону.– Вторая просьба гораздо больше и сложнее, чем первая. Я хочу вернуть нашей семье настоящую фамилию. Ты знаешь, я тебе рассказывала, что мы происходим из рода графов Красинских. – Я не помню, расскажи ещё раз. Я, знаешь ли, ударился головой… – Она перебила меня: – Знаю, слышала. Так вот – мой прадед Войцех Красинский, будучи ещё ребёнком, после смерти своего отца остался единственным наследником всего состояния нашего рода. Но его дядя решил завладеть всем и подослать к мальчику наёмных убийц. Я уж не знаю как, но об этом узнал француз-гувернёр Войцеха и увез его в Париж. И записал его там для конспирации под именем Кшесинский, это фамилия наших дальних предков по женской линии. Мальчик вырос, получил образование, женился и решил вернуться в Польшу. Но за годы его отсутствия дядя, этот подлец, объявил наследника умершим, а все богатства забрал себе. Попытки моего прадеда вернуть наследство оказались напрасны: воспитатель при побеге из Польши взял не все документы. Восстановить правду в архивах тоже было невозможно: ты же знаешь, какой у нас в Польше беспорядок во всём. Так мой прадед стал самозванцем, – и Матильда опять посмотрела мне прямо в глаза. Внутри у меня что-то упало и не хотело возвращаться назад, мне на минуту показалось, что эта женщина видит меня насквозь. – Единственное, что у меня осталось, – продолжала балерина, открывая стоящую на её столе шкатулку, – вот этот перстень златолитый. – И она аккуратно положило мне в руку большое, явно мужское кольцо с огромной печатью, на которой теснились рыцарский шлем, перья и щит с массивной золотой короной в центре. – Это герб графов Красинских, – сказала Матильда как всегда просто и спокойно. – Это конечно не доказательство, но ты-то мне веришь, – добавила она, и в её словах не было вопросительной интонации. – И что же с этим делать? – спросил я беспомощно, возвращая перстень. – Можно послать нарочного с полномочиями в польские и французские архивы. Я уверена, документы найдутся. Но для этого нужны средства. – Хорошо, пошли прошение на моё имя, я распоряжусь. – Благодарю вас, государь. – Она встала, поклонилась, и у меня создалось впечатление, что она меня больше не задерживает. – Да, мне пора, – сказал я, прерывая молчание, – и… пожалуйста, прости мне всю ту боль, которую я тебе причинил. – Уходя из гримёрной, я понял, что эти последние слова были абсолютно лишними.
Дорога в Царское сначала по полутёмным улицам Санкт-Петербурга, а потом по ещё более тёмным дорогая столичных предместий не запомнилась ничем. Я опять быстро прошёл по анфиладам Александровского дворца. Вывернувшийся невесть откуда Чемодуров доложил мне, что государыня «давно легли и почивают». Не успев даже обрадоваться, я добрался до своей спальни, кое-как разделся и погрузился в тревожный сон.
Царь Православный
– Get up lazybones – вставай лежебока! – Я почувствовал, как чья-то рука ласково треплет меня за плечо. Я приоткрыл глаза и понял, что я на той же кровати как и вчера, как и два дня назад. Потом длинные белокурые и слегка вьющиеся волосы коснулись моей головы, а потом и мягкие губы коснулись моей щеки. Я повернулся и присел на постели. Передо мной стояла Аликс, уже одетая для нового дня, на ней было длинное грациозное платье тёмно-серого, почти чёрного цвета, две нитки жемчуга спадали с шеи, волосы были заколоты тёмно-вишнёвыми булавками и лишь две пряди выбивались из этой замысловатой причёски. Глаза её смотрели на меня строго и одновременно насмешливо. – Вставай, уже девятый час. Уже утреня заканчивается, вот-вот литургия начнётся, а ты всё спишь и спишь. Иоанн Леонтьевич специально приехал из Петербурга, раз мы здесь. Я вчера ему исповедовалась, а ты гулял, конечно. Сегодня причащусь, а ты не успеешь, ну хоть исповедуйся после службы. Он твой духовник, всё-таки… – Я тупо смотрел на неё, как будто спросонья, и ничего при этом изображать было не надо. Но мой мозг напряжённо работал. – Духовник, исповедоваться – что ж это будет? Да, бабушка учила креститься, пару раз ходили в церковь, но я же ничего не знаю, ни молитв, не обычаев, ничего. Нет, Отче наш вроде помню, в общих чертах. Аааа… ничего, буду смотреть на других и делать, как Аликс. – Иди умойся, – продолжала она, – на твою физиономию невозможно смотреть без содроганья. – Я поцеловал ее мимоходом и быстро вышел в соседнюю ванную. Наскоро помывшись, быстро оделся в военный, явно не парадный френч, заботливо оставленный Чемодуровым, и натянул сапоги. Аликс ждала меня, я подал ей руку. – Ники, ты опять весь дрожишь. Я уверена, ты по-прежнему не здоров, а мне ничего не рассказываешь. – Я не знал, что ответить и поэтому не отвечал. – Долго ли я ещё буду так дрожать при встрече с этой женщиной?
До дворцовой церкви было совсем не далеко. Я вошёл и внимательно осмотрелся: да, я не ошибся, она была переделана из одного из залов дворца и имела совсем не церковный вид. Белые колонны упирались в лепнину козырька, где заканчивался первый этаж дворца, и далее полукруглые окна уходили ввысь к расписному потолку, с которого на длинной штанге свисала огромная люстра; на ней горело бесчисленное количество свечей, электричество сюда, видимо, ещё не провели. Слева толпились люди, весьма многочисленная обслуга дворца, как я понял. При виде нас они низко поклонились. Мы встали на свободное место справа, никто из собравшихся не приблизился к нам на расстояние меньше трёх метров. Пространство перед нами перегораживал выдержанный также в белых тонах невысокий алтарь с иконами, возле него напротив двустворчатой дверцы царских врат уже стоял священнослужитель в белой с золотом рясе. Держа в руке ленту, которая полукругом свисала с плеча его роскошного одеяния, он возгласил красивым басом что-то вроде: – Благослови, Владыко! – Все перекрестились, я тоже. – Вот видишь, – шепнула мне Аликс на ухо, – дьякон уже литургию начал, а мы опоздали и проскомидию уже пропустили. – Я промолчал, она, судя по всему, знала все обряды и саму службу до тонкостей. Стоя лицом к алтарю, дьякон басом продолжал вещать по-церковнославянски, прерывая себя возгласом: – Господи, помилуй! – Все крестились, а хор из-за моей спины и откуда-то сверху чисто и слитно подхватывал его призыв. Понимая лишь отдельные слова, я потерял счёт времени, моя правая рука двигалась автоматически, а сам я унёсся далеко, обратно в тот сон, который не успел досмотреть утром. Пространство передо мною с алтарём и царскими вратами разорвалось как холст на старой картине, и я снова увидел себя солнечным летним днём под Москвой, около нашей дачи. Все деревья и кусты вокруг стали как будто выше ростом, со мной были мои мама и папа, красивые, весёлые и совсем еще не старые. Мы шли по лесной дороге к пруду, где я учился плавать, и солнце косо светило нам через прозрачные кроны берёз и масляные лапы елей. Я быстро разделся и бросился в воду, которая мягко обняла меня с головы до пяток. – Коля, что ты делаешь, остановись, – закричала мама с берега, – ты же плавать ещё не умеешь, там глубоко, назад! – Я видел, как отец стал поспешно сбрасывать с себя одежду. А я плыл дальше и дальше, и пруд уже казался бесконечным, и я понял, что я не вернусь.
Другой голос, более высокий и слегка охрипший, раздавшийся из алтаря, вывел меня из оцепенения. Слова я не разобрал, но это стало совершенно не важно, потому что откуда-то сзади опять запел невидимый мне хор, женские голоса рвались ввысь, и их поддерживали мужские, как будто предлагая им опереться на них и взлететь ещё выше. Из боковой двери алтаря вышли молодые люди в таких же белых одеждах со свечами на длинных золотых подсвечниках, дьякон нёс высоко перед собой огромную книгу в золотом переплёте, а за ним появился другой священник, ещё не старый человек с умными глазами, чрезвычайно высоким лбом и прямоугольной бородой с проседью. Он держал в руках кадило и медленно помахивал им, кадило позвякивало. Священник отдал кадило ещё одному молодому служке, и тот почтительно поцеловал ему руку. – Этот что ли мой духовник? Как Аликс его назвала: отец Иоанн? И что именно ему я должен буду исповедоваться? Как? О чём? – Между тем дьякон открыл тяжёлую золотую книгу и долго читал ее, всё возвышая и возвышая свой голос, и закончил только тогда, когда, казалось, читать более высоко и громко было уже невозможно. После чтения Евангелия, дьякон начал возвещать славицы всем начальникам православной церкви, начав с императора всероссийского, назвав его (то есть меня, меня?) отцом и господином. – Да, да правильно, я где-то читал об этом, ведь до самой революции патриарха в России не было, и главой церкви был царь, а кто же ещё. Это всё Пётр первый начудил, не захотел ни с кем властью делиться. Так какая же это непомерная ноша – быть главой всего и вся: и правительства, и армии, и полиции, и церкви, и жизни светской, и жизни духовной. Зачем это так всё устроено? Вот даже любому священнику верующие целуют руку, и значит признают его верховенство над собой. Значит и мне все подданные огромной страны, и православные и неправославные, должны целовать руки, так что ли? А я их должен учить, как им жить и что им делать?
Дьякон продолжал своим роскошным басом произносить непонятные слова, а хор продолжал петь, подхватывая их и добавляя новые. Слева в углу, на ступеньке перед иконостасом я заметил ещё одного священника, склонившегося за небольшой конторкой. Рядом с ним так же склонился молодой парень, видимо один из дворцовых слуг в коричневой поддёвке. Он взволнованно, но тихо говорил что-то священнику, а тот слушал, изредка поглядывая на него. И тут вдруг этот слуга, а, может, повар или кучер, встал на колени, священник накинул на него тёмное покрывало, которое, казалось, было частью его одеяния, и перекрестил, подымая глаза к потолку и шепча какие-то слова. – Так вот как у православных проходит исповедь, ни тебе кабинки, ни решётки между тобой и священником. Прямо посреди церкви – до остальной толпы метра два, не больше. Что же толкает всех этих людей, и богатых, и бедных, и образованных, и неграмотных, приходить и вот так, на виду у всех рассказывать в общем-то постороннему человеку про свои не очень красивые поступки, и ещё менее красивые мысли? Странно, непостижимо. – Дьякон вышел на самый край возвышения перед алтарём и начал произносить или даже напевать длинную-предлинную молитву, и весь зал пел вместе с ним. Аликс тоже пела, и в глазах её стояли слёзы. Она посмотрела на меня с жалостью и, как мне показалось, с пониманием. Опять запел хор, и я погрузился в свои тягостные мысли, ходящие по одному и тому же бесконечному кругу.
Голос дьякона вновь вывел меня из потустороннего состояния. – Со страхом Божием и верою приступите, – грозно возвестил его бас. – Где он этот страх Божий, у кого он есть? У собравшихся здесь конюхов и слуг? Может быть… А у всех этих родственников и министров, которые осаждали меня вчера и сегодня? Вот это вряд ли. – Теперь все трое священников стояли перед алтарём как на сцене. Главный из них держал в руках золотой кубок, закрытый четырёхлистной салфеткой. – Верую, – громко сказал он и забормотал слова, которые я был не в силах разобрать. – Помяни меня, Господи, во царствие твоем, – закончил он торжественно. Дьякон и другой священник развернули под кубком красное полотенце, и Аликс, шагнув вперёд и сложив руки на груди, первая подошла к чаше. – Может, мне тоже уверовать или хотя бы помолиться, попросить хоть кого-нибудь подсказать мне, что делать, кому верить, кому не верить и как выжить во всей этой фантасмагории? - Цепочка верующих подходила к чаше и отходила к маленькому столику, где двое служек наливали им что-то красное из графина и давали в руки кусочки хлеба. Пел хор, и в окнах второго этажа сверху сиял солнечный луч. Все причастившиеся стали быстро подходить с священнику, стоявшему уже без чаши с крестом в руке. Я понял, что мне нужно сделать то же самое, все расступились, и я поцеловал крест и холодную руку отца Иоанна, не ощутив при этом ни неудобства, ни стыда. Аликс подошла ко мне, тревожно заглянула мне в глаза и сказала: – Я оставлю тебя здесь, после исповеди приходи в столовую завтракать.
Исповедь
Очередь к кресту прошла удивительно быстро, вся толпа в храме мгновенно исчезла, и я остался один на один с отцом Иоанном. Он почтительно, с полупоклоном показал мне рукой на боковую дверь, приглашая за собой. Мы прошли в небольшую комнатку, где кроме белых стен и двух кресел ничего не было. Отец Иоанн опять медлительным жестом пригласил меня присесть и сел сам напротив. – Наслышан о вашей беде, Ваше Величество. Вы только не беспокойтесь, Бог милостив, всё к вам вернётся. Я понимаю, сегодня исповедь у вас вряд ли получится, за два дня вы едва ли смогли много нагрешить, – и священник улыбнулся своей мягкой улыбкой. Глаза его смотрели на меня внимательно и немного устало. – Давайте просто побеседуем.– Спасибо, отец э-э-э Иоанн. Я о многом хотел вас расспросить… Я вчера обедал с Победоносцевым, он мне свою книгу подарил, Московский сборник, кажется. Вы читали? – Нет, не читал, она ещё по-моему из печати не вышла. Но я Константина Петровича знаю давно, и взгляды его мне хорошо известны. – И что вы думаете? – Думаю, что наш обер-прокурор живёт ещё в 18-м веке, а может и в 17-м, а на дворе уже скоро и 20-й начнётся. – Что вы имеете в виду? – Да то, что у церкви нашей много проблем, и как решать их – один Бог ведает. Радует, конечно, что число православных христиан быстро увеличивается, и они составляют большинство населения империи. Но вопрос в том, кто они, какие они, действительно ли они верующие люди? – Я удивлённо посмотрел на своего духовника. – Вот возьмём, например, крестьян, – продолжал он. – Вы же знаете, что 80% из них неграмотные, а среди женщин и все 90%. Не читая священного писания, можно ли понять его смысл? Обычный неграмотный крестьянин знает наизусть несколько молитв, которым его родители обучили, при этом смысла их и всего Христова учения не понимает и даже в Отче наш делает ошибки. Поэтому он и смотрит на священника не как на духовного отца, а как на сборщика особого налога – церковного. К сожалению, все эти идиллические воззрения на русский народ, как на народ-богоносец, обладающий природной религиозностью, очень далеки от реальной жизни. Помани его, этот народ какой-нибудь хитрый смутьян простым лозунгом – Грабь богатства церковные! – и пойдут грабить, и церкви жечь, и иконы рубить, и вся эта благостная оболочка сползёт с этого народа, как и не было. При этом, поймите меня правильно, я наших рядовых батюшек нисколько не виню, они в поте лица зарабатывают хлеб свой. Знаете ли какой казённый оклад получает обычный священник? 300 рублей в год – в гоод! А дьякон всего-то 150 целковых, меньше подсобного рабочего. А десятки тысяч батюшек вообще ничего из казны не получают. Поэтому и пускаются во все тяжкие, требуют уплаты за каждое своё действие, крещение или освящение, и разводят скотину и огороды распахивают. Поэтому и не идут в священники молодые и талантливые … Вот мне на прошлой неделе сообщили, что из последнего выпуска одной из сибирских семинарий ни один, ни один в приход служить не пошёл. Оно и понятно – сейчас в стране множество возможностей появилось, и соблазнов тоже. Да и те, кто принимают ношу сию больше думают, как свои семьи прокормить, чем о духовном служении. А если мы сами гореть не можем, как можем мы других зажечь? – Отец Иоанн горестно вздохнул. – А с образованным классом… тут другая проблема. Верить в Бога не модно стало… – А что произошло? – Я сам долго над этим размышлял. Тут много причин – и успехи науки, конечно… Многие делают из этого вывод, что человек с помощью науки может стать всемогущим и никакой Бог ему не нужен. Но главное не в этом. Наши образованные слои, и дворянство, и купечество, и интеллигенция так называемая, не видят в церкви нравственного ориентира, независимой, чистой и незапятнанной силы, служащей Богу одному и никому боле. Вот мы говорили о бедственном положении рядовых священников, а разве так живут епископы и митрополиты? Они получают из казны в десятки, в сотни раз больше рядового батюшки. Вот и соревнуются они, самые главные наши церковные иерархи не в том, как подать пример аскетизма и благочестия, а в том, каких лошадей прикупить и в какой-нибудь разукрашенной таратайке прокатиться, чтобы другие завидовали. Разве можно верить таким, можно ли им поверять печали и грехи свои и ждать от таких духовного напутствия? Нет, конечно. Наоборот, образованное сословие считает верхушку нашей церкви государственными чиновниками от религии, заботящимися только о собственном кармане. Каков поп, считают они, таков и приход, и каковы начальники, таковы и подчинённые. – Отец Иоанн замолчал, было видно, что он серьёзно расстроен. – А сколько ты получаешь, и тебе можно верить? – подумал я, а вслух сказал: – Константин Петрович мне обещал представить предложения по повышению роли православия… – Что же, – отозвался духовник, – надо посмотреть, почитать. Только вот, сдается мне, что кроме расширения сети церковно-приходских школ в ущерб земским, да ужесточения цензуры, он вряд ли что-то другое предложит. – А вы чтобы посоветовали? – Если б я знал средство для излечения от всех этих болезней, то давно бы… – Отец Иоанн махнул рукой. – – Я понимаю, если всем священникам платить достойное содержание, никаких денег не хватит. И всё же церковь должна иметь в государстве отдельное значение, быть отдельной духовной силой. Есть же среди нас истинные подвижники, не сребролюбцы. В Оптиной пуcтыни, например, целый куст, целый букет истинно святых людей; старца Амвросия, который Достоевского наставлял, уже нет с нами, но остались Нектарий, и Варсонофий, и многие другие. Вот бы вам с супругой вашей поехать к ним, поговорить, посоветоваться? – Я кивнул головой, и на этом наш совершенно не похожий на исповедь разговор закончился. Я встал, неуклюже потянулся к наставнику и вновь поцеловал его руку. А затем быстрым шагом пошёл в столовую.

