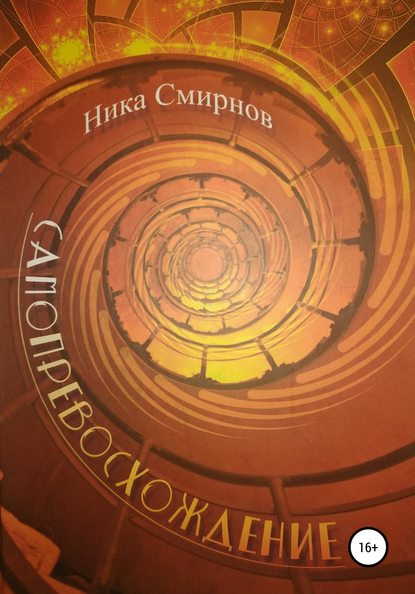 Полная версия
Полная версияСамопревосхождение
– Но почему именно Христос?
– Наверное, потому, что он первый возвестил Царство Духа и всей своей немыслимой жизнью, «смертью смерть поправ», доказал, что Царство его «не от мира сего» и, вместе с тем, внутри каждого из нас. Наверное, потому, что он сам есть Высшее Откровение, Истина и Любовь.
Ника задумался и замолчал. Молчал и я тоже. Потом он, пытаясь найти нужные слова, медленно заговорил:
– Понимаешь, все, кто так или иначе соприкасаются с Христом, говорят о том, что он не просто неисчерпаем, но «невероятен».
Я не понимал и снова настаивал:
– Например!
– Пожалуйста. Для тебя, мне кажется, более убедительны будут примеры «от противного». Жан Жак Руссо. Упрекнуть его в ортодоксальном христианстве невозможно, но и он в своей знаменитой книге «Эмиль, или О воспитании», где славит Природу (заметь, с большой буквы!), записывает такие неожиданные слова: «Если жизнь и смерть Сократа достойны мудреца, то жизнь и смерть Иисуса суть жизнь и смерть Бога». И многие, многие сомневающиеся даже в самом существовании Христа потом с удивлением обнаруживали, что его Евангелие заключает в себе столь поразительные, столь неподражаемые черты истины, так просто и убедительно раскрывает перед людьми их истинное предназначение, что если бы это «изобрёл» кто-то другой, то он должен был бы быть ещё более удивительным гением, чем сам Автор. И даже те, кто захотели убрать из Евангелия всё, что не поддавалось научному анализу, и относили всю сферу Непознаваемого (на тот период, когда они писали) лишь к народной фантазии, легендам или мифам, – даже у них, всего лишь из оставшегося материала, возникал образ такой великой исторической личности, идеал такой совершенной веры и высочайшей нравственности, что он оказывался просто несовместим ни с одним из живущих на Земле, поголовно грешных людей. Даже они приходили к выводу: здесь что-то не так,
не так всё просто с отрицанием его Богочеловечности…
Ника опять замолчал, пока я не тронул его за руку.
– Да, религия Иисуса Христа вообще не принадлежит исключительно тем, кто называет себя его учениками. Во всех вероисповеданиях без труда можно увидеть, уловить его идею, хотя и в различном убранстве, оттого и существуют, и будут всегда существовать бесконечные толкования и интерпретации его притчей и проповедей, а каждая эпоха и даже каждый человек будут находить в Нём нечто новое и близкое для себя. В известном смысле, мы все являемся соучастниками, со-творцами раскрытия его Идеи в её бесконечном самовоспроизводстве. Он создал Божественный идеал, в Нём соединилось всё то, что есть прекрасного и возвышенного в нашей природе, и тем самым воззвал к человеку, показав, куда он может и должен стремиться. Он создал всеобщую, абсолютную религию, которая не имеет границ, его Вера и вызываемые ею чувства ничего и никого не исключают не только в прошлом, но и в будущем, и вне которых история человечества и жизнь человеческая бессмысленны и непостижимы! Так что, вот тебе, Никола, и смысл, и направление движения.
Я был смущён. Ника говорил очень тихо, но так страстно, что у меня невольно вырвалось:
– Ты выглядишь не как верующий, а как влюблённый человек.
Он нисколько не смутился и тотчас ответил:
– Иначе и быть не может! «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, …закидывающих сети в море; …и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков! И они, тотчас, оставивши сети, последовали за Ним»*(.Евангелие от Матфея. IV: 18, 19.) И так было со всеми: все – сразу! – влюблялись в него – навсегда! Мне это очень нравится.
– Так в чём же всё-таки главная идея?
– Неужели не понятно? Это Любовь. «Да любите друг друга и Господа своего», и «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный».
Теперь я был уже окончательно смущён своим невежеством и неготовностью к такому повороту событий:
– Но ведь я ничего не знаю и вообще не церковный человек. Так, что-то слышал, что-то видел… Да, не кощунствую, но разве этого достаточно?
– Отвечаю сразу на все вопросы: «не достаточно»; «я тоже не воцерковлён». Ну и что? Прекратить движение ему навстречу? Хулы, действительно, позволять не надо, а начинать можно с любого уровня, – об этом говорят «те, кто знают», лишь бы было искреннее желание и чистота помысла. Извини, придётся повторить: «Просите, и дано будет вам; ищите и найдёте; стучите, и отворят вам»**.
Тут Ника выразительно посмотрел на меня и добавил:
– Сейчас я намеренно приводил тебе высказывания уж если и не оголтелых атеистов, то, по крайней мере, скептиков-позитивистов…
Очевидно, у меня в глазах был дурацкий немой вопрос, и Ника, уже привычно усмехнувшись, как если бы я успел вслух спросить: «А кто такой Пушкин?», – ответил сдержанно и спокойно:
– …то есть тех, кто считает, что подлинное, по их выражению, «позитивное» знание может быть получено лишь в результате специальных научных исследований, которые только и могут установить причинно-следственные связи, – и никак иначе! – а всё остальное не имеет права на существование. Но даже они, как ты видел сам, не смогли пройти мимо Тайны, которой увенчалась его жизнь, Тайны, которая выходит за пределы доступного человеку знания.
– И много их, таких?
– Тьма! И это не считая богословов, историков, филологов, искусствоведов.
– О-ох! – застонал я, – тогда я безнадёжен!
Ника был явно раздосадован:
– Ну вот, мы опять вернулись к началу!
И здесь моя расчудесная память стала меня выручать: я решил самокритично использовать высказывание, не помню, из какого опуса, одного очень известного французского писателя, который сам, в свою очередь, цитировал кого-то из очень известных философов: «Между двумя личностями со слишком разным уровнем интеллектуального развития обмен мыслями невозможен».
– Хорошая память, неплохая самоирония – это обнадёживает, – заметил Ника, и я понял, что он, в отличие от меня, точно знает, кого я только что процитировал, но ни о чём его не стал спрашивать, а Ника тем временем продолжал:
– Однако, если помнить только унылых и разочарованных, хотя и удостоенных премии Гонкуров, то можно и самому впасть. Так что, не забывайте, месье, и о тех, кто верит: «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит и стучащему отворят»*.
Ника быстро оценил мой собственный унылый и разочарованный вид и, очевидно, решив ободрить, напомнил:
– «Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский…» – он поднял бутылку с бальзамом.
И тут во мне что-то поднялось и откликнулось, я уверенно встал и подошёл к нашей официантке. Она стояла у стойки, весело болтая со своими товарками и постоянно поглядывая в нашу сторону. Дополнительный заказ в виде десерта, коньяка и свежего кофе очень быстро появился у нас на столе. Ника был сама любезность: он ни о чём не спрашивал и ему ничего не надо было объяснять. По-моему, в такой комфортной обстановке я не был никогда, и даже фраза-оправдание, ясно прозвучавшая у меня в голове: «Я крови спесь угомонил!», – не требовала озвучивания.
– Классно! – сказал я Нике, улыбаясь, и, клянусь, он меня понял. Между тем, наша беседа, явно как и встреча, близились к концу. Ника «подводил итоги»:
– Фактически, мы с тобой говорили лишь о том, что только признание Высшей Силы и Высших Смыслов, что бы они для тебя сейчас ни значили и ни означали, – именно оно способно задать истинный масштаб поиска, и, следовательно, без включения вектора Божественного познания в свой мир, – да, если угодно, в сочетании с наукой и, тем более, искусством, – самопревосхождение невозможно. Несомненно, собственные усилия значат очень много, но и без добровольного принятия помощи того, кто выше тебя и кто готов всегда эту помощь оказать, если ты сам готов открыть ему себя, – тоже ничего не получится. Таков опыт.
– Понятно, – привычно сказал я, мы посмотрели друг на друга, вспомнили любимый тест Софьи Алексеевны и одновременно рассмеялись. Я уже не удивлялся своей никуда не исчезающей наблюдательности, с удовольствием отмечая стремительно нарастающую открытость будущему знанию, которая непременно, – я был в этом совершенно уверен, – должна будет существовать и в будущей моей жизни.
– Вот и отлично, – сказал Ника. – и не забывай: атеизм, как и суперэго (иначе говоря, гордыня), – чудовищно снижают эталоны духовного самодвижения.
Мы проговорили в кафе, наверное, часа два или больше и вместе вышли на улицу. Мне нужно было идти направо, к Неве, а ему – налево, как он сказал, к маме на Фонтанку. Я резко обернулся:
– Как зовут твою маму?
– Екатерина Дмитриевна.
«Это она», – уверенно, без всяких сомнений отчеканилась в голове мысль.
– Подожди меня здесь! Я быстро, – крикнул я Нике и побежал, перескакивая через ступеньки, в подземный переход. Уже через минуту я вернулся с большим букетом белых роз и… остановился: было на что посмотреть!
Ника стоял, оперевшись спиной на парапет, и к нему с тротуара постоянно подходили люди, очевидно, спрашивая, как пройти или проехать в музей, театр, не знаю, – да мало ли мест в Петербурге, куда хотят попасть недавние горожане или гости города! – это обычное для нас дело. Интересно было другое: спрашивать, судя по всему, хотели именно у него, некоторые для этого меняли свой маршрут, даже возвращались, сначала проскочив мимо. Это было то ещё зрелище! И опять пришла ясная мысль: дело здесь вовсе не во внешней привлекательности, а в некоем «донорском» свойстве личности, в том внутреннем импульсе, который мгновенно считывают люди, когда отдаются на волю своего бессознательного «Я» (как сейчас принято говорить) в ситуации, когда не надо раздумывать, а просто слышать свой внутренний голос.
«Как хорошо, – подумал я, почти завидуя сам себе, что вижу всё это. – Оказывается, человек не растерял свои природные инстинкты даже в таком мегаполисе, как наш. Значит, не всё потеряно». И мне опять удалось заметить, что сегодня я могу наблюдать одновременно и за другими, и за собой, и даже видеть, как появляются, – неизвестно откуда, – совсем иные мысли, нежели те, что так часто крутились у меня в голове прежде.
Наконец, я всё-таки подошёл к Нике и вручил букет:
– Поздравь, пожалуйста, свою маму с праздником.
Он был явно тронут:
– Всенепременно.
Мы хлопнули друг друга ладонями в прощальном жесте и я пошёл в сторону Русского музея, к площади Искусств, мимо «Бродячей собаки», к Мойке и Зимней канавке, и дальше, ко Дворцу великого князя на Неве, словом, по местам, где я так любил ходить пешком, особенно если мне хотелось подумать о чём-то личном и побыть наедине с собой. Сегодня был как раз такой день, точнее, вечер. В Питере в это время года быстро темнеет. Медленно падающий мягкий снег был очень к лицу моему городу. Почти прозрачный покров отливал на асфальте и брусчатке матовым голубоватым блеском от света фонарей. Высоко надо мной стояло небо, закрытое густыми серыми облаками, постепенно наполняющимися пока ещё не различимым таинственным светом Луны и Звёзд. В голове явственно зазвучали строки «Рождественского романса» Иосифа Бродского:
Плывёт в тоске необьяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада, ночной фонарик нелюдимый, на розу жёлтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих…
…Плывёт в тоске необьяснимой, как будто жизнь начнётся снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнётся вправо, качнувшись влево.
Я шёл вдоль набережной, рассматривая – в который раз! – невообразимой красоты ансамбль Стрелки Васильевского острова с его зданием Биржи и Ростральными колоннами, снова и снова поражаясь открытию мастера, впервые в истории архитектуры развернувшего полукругом каменные строения к Неве, к воде, как к площади.
Я шёл, и моя память выдавала мыслеобразы, спонтанно возникавшие после нашей встречи с Никой. Они выстраивались, как будто независимо от моего желания, в некую стройную картину. Словами я ещё не мог тогда, да и сейчас, пожалуй, не смогу её описать достаточно убедительно, однако общее впечатление от картины в целом, так же как и от отдельных эпизодов, было вполне отчётливым.
…Стремительно, собранно идёт по Невскому проспекту Ника, быстро удаляясь от меня, и его длинный шарф живописно развевается на ветру. А большие мягкие снежинки ложатся на плечи белыми погонами, медленно исчезая и появляясь вновь…
…Екатерина Дмитриевна, освещённая светом вечерних люстр, каждым движением и жестом возрождающая прелесть старопетербургского быта и дома, наполненного рисунками, книгами с автографами художников и поэтов Серебряного века, а потом и эмигрантов «Третьей волны», составляет рождественские букеты, отдавая особое внимание белым розам как почётным гостьям…
…Подобно лёгкому видению, возникает призрачная, нежная, бестелесная и абсолютно узнаваемая фигура Софьи Алексеевны. Тотчас просыпается Ева, резко поднимает голову и неотрывно-долго смотрит в то самое место, где появился и быстро исчез, очевидно,
никому, кроме неё, не видимый изящный силуэт…
«А где же Анна-Мария? Она тоже должна быть здесь, поблизости. Но её нет…» Я уже не мог обращаться к ней фамильярно, как в начале, что-то изменилось во мне, тем более, что я несколько раз успел отметить, с каким тактом подбирал слова в своих высказываниях о ней Ника.
Я ждал и думал о том, как же мне нравятся эти картинки и как хочется смотреть на них дольше и дальше, предчувствуя выход на сцену следующих персонажей. А они должны были прийти, я в этом не сомневался и был настроен на режим радостного ожидания. Но в это время зазвонил телефон, и всё мгновенно исчезло. Я смотрел на экран, видел смеющиеся лица своих подружек, читал их незатейливые сообщения и понимал, что уже никогда к ним не вернусь, даже если мы и будем встречаться.
«Сколько же пропало дней и ночей, – с горечью думал я, – сколько пустых, бессмысленных тусовок и случайных свиданий, не обременённых ни глубоким чувством, ни хотя бы интересом, который продолжился бы более однодневной моды или минутного желания, причём, с обеих сторон… А ведь, оказывается, можно жить совсем иначе, и они есть, эти другие люди, и не где-нибудь “за тридевять земель”, а прямо здесь, рядом с нами! Правда и то, что они лишь иногда, только когда их очень попросят, начинают говорить, тщательно выбирая слова и делая паузы между ними – “как надо жить”, – потому что они не проповедуют, а просто так живут на самом деле! С ними даже можно общаться, как я начал делать, выходя на странички тех, кто откликнулся на текст “Самопревосхождения”, не говоря о тех, кто существует и в тексте, и в жизни, и мне не надо даже
“быть пристрастным”, чтобы увидеть, как “они прекрасны”»…
…Я смотрел на полузамёрзшую, но по-прежнему величаво перекатывающую свои волны реку. Сегодня я хотел быть один, и людей вокруг, действительно, не было, только где-то вдалеке по Дворцовому мосту двигались неясно различимые сквозь густо падающий снег фигуры прохожих, похожие на несуществующие полотна импрессионистов, как если бы они писали наши северные пейзажи и оживляли наших литературных героев. Казалось, кто-то всемогущий и неведомый, Художник и Творец, играя, создаёт эти образы, невольно исполняя сегодня мои желания, и вознаграждение от Него, практически ни за что, только лишь за твоё искреннее (правда, ничем не замутнённое) желание, – как мимоходом заметил Ника, – оказывается всегда больше, чем ты ожидал и, тем более, заслуживаешь.
…Давно стихами говорит Нева,
Страницей Гоголя ложится Невский,
Весь Летний сад – Онегина глава,
О Блоке вспоминают острова,
А по Разъезжей бродит Достоевский…
«Получается, я всё ещё помню и люблю настоящее искусство, несмотря на разлитое вокруг море “клипового сознания”», – думал я. За спиной у меня проезжали машины, но их шум не нарушал возникшей и уже устойчиво существующей внутри торжественной тишины. Затем, на этом фоне, вначале едва слышно, потом всё более явственно зазвучала музыка, «как когда-то у Ники, в доме С. А.», – успел подумать я. Тягучая, печальная, такая созвучная сегодня моему сердцу мелодия соединилась с простыми гениальными стихами:
…Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит…
«И звезда с звездою говорит», – тихо повторил я про себя, глядя на силуэт Петропавловского собора и чувствуя, как оживает, снова становится свежей фраза о «застывшей музыке архитекторы». Потом я услышал уже знакомые мне строки Анны-Марии, переговаривающиеся, «перестукивающиеся» сквозь года с теми, что были написаны в последний год жизни Поэта:
Пора! Я вышла на Дорогу,
Туда, где путь Поэта серебром блестит.
Хочу продлить свою молитву Богу,
Услышать, как «звезда с звездою говорит»…
И опять возникла, но уже другая, грустная и трогательная мелодия ныне забытого барда, оставившего заметный след в жизни наших родителей, так быстро и нелепо погибшего на чужбине в конце прошлого века, после того, как он написал и спел: «…Я уехал из страны, где прожил жизнь, не разберу, чью…»
И вдруг частица того таинства и величия, что вечно наполняет души поэтов, – пусть только малая их часть, но и этого так много, – нашла отклик, зазвучала и продолжилась во мне, как, наверное, ранее это было и у Сонечки, и у Анны-Марии. Смутное знание того, что все мы, и я тоже – часть чего-то большего, где есть место всем нам, и моей прошлой, пусть примитивной, радости, и нынешней моей светлой печали, – появилось и не исчезало, но ближе подойти к этому едва проявленному переживанию у меня ещё не получалось… А затем, не помню, через какое время, произошло Нечто. Теперь я твёрдо знаю: впервые в моей жизни я обратился со своей не придуманной, не выученной, – иначе не могу назвать, – молитвой к Тому, чей День Рождения совершался сегодня, как уже более 2000 раз на Земле. Я не помню точно всех слов, но ощущение было такое:
«Господи! Ты есть Любовь! И та Великая Вселенская Сила, что присуща Божественной Любви и вечно стремится к своему воплощению на Земле, везде и во всём, – она ведь не может быть иной, кроме как свободной и независимой от всех существ, через кого она себя проявляет, иной, кроме как животворящей по отношению ко всем, кто даёт хоть какую-то возможность её воплощения! И разве Всеохватность и Сила Любви не способны раскрыть себя даже сквозь искажения нашего земного бытия, сквозь темноту и невежество ограниченного сознания, если только есть чистый порыв доверчивой души и необоримое желание единения с Вечно Созидающей сущностью… И, может быть, хотя бы на мгновение, это прикосновение способно пробудить и в нас то прекрасное и истинное, что замуровано нашей гордыней, себялюбием, обманами и многим чем ещё… Неужели это не так, Господи?»
Я поднял голову и увидел над собой уже освобождённое от облаков тёмно-синее небо и яркий серп убывающей Луны, окружённый постепенно открывающими себя звёздами. Меня переполняли попеременно чувства светлой грусти, неясной вины и благодарности. До новолуния, когда наступит время подумать о планах на год, как советуют звездочёты, оставалось два дня, но я решил уже сейчас загадать свои желания. «В рождество все немного волхвы», – снова вспомнил я петербургского поэта, и в то же мгновение услышал внутри себя, где-то в глубине складывающиеся сами собой, независимо от моей воли, безыскусные строки: «Когда я молча обращаю молитву первую к Тебе, могу ли знать, да и не знаю, что ты, Господь, ответишь мне. Но Ты ответил, Свет остался: он был, он есть, он не казался…»
Через несколько месяцев Ника прислал продолжение рукописи и приглашение встретиться с героями книги у него на даче.
От Ники Смирнова
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
А. С. Пушкин
У нас едино всё: и в малом, и в большом, кровь общая течёт по жилам всей Вселенной. А. И. Чижевский
Я открыл своим ключом дверь нашей квартиры и ,удивляясь царящей там тишине, прошёл сначала на кухню, где мирно открыл своим ключом дверь нашей квартиры и, удивляясь
обедали Диана с Евой. Приветствуя, они взглянули на меня, поняли, прекрасно зная распорядок нашей совместной жизни, что изменений сегодня не предвидится, и спокойно продолжили трапезу.
Я выпил воды, погладил обеих и вышел в гостиную, где, как всегда, привычно и легко, даже в сумеречном свете обнаружил маму. Она стояла у высокого окна, освещённая из-за спины причудливыми огнями празднично украшенного города. На ней было длинное, легко струящееся платье из тёмно-красной или даже бордовой ткани, которое я очень любил. И сейчас я с удовольствием отметил, что она в нём на своих высоких каблуках напоминает удлинённые силуэты женских фигур в витражах готических соборов, которые я недавно осматривал.
Мама услышала, как я вошёл, и сначала зажгла несколько светильников на стене, а потом включила верхний свет. Тут только я заметил, что она стоит не одна, а рядом с высоким, спортивного вида мужчиной, подчёркнуто строго и элегантно одетым.
– Арсений! – обратилась мама, и он обернулся. – Узнаёшь своего преданного оруженосца?
– Он изменился…
– Конечно. Теперь он носит на себе только модные усики и бородку.
Я радостно заулыбался и пошёл ему навстречу. Арсений – старинный, ещё со школьной скамьи, друг моего отца, а потом и всей нашей семьи, – занимал какой-то высокий пост и чин в министерстве обороны (а может быть, в каком-нибудь другом, тайном для нас ведомстве, и в силу этого донельзя засекреченный), – постоянно исчезал и появлялся без всякой видимой периодичности, то через несколько месяцев, то через несколько лет, но всегда как праздник, с фантастическими рассказами и подарками, причём главным подарком непременно был он сам: просто есть такие люди, само присутствие которых ни для кого не остаётся незамеченным и изменяет всё вокруг. Правда, мама не согласилась со мной, когда я как-то ей об этом сказал. Она утверждала, что если он захочет, то может стать невидимкой, но я здесь не усмотрел противоречия в силу той новой логики, что приобрёл в общении с Софьей Алексеевной.
– Просто «нечаянная радость»? – воскликнул я. – Не прошло…
– …и пяти лет, – подхватил Арсений, и мы обнялись. Потом он осторожно повертел меня своими сильными руками и удовлетворённо заключил:
– Нет, Катя, я вижу лишь короткую щетинку в нужных местах в нужное время, а в остальном, – он обратился ко мне, – ты всегда подавал надежды стать «милым другом» всех вокруг особей женского пола.
Его светло-серые глаза могли, по желанию, стать хрусталиками, в которых загорались манящие огни, но могли отражать и твёрдый взгляд со стальным отливом, а мужественная военная выправка, движения, как у дикого барса, – любимое выражение С. А., – выдавали в нём абсолютно молодого человека, независимо от возраста, и всё это вместе вызывало во всех без исключения людях, которых я знал, взрослых и детях, мужчинах и женщинах, – не просто восхищённое почтение, но даже, пожалуй, готовность и желание подчиняться.
– До тебя мне далеко, – честно ответил я, как в детстве, сразу чувствуя и принимая его превосходство, а мама не замедлила вскинуться:
– Перестань портить ребёнка!
На «ребёнка» мы оба фыркнули, но дальше Арсений повёл себя как-то странно:
– Может быть, пора уже начать посвящать его в наши «взрослые игры» и «недетские дела»?
Мама пожала плечами и отвернулась, тихо промолвив:
– Это ты сказал.
Арсений ответил ей тоже тихо:
– Не отрицаю.
Мне оставалось переводить взгляд с одного на другого:
– Я чего-то не знаю?
Готическая головка мамы чуть склонилась:
– Ты многого ещё не знаешь, но уже знаешь или догадываешься, что не знаешь.
Так как они по-прежнему многозначительно переглядывались и ничего не объясняли, я сказал:
– Если вы хотите уклониться от разговора, то, используя много раз один и тот же глагол, мы мало что достигнем. Можно переменить тему, – например, мы могли бы обсудить… положение на Ближнем Востоке.
Они даже не улыбнулись. Я постарался безболезненно для всех выйти из игры, пошёл в прихожую и вернулся с оставленным там букетом белых роз:
– Мама! Это – поздравление тебе от давнего поклонника – студента. Ничего, что я говорю так прямо?

