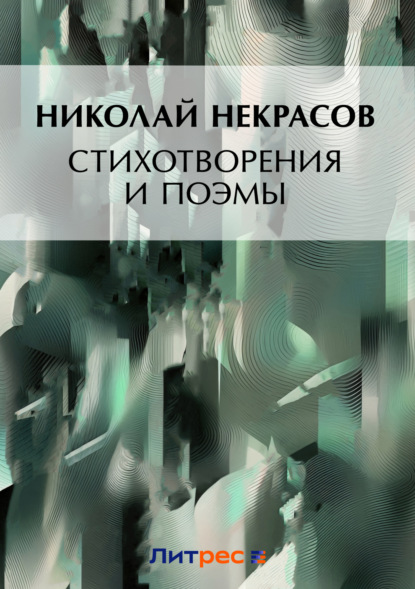 Полная версия
Полная версияСтихотворения и поэмы. Кому на Руси жить хорошо (сборник)
Клим
Колода есть дубоваяУ моего двора,Лежит давно: измладостиКолю на ней дрова,Так та не столь изранена,Как господин служивенький.Взгляните: в чем душа!Солдат
Пули немецкие,Пули турецкие,Пули французские,Палочки русские.Клим
А пенциону полногоНе вышло, забракованыВсе раны старика;Взглянул помощник лекаря,Сказал: «Второразрядные!По ним и пенцион».Солдат
Полного выдать не велено.Сердце насквозь не прострелено!(Служивый всхлипнул; в ложечкиХотел ударить, – скорчило!Не будь при нем Устиньюшки,Упал бы старина.)Клим
Солдат опять с прошением.Вершками раны смерилиИ оценили каждуюЧуть-чуть не в медный грош.Так мерил пристав следственныйПобои на подравшихсяНа рынке мужиках:«Под правым глазом ссадинаВеличиной в двугривенный,В средине лба пробоинаВ целковый. Итого:На рубль пятнадцать с деньгоюПобоев…» Приравняем лиК побоищу базарномуВойну под Севастополем,Где лил солдатик кровь?Солдат
Только горами не двигали,А на редуты как прыгали!Зайцами, белками, дикими кошками.Там и простился я с ножками,С адского грохоту, свисту оглох,С русского голоду чуть не подох!Клим
Ему бы в Питер надобноДо комитета раненых, –Пеш до Москвы дотянется,А дальше как? Чугунка-тоКусаться начала!Солдат
Важная барыня! гордая барыня!Ходит, змеею шипит:«Пусто вам! пусто вам! пусто вам!» –Русской деревне кричит;В рожу крестьянину фыркает,Давит, увечит, кувыркает,Скоро весь русский народЧище метлы подметет.–Солдат слегка притопывал,И слышалось, как стукаласьСухая кость о кость,А Клим молчал: уж двинулсяК служивому народ.Все дали: по копеечке,По грошу, на тарелочкахРублишко набрался…–Пир кончился, расходитсяНарод. Уснув, осталисяПод ивой наши странники,И тут же спал Ионушка,Да несколько упившихсяНе в меру мужиков.Качаясь, Савва с ГришеюВели домой родителяИ пели; в чистом воздухеНад Волгой, как набатные,Согласные и сильныеГремели голоса:Доля народа,Счастье его,Свет и свободаПрежде всего!Мы же немногоПросим у Бога:Честное делоДелать умелоСилы нам дай!Жизнь трудовая –Другу прямаяК сердцу дорога,Прочь от порога,Трус и лентяй!То ли не рай?Доля народа,Счастье его,Свет и свободаПрежде всего!Эпилог
Гриша Добросклонов
IБеднее захудалогоПоследнего крестьянинаЖил Трифон. Две каморочки:Одна с дымящей печкою,Другая в сажень – летняя,И вся тут недолга;Коровы нет, лошадки нет,Была собака Зудушка,Был кот – и те ушли.Спать уложив родителя,Взялся за книгу Саввушка,А Грише не сиделося,Ушел в поля, в луга.У Гриши – кость широкая,Но сильно исхудалоеЛицо – их недокармливалХапуга-эконом.Григорий в семинарииВ час ночи просыпаетсяИ уж потом до солнышкаНе спит – ждет жадно ситника,Который выдавался имСо сбитнем по утрам.Как ни бедна вахлачина,Они в ней отъедалися.Спасибо Власу-крестномуИ прочим мужикам!Платили им молодчики,По мере сил, работою,По их делишкам хлопотыСправляли в городу.Дьячок хвалился детками,А чем они питаются –И думать позабыл.Он сам был вечно голоден,Весь тратился на поиски,Где выпить, где поесть.И был он нрава легкого.А будь иного, вряд ли быИ дожил до седин.Его хозяйка ДомнушкаБыла куда заботлива,Зато и долговечностиБог не дал ей. ПокойницаВсю жизнь о соли думала:Нет хлеба – у кого-нибудьПопросит, а за сольДать надо деньги чистые,А их по всей вахлачине,Сгоняемой на барщину,По году гроша не было!Вахлак тянул «Голодную»И без соли – приправленныйКорою – хлеб жевал.И то уж благо: с ДомноюДелился им; младенцамиДавно в земле истлели быЕе родные деточки,Не будь рука вахлацкаяШедра, чем бог послал.Батрачка безответнаяНа каждого, кто чем-нибудьПомог ей в черный день,Всю жизнь о соли думала,О соли пела Домнушка –Стирала ли, косила ли,Баюкала ли Гришеньку,Любимого сынка.Как сжалось сердце мальчика,Когда крестьянки вспомнилиИ спели песню Домнину(Прозвал ее «Соленою»Находчивый вахлак).СОЛЕНАЯНикто как Бог!Не ест, не пьетМеньшой сынок,Гляди – умрет!Дала кусок,Дала другой –Не ест, кричит:«Посыпь сольцой!»А соли нет,Хоть бы щепоть!«Посыпь мукой», –Шепнул Господь.Раз-два куснул,Скривил роток.«Соли еще!» –Кричит сынок.Опять мукой…А на кусокСлеза рекой!Поел сынок!Хвалилась мать –Сынка спасла…Знать, солонаСлеза была!..Запомнил Гриша песенкуИ голосом молитвеннымТихонько в семинарии,Где было темно, холодно,Угрюмо, строго, голодно,Певал – тужил о матушкеИ обо всей вахлачине,Кормилице своей.И скоро в сердце мальчикаС любовью к бедной материЛюбовь ко всей вахлачинеСлилась, – и лет пятнадцатиГригорий твердо знал уже,Кому отдаст всю жизнь своюИ за кого умрет.Довольно демон яростиЛетал с мечом карающимНад русскою землей.Довольно рабство тяжкоеОдни пути лукавыеОткрытыми, влекущимиДержало на Руси!Над Русью оживающейСвятая песня слышится:То ангел милосердия,Незримо пролетающийНад нею, души сильныеЗовет на честный путь…–Средь мира дольногоДля сердца вольногоЕсть два пути.Взвесь силу гордую,Взвесь волю твердую, –Каким идти?Одна просторнаяДорога – торная,Страстей раба,По ней громадная,К соблазну жаднаяИдет толпа.О жизни искренней,О цели выспреннейТам мысль смешна.Кипит там вечная,БесчеловечнаяВражда-войнаЗа блага бренные…Там души пленныеПолны греха.На вид блестящая,Там жизнь мертвящаяК добру глуха.Другая – теснаяДорога, честная,По ней идутЛишь души сильные,Любвеобильные,На бой, на труд.За обойденного,За угнетенного –Умножь их круг,Иди к униженным,Иди к обиженным –И будь им друг!–И ангел милосердияНедаром песнь призывнуюПоет – ей внемлют чистые, –Немало Русь уж выслалаСвоих сынов, отмеченныхПечатью дара Божьего,На честные пути,Немало их оплакала(Увы! Звездой падучеюПроносятся они!).Как ни темна вахлачина,Как ни забита барщинойИ рабством – и она,Благословясь, поставилаВ Григорье ДобросклоновеТакого посланца…IIГригорий шел задумчивоСперва большой дорогою(Старинная: с высокимиКурчавыми березами,Прямая как стрела).Ему то было весело,То грустно. ВозбужденнаяВахлацкою пирушкою,В нем сильно мысль работалаИ в песне излилась:В минуты унынья, о родина-мать!Я мыслью вперед улетаю.Еще суждено тебе много страдать,Но ты не погибнешь, я знаю.Был гуще невежества мрак над тобой,Удушливей сон непробудный,Была ты глубоко несчастной страной,Подавленной, рабски бессудной.Давно ли народ твой игрушкой служилПозорным страстям господина?Потомок татар, как коня, выводилНа рынок раба-славянина,И русскую деву влекли на позор,Свирепствовал бич без боязни,И ужас народа при слове «набор»Подобен был ужасу казни?Довольно! Окончен с прошедшим расчет,Окончен расчет с господином!Сбирается с силами русский народИ учится быть гражданином.И ношу твою облегчила судьба,Сопутница дней славянина!Еще ты в семействе – раба,Но мать уже вольного сына!–Сманила Гришу узкая,Извилистая тропочка,Через хлеба бегущая,В широкий луг подкошенныйСпустился он по ней.В лугу траву сушившиеКрестьянки Гришу встретилиЕго любимой песнею.Взгрустнулось крепко юношеПо матери-страдалице,А пуще злость брала.Он в лес ушел. Аукаясь,В лесу, как перепелочкиВо ржи, бродили малыеРебята (а постарше-тоВорочали сенцо).Он с ними кузов рыжиковНабрал. Уж жжется солнышко;Ушел к реке. Купается. –Обугленного городаКартина перед ним:Ни дома уцелевшего,Одна тюрьма спасенная,Недавно побелённая,Как белая коровушкаНа выгоне, стоит.Начальство там попряталось,А жители под берегом,Как войско, стали лагерем.Всё спит еще, не многиеПроснулись: два подьячие,Придерживая полочкиХалатов, пробираютсяМежду шкафами, стульями,Узлами, экипажамиК палатке-кабаку.Туда ж портняга скорченныйАршин, утюг и ножницыНесет – как лист дрожит.Восстав от сна с молитвою,Причесывает головуИ держит наотлет,Как девка, косу длиннуюВысокий и осанистыйПротоерей Стефан.По сонной Волге медленноПлоты с дровами тянутся,Стоят под правым берегомТри барки нагруженные:Вчера бурлаки с песнямиСюда их привели.А вот и он – измученныйБурлак! походкой праздничнойИдет, рубаха чистая,В кармане медь звенит.Григорий шел, поглядывалНа бурлака довольного,И с губ слова срывалисяТо шепотом, то громкие.Григорий думал вслух:БУРЛАКПлечами, грудью и спинойТянул он барку бечевой,Полдневный зной его палил,И пот с него ручьями лил.И падал он, и вновь вставал,Хрипя, «Дубинушку» стонал;До места барку дотянулИ богатырским сном уснул,И, в бане смыв поутру пот,Беспечно пристанью идет.Зашиты в пояс три рубля.Остатком – медью – шевеля,Подумал миг, зашел в кабакИ молча кинул на верстакТрудом добытые грошиИ, выпив, крякнул от души,Перекрестил на церковь грудь,Пора и в путь! пора и в путь!Он бодро шел, жевал калач,В подарок нес жене кумач,Сестре платок, а для детейВ сусальном золоте коней.Он шел домой – неблизкий путь,Дай бог дойти и отдохнуть!–С бурлака мысли ГришиныКо всей Руси загадочной,К народу перешли.(В те времена хорошиеВ России дома не было,Ни школы, где б не спорилиО русском мужике.)Ему все разом вспомнилось,Что видывал, что слыхивал,Живя с народом, сам,Что думывал, что читывал,Всё – даже и учителя,Отца Аполлинария,Недавние слова:«Издревле Русь спасаласяНародными порывами».(Народ с Ильею МуромцемСравнил ученый поп.)И долго Гриша берегомБродил, волнуясь, думая,Покуда песней новоюНе утолил натруженной,Горящей головы.РУСЬТы и убогая,Ты и обильная,Ты и могучая,Ты и бессильная,Матушка Русь!В рабстве спасенноеСердце свободное –Золото, золотоСердце народное!Сила народная,Сила могучая –Совесть спокойная,Правда живучая!Сила с неправдоюНе уживается,Жертва неправдоюНе вызывается, –Русь не шелохнется,Русь – как убитая!А загорелась в нейИскра сокрытая, –Встали – небужены,Вышли – непрошены,Жита по зернышкуГоры наношены!Рать подымается –Неисчислимая!Сила в ней скажетсяНесокрушимая!Ты и убогая,Ты и обильная,Ты и забитая,Ты и всесильная,Матушка Русь!..III«Удалась мне песенка! – молвил Гриша, прыгая. –Горячо сказалася правда в ней великая!Вахлачков я выучу петь её – не всё же имПеть свою «Голодную»… Помогай, о Боже, им!Как с игры да с беганья щеки разгораются,Так с хорошей песенки духом поднимаютсяБедные, забитые…» Прочитав торжественноБрату песню новую (брат сказал: «Божественно!»),Гриша спать попробовал. Спалося не спалося,Краше прежней песенка в полусне слагалася;Быть бы нашим странникам под родною крышею,Если б знать могли они, что творилось с Гришею.Слышал он в груди своей силы необъятные,Услаждали слух его звуки благодатные,Звуки лучезарные гимна благородного –Пел он воплощение счастия народного!..1865–1877Примечания
Стихотворения и поэмыВ дороге. – Первое антикрепостническое стихотворение Некрасова, вызвавшее одобрение лучшей части русской критики. Варган – народный музыкальный инструмент; здесь – искаженное «орган», вероятно, речь идет о фортепиано. Перебрал по ревизии души… – проверил ревизские списки своих крепостных крестьян. Посадили на тягло… – Тягло – крестьянская семья, платящая подать, оброк, отправляющая все повинности и владеющая, по наделу, участком земли и луга.
«Вчерашний день, часу в шестом…». – Сенная – площадь в Петербурге (ныне площадь Мира), место телесных наказаний.
Памяти Белинского. – Стихотворение было написано тогда, когда запрещено было даже упоминать имя великого критика, и печаталось под названием «Памяти приятеля».
Буря. – Шубка – здесь: сарафан.
Несжатая полоса. – Станица. – Отвечая на недоуменные вопросы об употреблении этого слова в стихотворении, Некрасов писал: «Я ‹…› употребил слово «станица» потому, что с детства слышал его в народе, между прочим, в этом смысле: птицы летают станицами, воробьев станичка перелетела и т. п. Слова: группа, партия, даже стая, которыми можно было бы заменить его в «Несжатой полосе», кроме своей прозаичности, были бы менее точны, лишив выражение того оттенка, который характеризует птицу перелетную (о которой идет речь в стихотворении), располагающуюся время от времени станом, на удобных местах для отдыха и корма».
«Тяжелый крест достался ей на долю…». – Редактор посмертного издания «Стихотворений» С. Пономарев считал, что в этом произведении речь идет о матери Некрасова. Ему возразил Чернышевский: «Дело идет о совершенно иной женщине, о той, любовь к которой была темою стольких лирических пьес Некрасова» (то есть о А. Я. Панаевой).
Забытая деревня. – Многие современники усматривали в стихотворении политическую аллегорию, так как «Забытая деревня» появилась в печати вскоре после смерти Николая I и воцарения Александра II.
Поэт и гражданин. – Напечатано в качестве вступления к сборнику стихотворений Некрасова 1856 г. В речах гражданина заявлены принципы новой революционно-демократической эстетики, находившие выражение в статьях Белинского, Чернышевского. Не для житейского волненья… – цитата из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа».
Прости. – Относится к циклу стихотворений, посвященных А. Я. Панаевой.
Школьник. – Архангельский мужик. – Имеется в виду М. В. Ломоносов, происходивший из крестьян деревни Холмогоры Архангельской губернии.
Размышления у парадного подъезда. – А. Я. Панаева рассказывает об эпизоде, послужившем поводом к созданию произведения: Некрасов видел из окна своей квартиры, как дворники и городовые гнали крестьян от подъезда дома важного чиновника. В этом доме жил тогда министр государственных имуществ М. Н. Муравьев, будущий кровавый усмиритель польского восстания 1863 г. Н. Г. Чернышевский писал А. Н. Пыпину в 1886 г.: «Могу сказать, что картина:
Созерцая, как солнце пурпурноеПогружается в море лазурное –и т. д.
живое воспоминанье, как дряхлый русский грелся в коляске на солнце «под пленительным небом» Южной Италии (не Сицилии). Фамилия этого старика – граф Чернышев. Вторая заметка: в конце пьесы есть стих, напечатанный Некрасовым в таком виде:
Иль, судеб повинуясь закону, –этот напечатанный стих – лишь замена другому». Граф Чернышев, который упоминается в этих пояснениях, – очевидно, князь А. И. Чернышев, военный министр, позднее председатель Государственного совета. Предлагалось несколько вариантов прочтения замененной строки, о которой говорит Чернышевский: «Сокрушив палача и корону», «Иль покорный царю и закону», «Иль царей повинуясь закону». Однако все эти предположения основаны на догадках и документально не подтверждены. Последняя часть «Размышлений у парадного подъезда» со слов «Назови мне такую обитель» стала одной из любимых студенческих песен. Стихотворение использовалось революционерами в их пропагандистской деятельности.
На Волге (Отрывок). – Расшива – большое плоскодонное деревянное судно.
Похороны. – Стихотворение стало популярной народной песней. В черновых вариантах «Похорон» облик самоубийцы как народолюбца выступал более отчетливо.
Коробейники. – Поэма посвящена костромскому крестьянину Г. Я. Захарову, постоянному спутнику Некрасова в его охотничьих скитаниях. Вожеватый – обходительный, приветливый. Подошла война проклятая… – Крымская война 1853–1855 гг. Подоконники. – просящие под окнами, нищие. Косуля – разновидность сохи. Кашпирята с Зюзенятами. – Кашпировы – ярославские, а Зюзины – костромские помещики. Гогулино – деревня в Ярославской губернии. Да в Трубе, в селе… – Очевидно, сокращенное название села Трубниково. Шунья – местность возле Костромы. Прокурат – плут, обманщик. Спиридово, Давыдово – села Костромского уезда. Зерцало – трехгранная призма с тремя указами Петра о соблюдении правосудия, выставлявшаяся в присутственных местах. Поля не ораны – не паханы.
Зеленый Шум. – Образ Зеленого Шума заимствован поэтом из игровой песни украинских девушек. В этом стихотворении Некрасовым найдена та строфическая и ритмическая структура, которая вскоре была использована в поэме «Кому на Руси жить хорошо».
«Надрывается сердце от муки…». – В стихотворении отразились впечатления от расправы с передовой общественностью, учиненной правительством в 1862–1863 гг. (процессы Н. Г. Чернышевского, Н. А. Серно-Соловьевича, М. Л. Михайлова и др.).
Орина, мать солдатская. – Сестра поэта сообщает: «Орина, мать солдатская, сама ему рассказывала свою ужасную жизнь. Он говорил, что несколько раз делал крюк, чтобы поговорить с ней, а то боялся сфальшивить».
Мороз, Красный нос. – Ходебщик – разносчик, коробейник, офеня. Плашка – небольшое бревно, расколотое пополам. Косу клепала – отбивала (точила) косу молотком на металлической бабке. Спасов день – церковный праздник в августе. Новина – небеленый льняной холст.
Железная дорога. – Первая в России – Николаевская (ныне Октябрьская) железная дорога между Москвой и Петербургом, строителем которой считался «главноуправляющий» путями сообщения граф П. А. Клейнмихель, была построена в 1842–1855 гг. Видел я в Вене Святого Стефана… – Собор Святого Стефана, архитектурная достопримечательность Вены, заложен в XII в., современный вид принял в XIV–XV вв. Или для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка? – Генерал перефразирует строки Пушкина из стихотворения «Поэт и толпа». Термы – древнеримские бани.
Памяти Добролюбова. – Впоследствии Некрасов сопроводил стихотворение примечанием: «Надо заметить, что я хлопотал не о верности факта, а старался выразить тот идеал общественного деятеля, который одно время лелеял Добролюбов».
«Умру я скоро. Жалкое наследство…». – Стихотворение является ответом на многочисленные обвинения Некрасова в отступничестве в связи со стихами, обращенными к М. Н. Муравьеву. Но еще ранее (3 марта 1866 г.) Некрасов получил стихотворение «Не может быть» за подписью «Неизвестный друг», написанное в связи со слухами о лицемерии поэта. Автором этого стихотворения была поэтесса О. П. Мартынова (Павлова).



