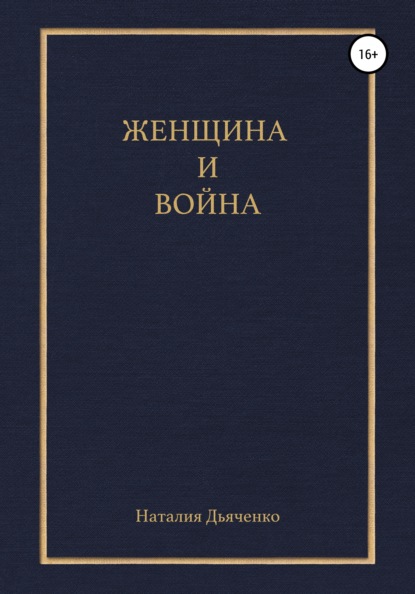 Полная версия
Полная версияЖенщина и война
Пока с кабаном возился, пока базок подправлял, брат всё Дарью попрекал, пока домой не поехал.
А на Рождество собрался и поехал в соседний хутор до Ивана Затолоки. Посидели в его опустевшей хате. Отца он уже похоронил. Выпили самогону, закусили салом да яишницей, закурили самосад. Посетовал Затолока, как ему несподручно одному. Дашин брат сказал, что Дарья согласная замуж за него идти, и договорились о скором венчании.
От Затолоки брат до сестры поехал сразу, чтобы не откладывать в долгий ящик. Сестре Иван сказал тоном, не терпящим возражения, что договорился с Затолокой, венчаться будут под Новый год. Перечить Даша побоялась – а вдруг больше не приедет помогать. А там корова тельная. Самой с отёлом не справиться. Брату смолчала.
Но когда брат уехал, как тигрица металась по хате: и плакала, и ругалась, и грозилась в адрес брата и в адрес Затолоки, что по его вышло, а не как ей хотелось.
И прощения у своего Стефана просила: «Кабы б не хозяйство… Век бы замуж не пошла. А без хозяйства как жить?»
Обвенчал их тот же батюшка, что и со Стефаном венчал. Закусив губу, стояла Даша под венцом во второй раз.
Жить Даша настояла в её хате. У Ивана хозяйства всего-то несколько кур, а скотину так запросто в чужом базу не устроишь. Да и белить холостяцкую, прокуренную махоркой хату зимой не сподручно.
Гостей много не собирали. Время не то. Немногочисленная родня (многих в войнах да в революцию перебили) и Груня с дитём и со своим австрияком. Довольнёхонька была! Подружку любила, да и к Ивану Затолоке благоволила.
Зимние дни короткие. Гости засобирались домой – хозяйство надолго не отпускало. Корову подоить, свиньям дать корму, кур на насесте пересчитать, гусей проверить, овец покрепче запереть (вдруг шалый волк с голодухи заскочит). Да и сараи и баз запереть надёжно и собак спустить.
Осталась Даша один на один с Иваном. Лампу засветила, начала столы убирать. Иван половики сгарнул и пошел вытрусить на улицу. Не знал, что сказать, куда себя деть. Скотину проведал, всё закрыл, выкурил самокрутку на пороге и вошёл в хату. В хате уже был порядок, половики постланы с холоду. Печь прогорела, в хате стало свежать. Даша разбирала постель и молчала. От смущения, не зная, что делать, Иван снова вышел, потоптался во дворе, напился холодной воды в сенцах и вошёл. Даша лежала в постели, подперев рукой голову. Сразу бросилась в глаза коса около белой руки, плечи под белой сорочкой, пышные подушки в кипельных с прошвой наволочках и белый пододеяльник на лоскутном одеяле.
– Ну, хотел быть моим мужем? Что ж, иды, сполняй свою мужескую обязанность. – Съехидничала Даша.
Ивана одновременно захлестнула обида, злоба и желание сжать её в своих руках так, чтобы стала податливой, покорной. Хотел хлопнуть дверью и идти куда глаза глядят. И ожгла одновременно мысль: «Не дастся! Силой возьму!» Задул лампу. А не надо было силы. При первом же прикосновении Даша всем своим существом потянулась к нему, с неистовством отдавая своё тело его мужской плоти. Путаясь в волосах, задыхаясь запахом её тела, шепча неизвестно откуда взявшиеся ласковые слова, Иван утонул в её ласке. Через мгновение её лоно трепетно приняло его семя.
Эта ночь подарила им первенца, Митю.
Так началась их семейная жизнь. Управляясь по хозяйству, делая немудрёные дела по дому, приглядываясь друг к другу, зажили они на удивление спокойно, рассудительно. Дашина бойкость поубавилась. Иван умело и крепко начал хозяйствовать. Да и год выдался удачный. Корова принесла двух телят, свинья хорошо опоросилась, куры и гуси в этот год водили большие выводки, цыплята и гусята не дохли и не болели, а хорошо росли. Овцы приводили по два ягнёнка, а одна трёх привела.
Через девять месяцев Даша сына родила, а за ним и еще бог послал дивчину да два хлопчика.
Груня к доченьке родила ещё двух мальцов. Да только один, самый маленький, вскорости умер от коклюша.
Трудно, ой, трудно налаживалась жизнь в хуторах. Продразвёрстка, бандитские грабежи. А тут ещё советская власть, боясь казаков, выживала казачий дух арестами, расстрелами.
Посымали из святых углов иконы, бережно спрятали на дно сундуков, надеясь дожить до хороших времён, когда образа вернутся на место. Исчезли со стен фотографии – увидят в казачьей одёже, можно беды нажить. Казачью одёжу сменили кто на что. Шашки казачьи кто посмелее спрятал, а кто и выкинул. Не слышно стало распевных казачьих песен.
Нарождались и подрастали дети, которые уже украдкой слышали слово «козак», а более слышимое «советская власть», «комсомол», «большевики» властно входило в жизнь, ломая старые уклады.
А за этим грянула коллективизация. Сколько же она людей погубила! Сколько слёз пролили ночами люди! Сколько битых нещадно было жён! Растерянные казаки били жён – и тех, которые не соглашались отдавать скотину в колхоз, и тех, которые уговаривали отдать всё: будь она проклята, советская власть, только бы сохранить жизнь себе и детям. Били зло, тяжело страдая и вымещая на жёнах своё бесправие и бессилие защититься и защитить своё добро, свои семьи.
Закрывались и разрушались церкви. Священники и монахи – которые приспосабливались в миру, а которые уходили в отшельники: в горы, в леса, в пустоши и изо всех своих сил помогали людям словом, советом, молясь за них и ободряя божьим учением. Их вылавливали, арестовывали и гнали по этапам. Эти святые люди находили и там слова утешения, вселяли в страждущих надежду и веру в светлое будущее. Сколько их, безымянных посланцев бога, служителей людям, сгинуло в тяжёлую годину испытаний! Были и такие, кто с высшим богословским образованием взяли на себя крест юродивого добровольно, чтобы быть среди людей, поддержать их словом божьим, приободрить верой в Господа, уберечь от стихийных бунтов, которые ничего не давали, а только приносили новые страдания, новых мучеников, научить терпеть во имя ближнего, не злобствовать. Сколько их, безымянных сподвижников священнослужителей, несших бремя любви к людям, возложенное на них господом, сохранивших в очередной раз православие на русской земле. А значит, национальную культуру.
Иван Затолока, добрый, крепкий хозяин и рассудительный казак. Как ни жаль ему было хозяйства, сразу сказал:
– Отдадим всё, что потребуют, надо жизнь детей сберегать.
– Да как же ж ты их сбережёшь? Без хозяйства. Чем кормить будем? – рыдая не соглашалась Даша.
– На то мы с тобою и батько и маты, чтоб думать об этом.
– Иван! Та не можно нашу ухоженную скотину у ти руки отдать. Кто колхозом командуе. Васька-кацап, который в работниках робить не умел. Всё его нужно было хозяйвам пинать та пидгонять.
– Время такое, Даша, время…
Дальновидный, немногословный Затолока упрямством, ласками, уговорами всё-таки уломал свою любимую строптивую Дарью. И сами повели они свою ухоженную скотину на раздолбанный колхозный двор, и сами пошли работать в колхоз.
– Молчи только, молчи, Даша, – напоминал Иван, – Нигде ничего не говори. Всегда помни казачью поговорку: «Мовчи та дышь, буде барыш».
И Даша с Иваном молча работали в колхозе.
Курочек развели снова, гусей, утей – это разрешали. В городе на базаре Иван купил козлёнка. В колхозе коз не было, вести было некуда, а козочка подрастала, к весне козлёнка привела. До козла Иван в соседний хутор к древней бабке Крыженихе возил. Не посмели у старой бабы забрать её старого козла. И сослужил он добрую службу, от него Затолокиных козочка козлёнка привела и молочко в доме появилось.
Днём в колхозе. А вечером дома, управляли огород да немудрёное хозяйство. Курочку в выходной зарезали – сварили, да десяток яичек Даша на станции у пассажирских поездов продала. До станции от хутора 12 километров. Пешком пройти надо. На эту денюжку деткам купили пару кроликов. Они тоже со временем оказались подспорьем в хозяйстве.
Больно было видеть сараи да котухи без скотины. А ещё труднее свою скотину ухоженную на колхозном базу грязную, худую. Кормить скотину было нечем в колхозе. Колхозники кто как работали. Были, что с душой работали как Даша и Иван Затолоки, были которые спустя рукава работали по принципу «не моё засыпалось, не моё мелется», а были и такие, которые исподтишка гробили колхозную скотину в злобе на Советскую власть.
А скотина-то при чем? Подойдёт Даша к своей бурёнке, жалость разрывает её сердце. И приласкает бурёнку, и краюшкой хлеба с солью угостит.
Иван по весне из скотников ушёл в пастухи. Пас колхозное стадо коров. Пас по-хозяйски, добросовестно, как своих. И скотина к лету справная стала. И молока коровы стали давать больше.
Дашу поставили телят доглядать.
И Даша, и Иван в хозяйственных семьях родились, сами добрыми хозяйвами стали. И эта хозяйская жилка не позволяла им и в колхозе, считай, с чужим добром, нерадиво работать. Медленно, со скрипом, проклятиями казаков и плачем баб разворачивались колхозы на казачьей земле.
Ивана хотели поставить председателем колхоза. Да не надо ему это было. Ему больше нравилось хозяйствовать, а не командовать. Да и умом понимал: чем меньше его видно, тем безопаснее.
А вокруг творилась круговерть. Кто-то тайком ночью резал скотину. А толку? Всё сразу не съешь. А потом что? Арест, увозили неизвестно куда. Кто-то не отдавал скотину. Тоже арестовывали и увозили в никуда. Кто-то грозил Советской власти, подговаривал хуторян «защищать» своё добро. Тоже арест.
А в разорённых гнёздах оставались беззащитные несмышлёные дети. Кто умирал от голода, кто становился добычей воров и карманников, кто попрошайничал, и только малую толику из всех осиротевших приютили родственники.
Стук в окно ночью давно уже ничего хорошего не предвещал. Или бандиты пришли грабить, или арест. Однажды ночью постучали в окно хаты Ивана и Даши. Постучали кА-то несмело и торопливо. Сердце у Даши упало. Иван подошёл к двери.
– Кто?
– Иван, открой. Это я, Груня.
– Груня? – открывая дверь, удивился Иван, – Ты чего ночью?
На вошедшей Груне лица не было.
– Раскулачивают нас.
– Да ты чё?!
За ней вошли дети, Маша и Петька. Захлёбываясь слезами, дрожащим голосом Груня просила сберечь детей.
– Всё уже описали и нас завтра отправляют в город. – всхлипнула Груня, – К нам уже приставили двух красноармейцев, чтобы мы добро никуда не дели.
Помолчала, собралась с силами и продолжила:
– Уж я их кормила, кормила… Всё равно добру пропадать! Нехай едят… Они тоже голодные. Уж поила, поила их самогоном. Насилу дождалась, пока поуснут. Запрягла подводу…
Рыдания перехватили ей горло. Привсхлипнула.
– Деток посадила и к вам степом…
И вдруг бухнулась на колени к босым ногам Ивана. Стала целовать Ивановы ноги, омывая их слезами; жарко дыша, со стоном молила сберечь детей.
Смущённый Иван поднял Груню, посадил на стул, Даша принесла воды. На детей, жавшихся в углу, никто не обращал внимания. А они стояли молча и от всего происходящего дрожали мелкой дрожью. Даша в слезах обещала Груне беречь детей как своих.
– Поеду я, пока не хватилися, – слабым голосом сказала Груня. Обняла детей, запричитала, обголашивая их:
– Детушки мои милые, вы простите нас, не можем с батькой мы вас ро́стить, холить. Живите долго, будьте счастливы. А мы обязательно к вам вернёмся.
Дети плакали навзрыд. Молчали проснувшиеся дети Затолокиных.
– Ну будет, буде, Груня, – сказал Иван, – себя-то с Гансом как можете берегите. А детей – хоть один будет жив из нас – будем беречь как своих. Езжай! Чтобы никто не бачил, что чужая подвода стояла возле нас. Да и тебе надо поспешать.
Иван вышел с Груней. Даша обессиленная села на стул, пригорнула Груниных детей к себе, содрогаясь в беззвучных рыданиях.
Попервах Даша прятала Груниных детей от чужих глаз. А потом на вопросы хуторянок небрежно говорила:
– Та приблудилися. Мало их, что ли, по свету бродит.
От греха подальше скрыла, что это Грунины дети. И своим детям строго-настрого наказала, чтобы всем говорили – приблудилися. Грунину то мельницу все в округе знали.
Школа открылась четырёхлетка на хуторе. Сразу пошли и старшие и малые. А потом на станцию в семилетку. Там была школа для детей железнодорожников. Детей рабочих железной дороги начали учить в школе ещё до Советской власти.
Трудодней в колхозе не платили. Только палочки ставили. Нечем было давать. Колхозы перебивались с хлеба на квас. Хозяина, руководителя в колхозе не было. Правил колхозом кто хотел. А добрые хозяйва старались дома своё хозяйство сколотить. Колхозники разворовывали зерно, голодные коровы давали мало молока, начался падёж скота. И все напасти валились с разных сторон на колхозы. Новое это дело – колхоз, непонятное. И непонятливые люди бились, сами не зная, за что, в нужде, страхе сохраняя свою жизнь и жизнь детей, надеясь на светлое будущее.
И вдруг колхозникам на трудодни стали выдавать выбракованных поросят. Истощённых, у кого ножка вывихнута, кто кашляет. Председатель сказал:
– Всё равно сдохнут. А так и трудодни отдадим, и может у кого-то и выживет.
Даша и козьим молочком стала выпаивать своего поросёночка, и хлебушек ему выделяла.
– Ничо́го, дитки, – уговаривала Даша детей, – сейчас чуток ужмёмся, зато по осени сало у нас буде.
А потом и по второму поросёнку дали лучшим колхозникам. Летом трава пошла, было чем кормить. Дети, пока мать да батько в колхозе роблють, и кролям травы принесут, и свиньям лебеды нарвут и запарят. Со стола объедки: то очистки картошки, то капусту, то борщ недоеденный – всё свиньям шло. Под покров подросшего козлёнка резали, к рождеству кабанчика, а второго к пасхе. Как в былые времена водилось. У деток уже и синюшность от недоедания прошла.
А потом, радость-то какая, выбракованных телят на трудодни давали всем, кто хотел. Многие отказывались. Телята доходяги. Сдохнет – ни трудодней, ни телёнка.
А Затолокины взяли. Им, как многодетной семье, первым дали, да ещё и тёлочку. Тёлочку Иван принёс на руках. Идти она не могла. Рёбрышки выглядывали из-под клочьями торчащей телячьей шёрстки. Да и на переднюю ногу хромала. В глазах – предсмертная тоска. Вот-вот сдохнет. Занёс её в хату Иван, Даша детей послала скорей соломки принести и подостлать в углу, а сама стала молочко козье греть. Поднесла тёлочке к мордочке, ласково приговаривая: «Трунь-трунь-трунь», опустив два пальца в молоко, пыталась засунуть в рот телёнку. Сначала тёлочка не понимала, что от неё хотят, шарахалась, дети её поддерживали, чтобы не упала. А потом сообразила, что с пальцами ей попадает молоко. И с удовольствием присосалась к пальцам.
– Мамка, дайте я, дайте я1, – галдели дети около телёнка.
– Цыц! – прикрикнула Даша, – оно, глядить, як ссать начне, черепушку разбиту подставьте. Чтоб у хати не воняло. Та навоз с соломой выносите сразу, як тёлка справится.
Тёлочку назвали Зорькой. Два дня Даша сама поила ослабленного телёнка, потом детям доверила. А сама добродушно подшучивала над собой старой казачьей поговоркой: «Дождалась сучка помощи – сама сидит, а цуценя (щенок) гавче».
Иван со станции привёз толокна. Задорого купил. Деньжата с зарезанных и проданных на станции курочек все почти ушли.
– Ничо́го, – уговаривали они один другого, – тёлочку выходим, молоко будет, деткам совсем хорошо будет, ещё здоровее будут.
И это удалось Затолокиным. Вырастили тёлочку.
Продразвёрстка много съедала: и яйца, и молоко, и мясо со свиней, и шкуру со свиней ободрать и целиком сдать государству. Но и своим детям было что поесть. Уже и тетради, и учебники могли купить. И одёжу хоть в натрусочку всем могли купить. А ну-ка, шестерых одень…
Даша научилась молиться без икон. Перед сном окрестит каждого из спящих детей. Сама перекрестится, попросит у Бога прощения за вольные и невольные свои грехи и просит выслушать её молитвы. Молила Бога сохранить деток, молилась Матери Божьей, чтобы была деткам заступницей, чтобы дала им счастья человеческого. Просила сохранить жизнь себе и Ивану, чтоб деток оберегать.
Маша Грунина уже заневестилась. У Петьки и Митьки усы появились. Голенастая дочка Шура из подростка в невесты метила. Такая же, как мать, ладная, спорая на работу, вышивальщица и певунья. Николка с Иваном тоже подрастали.
Маша заканчивала курсы медсестёр. Митька с Петькой пошли работать в депо на станцию. А Шура с Николкой и Иваном ещё ходили в школу. У Ивана Затолоки седина осела на висках, заблудилась в усах. Хлопоталась Даша по дому. Опять на базу скотина обжилась. Вздохнуть бы теперь, сказать: «Ну, слава богу, жить начали как люди».
41-й год! Война! Опять война!
В июле Даша уже проводила своих хлопчиков Петьку и Митьку на фронт. Сама отвезла их на подводе на станцию. Эшелон долго не отправляли. Офицеры охрипшими голосами покрикивали на новобранцев, взывали к провожающим:
– Мамаши! Отойдите! Отойдите!
Каждая мать, жена, невеста хотели в последний раз одарить лаской, заглянуть в любимые глаза, сказать последние слова любви перед расставанием, может быть, навсегда.
Наконец, ночью эшелон сформировали. И тяжело пыхтящий паровоз медленно, словно чувствуя свою вину перед женщинами, потащил вагоны с любимыми мужчинами.
Кто-то давился рыданиями. Кто-то кричал о своей любви. Кто-то в оцепенении провожал вагоны, ища любимый взгляд.
Тёмная степь поглотила Дашу. Неслась она в бричке не чувствуя страха и молилась. Она молила Бога быть заступником её мальчикам. Она просила заступницу, Божью Матерь сохранить и помиловать её кровиночку, сыночку. Она просила сохранить и помиловать груниного Петю. Ветер в лицо, дрожащие губы шепчут молитвы, прерываемые безумным материнским криком. И слёзы! Горькие слёзы!
– Я же обещала Груне сберечь её детей! – причитала Даша.
Просила и молила Стефана простить её, что не сохранила его дитя, и умоляла быть заступником Мите и Пете.
А когда краешек солнца выдвинулся из-за горизонта, остановила лошадей, стала на колени посередь дороги, и начала класть земные поклоны как истая язычница, прося Солнце уберечь Дмитрия и Петра. Из глубины подсознания языческая молитва сама приходила ей на ум.
Машу мобилизовали в госпиталь работать. За нею пошла и Шура. С госпиталем они и эвакуировались, когда немцы заняли Кавказ.
Младших по малолетству военкомат не взял, и они работали в колхозе и эвакуировали колхозный скот с отцом.
Немцы на Кавказе были мало, да и то части, сформированные из солдат, набранных в завоёванных немцами странах. Чехи вели себя очень культурно. Румыны безудержно мародёрствовали. Но по отдалённым хуторам они побаивались ездить. Так, наведались раза два в хутор. Однажды курей у Даши забрали. Вот и всё.
Под немцами Даша была одна… Берегла хату Даша, да худобу, кое-какая осталась. Опять одна! Только думки да молитвы за близких. Как там Маша да Шура? Хлопцы! Живы ли? Батько с Миколкой та Иваном? Храни их усих Господи!
Немцы неожиданно быстро ушли. Вскорости Иван с сынами и колхозниками пригнали исхудавший, измученный скот.
Отступали на Моздок. Коров не успевали доить, доили прямо на дорогу, посуды не было. Старались до села дотянуть дойку, чтоб сельчанам в ихнюю посуду доить. Да куда там! Суета! Суматоха! Своих коров некому доить, своя эвакуация…
Жара августовская, пылища. Недоенные, голодные коровы ревут. А дальше степями, без воды. Где какой колодец, где какой прудочек – скотину напоить. Пили сами молоко до отвращения. Рубахи, портки в молоке стирали.
Кое как на чёрных землях перестояли ползимы. Обратно погнали, начался падёж. Начали скот отбирать для поставки мяса армии.
Вот и пригнали с гулькин нос, да и те еле-еле на ногах держатся. Стали колхозное стадо по дворам распределять, обязывать колхозников до весны кормить колхозных бурёнок со своими. А где сено взять, если свои впроголодь стоят? Но дотянули до первой весенней травки.
Ивана председателем выбрали. Тяжёлое это дело – командовать развалившимся колхозным хозяйством, да ещё с одними бабами – то вдовыми, то больными, и все в горькой нужде.
Поставки продовольствия в армию – начпрод2 требует, кричит, военком грозит под трибунал отдать, если не сдадут столько, сколько нужно. И горком на сознательность давит.
– Да разве ж я не понимаю! Мои сыны там, на фронте! Неужели же я не хочу позаботиться, чтоб сыты были! Но негде взять… Разорено всё. Люди сами едва концы с концами сводят…
– Надо!!!
Первым с фронта пришёл Петя, с обожжёнными с правой стороны шеей, ухом и нижней челюстью. На правой руке трёх пальцев нет, на левой двух. В танке горел. И порадовались все, и поплакала Даша:
– Как же он теперь коле́чка жить-то будет?
Вскоре отец сказал:
– Семья тебе нужна, Петя. Приглядел я тебе дивчину хорошую – Аню Левикину. Красивая, скромная, хозяйственная, из хорошей семьи. Давай сватать.
Засватали. Свадьбу сыграли какую могли по тому времени. Пока младших в армию не забрали, поспешили саманов наделать Петьке на хату, чтоб Петька сам, отдельно жил.
Стены сложили отец с Петькой, крышу пока камышом покрыли, потолки все вместе глиной накидали. Мазать стены глиной собрали гурт. Бабы пришли как на праздник – в нарядных косынках, кофточки праздничные, вот только юбки старые, чтобы нарядные в глине не выделать. Замес месили с песнями, шутками. Даша обед на всех сготовила как раньше, да ещё и прибережённый на пресвят день самогон достала. По маленькой чарочке, но всем досталось. С весёлых песен перешли на грустные старинные казачьи песни. Уже и луна целиком высунулась из-за горизонта посмотреть, что же это там на хуторе делается, а бабам всё хотелось расходиться.
Пока глина сохла, Иван с Николкой и Ванькой на станции по разбомблённым домам доски на пол отобрали, на колхозной бричке привезли и начали пол стлать.
– Детушки малые будут. Разве дело на земляном полу детей растить?
Так же гуртом прошпаровали3.
А уж побелить труда большого не надо. Печь Иван сам сложил.
Через полгода молодые уже сами жили. Петра выбрали председателем. Да что-то не заладилось у них. Грустная Аня, смурной Пётр. А когда отец завёл разговор, неожиданно Петька начал выговаривать отцу:
– Да не нужна мне она! Такая жена, которая меня жалеет, мне в глаза заглядывает, мне услуживает. Мне, отец, казачка бравая нужна, чтоб я ей слово, а она мне десять в ответ. А эта мямля! «Петечка, Петечка…»
В калитку вошли сваты.
– Аня собралась уезжать.
Даша к снохе:
– Аня, да как же так?
– Петя сам сказал, чтобы я уезжала. Он мне и паспорт выписал4.
Никакие уговоры, увещевания не помогли. Уехала Аня.
А Пётр хорошо хозяйствовал в колхозе. Освоил косу своими пятью пальцами на две руки. Научился запрягать лошадей, дрова колоть. И через год нашёл себе казачку, полную противоположность Ане: крепко сбитую в отличие от тоненькой изящной Ани, черноволосую, кудрявую, стриженую (у Ани русая коса ниже пояса), бойкую на язык Татьяну. И привёл её в свой дом.
Родила Татьяна ему двойню – мальчиков, а спустя три года дочь Олю.
У Мити за всю войну было только одно ранение, да и то не тяжёлое. Видно, дошли Дашины молитвы до бога.
Воевал Митя не только в Европе, но пришлось ему добраться аж до Дальнего Востока. Пока его часть перебрасывали на Дальний Восток, японская война закончилась, а часть так и осталась там. Спустя год-два его пригласили в штаб и предложили ехать учиться в Ленинград. Митя с радостью согласился. Учиться он любил. Да ещё в Ленинграде жила его сводная сестра Мария, дочь Груни.
Со своим мужем Маша познакомилась в госпитале. Лётчик морской авиации, майор. Ранен он был в лёгкое. Он был очень тяжёлый – между жизнью и смертью – и к тому же не хотел жить. Поэтому он отказывался есть, принимать лекарства, не хотел менять повязки, ни с кем не общался. Говорили, что у него в блокаду погибла вся семья. Двадцатилетней Маше он, майор тридцати шести лет, казался уже пожилым, и она почтительно называла его по имени-отчеству. И, как ни странно, ей удавалось мягко, но настойчиво заставить его пить лекарства. Терпеливо кормила его с ложечки бульонами, киселями. Перевязки делала тоже она.
Неожиданно майор стал ей рассказывать о своих сыновьях, о жене. О которых он тосковал и винил себя, что вовремя не настоял на их эвакуации, а послушал тестя и тёщу – мол, вместе им будет легче. Умерли все от голода.
Трудно, но пошёл майор на поправку. Выписался из госпиталя. Уехал. А спустя год, когда госпиталь уже вернулся из эвакуации, приехал и сделал Маше предложение. Маша далека была от любви, но жалела его и согласилась выйти замуж, твёрдо веря, что её забота ему нужна. Зарегистрировались по законам того времени за один день, и он забрал её с собой в часть. Теперь он служил в Ленинградском военном округе, был уже полковник. А Маша стала работать в медсанчасти того же полка.
Шура приехала из эвакуации беременная. Батько дитыны был матрос, который лечился в их госпитале. Кто его знает – может, убили на войне, а может, и не вспомнил девчонку-медсестру, которой задурил голову.

