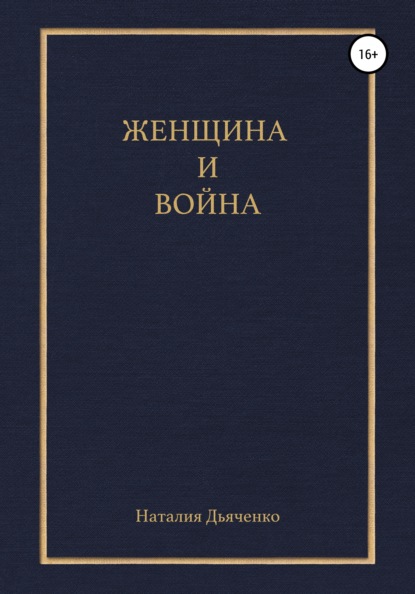 Полная версия
Полная версияЖенщина и война
– Иде Даша?
– У коровнику. Корову обняла и плаче.
– Зови до гостей её.
– Не хоче, звала, – ответила с сердцем Дуня.
– Ну, идее наша невеста? – вышел на порог уже повеселевший от чарки Иван, старший брат.
– Иди, сынку, до Дарьи, бо строптива. Наломае дров! А я до гостей пиду.
– Дарья!
– Чо́го тоби?
– Сваты до тебе!
– Скажи им, шо я не пиду за Стефана бо вин байстрюк.
– Ишь воно як! Ву́мна дюже як вутка. Шо ты смыслишь у жизни! Батько, мате согласны и усе. Им виднее. Попробуй тильки сватам казать «нет». Бачила? – и поднёс огромный кулак к её носу. Даша аж задохнулась от возмущения. Её никогда, никто и пальцем не тронул, все её баловали, а тут кулак показали.
– Дарья! – послышался грозный голос отца.
– Умойся, стыдоба! – сказал брат и вышел из коровника.
Умытая, но всё равно было видно – заплаканная – вошла Даша в горницу. Помрачнел Стефан. Беспокойным взглядом окинула избранницу сыночки Ульяна. «Что ж такое? Чего она не хочет за Стефана? И красив, и хозяйственный, и непьющий. Может, другой на сердце?»
– Ну вот, дочка, сваты пришли, – начал отец, – Стефан тебя в жёны выбирает. Добрый козак! Ну як? Чё скажешь?
Даша встретилась взглядом с братом, посмотрела на другого, произнесла: «Согласна» и выбежала из хаты.
Гости продолжали застолье. Пили самогон, плотно закусывали. Достали окорок, закопчённый еще на Пасху, который раз шкворчала яишня, начали бочку арбузов, уже успевших просолиться, пели песни, обговаривали день свадьбы, вели речь о приданом. Мать не удержалась, повела Ульяну к Дарьюшкину сундуку и стала показывать и подзоры на постель, и наволочки с прошивами, и рушники.
– Всё сама вывязала да вышила, – приговаривала Степанида. Довольна Ульяна:
– Добру козачку выбрал сынок.
Свадьбу решили не торопить и играть на Рождество. Хутор быстро облетела весть: «Дашку засватал Стефан».
Свадьба была казачья.
Широкая да раздольная, как степь, которая окружала окрестные хутора. Приятно было Дарье стоять перед алтарём с таким красавцем, но строптиво повторяла про себя: «Я тоби покажу! Я тоби покажу, как сватов засылать не спрося меня», сама еще не зная, как она ему будет показывать.
Отшумела свадьба. Переехала Дарья с приданым в хату к Стефану и свекрови. Рад Стефан, – бойкая, красивая, певунья стала его женой. Про себя повторял: «Уж я тоби, моя любонька, так буду любиты, так лелеять, сама на мои ласки откликнешься». Да не тут-то было. Вот где Дарья отыгралась на нём. Он к ней с лаской в постели, а она шум поднимает. Знает, что свекрови всё слышно. Управляют скотину на базу, ловко работает Даша со Стефаном. Не удержится Стефан, где-нибудь обнимет, прижмёт к себе. Как змеюка сычит: «пус-с-сти», из рук вырывается, а от этого еще желаннее становится.
Злится Даша, да пуще работает. Свекровь за подойник, Даша перехватит и сама доить корову, свекровь корм свиньям нести – Даша поперёд возьмёт. И хворосту к печи принесёт, и печь растопит, и сготовит. Пол помоет – как яичко блестит. Всё спорится в руках. Ладную девку вырастили, только уж очень строптива. Никак Стефана не признаёт.
Мало того, что Дарья не ласки не отвечает, гонит от себя, да ещё и подружкам бахвалится: «Я ёму не даю, не подпускаю до себе, чуть шо шум подымаю, шоб мате слышала»… Подружки хихикают, да мужьям рассказывают. Казаки начали над Стефаном подсмеиваться, а кто и учить начал:
– Да намотай косу на руку, да дай ей хорошо. Коса на то бабе и дана, чтоб укрощать. Не боись, сама ластиться начнёт как кошка.
Молчит Стефан. Стал ещё угрюмей. Всё норовит с хаты уйти. То у базу что-либо делает, то тын поправляет, то верхом на лошади в степь умчится на охоту. С казаками старается не встречаться, боится их насмешек.
Вот и весной потянуло. Ходил Стефан на хутор, где Даша жила. Дело у него было к дядьке своему. Встретилась ему Дуняша, сноха Дашина. Так приветливо она поздоровалась и лукаво спросила:
– Ну как? Скрутил свою строптивую жинку?
Помрачнел Стефан.
– Ты не печалься! Ну не созрела она ещё до бабьего возраста. Дитё ещё. Ей поиграться ещё хочется, как кошенёнку. Подождь, Стефан.
– Скоко ждать-то ещё? – буркнул Стефан и пошёл своей дорогой.
Дошёл до края хутора. Хата тётки Полины, родная тётка Даши и задушевная подружка матери. Сам не заметил, как в калитку вошёл и постучал в двери.
Тётка Полина рано овдовела. Детей Бог не дал. Жизнь вела пристойную, никто пальцем не мог показать. Хозяйство помогали вести братья, а потом подросшие племянники.
– Ой, Стеша, – как мама, ласково обрадовалась ему и назвала как в детстве, – Проходь, проходь!
Стефан прошёл не снимая кожуха и тяжело сел на табурет.
– Теть Поль, ну чё мне с ней делать? И женой не даётся, и подружкам трендит. Как меня отваживает. Бить жалко. Мала ещё, да глупа. Козаки уже смеются надо мной!
– Снимай кожушок! Я тоби сейчас чарочку налью. Сядим да погуторим.
Тётя Поля не по возрасту легкой походкой прошла до печки, с припочка принесла тарелочку с пирожками.
– А я как знала, что гость дорогой будет у меня, вишь, пирожков напекла, – говорила она, беря чистую тарелку и открывая ляду в подвал.
– Стеша, поможи мени. Возьми сало, – и подала кусок сала в соли, а вслед тарелку с солёными огурцами и помидорами, – Ось я ще капустки достану, арбузы солёни вже закончились. Та ещё бутылёчек с самогоном.
Засквочала яишенька на сковороде. Нарезая сало, тётя Поля обронила:
– Те тесть твий солив сало.
– Ну, усё, кажись, подала. Давай я тоби налью самогоночки.
– А соби?
– Н-и-и… Яка ж порядочна козачка в будний день пье? Козаку можно. Ты закусывай, закусывай! Ось пирожочки, сало, яишенька. Я и соби положу и огуречик и вот картошечки почистю и яичко зъим, – приговаривала она. Налила Стефану вторую стопочку и прибрала бутылёк.
– Ты, Стеша, не горюй, – заговорила снова тётя Поля, возвращаясь к столу, – не доросла вона ще до постели. Робить по хозяйству, шить, готовить еду, стирать – это всё вона за мамкой делала. Дюже взрослой хотела быть. Степан улыбнулся. – Бачил, як цуценя? Бежить, за ноги хватае! Вин же ще не сторожуе, вин же тильки грается. А сучка в стороне сидить, наблюдае. Потому смеясь и кажуть: дождалась сучка помочи, сама сидыть, а цуценя гавчет. От так и Даша. Хозяйнуе, думает, що вона взросла. А с тобой грается, як тот цуценя.
– Та козаки-то надо мной смеются! Обнять не даеться, вдарить не можу, я ж её люблю!
– А и не надо. На битьи любовь не зробишь. Ось я тебя навчу… Ты наберись терпения и не обращай на неё внимания. Як до стенки. Спать ляжешь и ложись с краюшку до ней спиной. Управляетесь у скотины вместе – ловчи и не обращай на ней внимания. Ось погодь…
– Тёть Поль, мамке тильки не кажить, совесно, да вона и сама видить и расстраивается.
– Ни, не сомневайся, Стеша. Той разговор меж нами.
Долго ещё сидел Стефан у тёти Поли. Много тётя Поля рассказывала ему о Даше. Какая Даша была маленькая строптивая. Как дюже любил её батько и баловал. Как долгими зимними вечерами, чтобы не сидеть одной, тётя Поля просила у брата Дарьюшку. Как учила её кружева плести. Как рушники вышивали. Какие вместе песни пели. И теплело на душе Стефана:
– Всё-таки славную я соби дивчину выбрал. А остальное всё образуется, – думал он сквозь тёплую полудрёму.
Пришёл домой, когда уже первые петухи отпели.
– Ничого, мамка, усё в порядке, – ответил он на тревожный взгляд матери. Прошёл в свою комнату. Даша не спала, по дыханию было слышно, но лежала тихо, как мышка. «Ага, не спит, значит, волнуется», – отметил радостно про себя Стефан. Разделся, лёг спиной к Даше, как учила тётя Поля, и сразу же заснул лёгким сном, как будто бы камень с души упал.
А Даша недоумевала: «Как же так, где-то был, лёг, не стал к ней прижиматься, гладить волосы, да ещё спиной и сразу заснул».
Наутро жена молчала и всё пыталась по глазам его узнать, что случилось. Но Стефан глаза отводил и молча делал свои дела. Навоз у коровы вычистил, Даша тут же соломы свежей охапку принесла, постелила, промолчал. Свиньям принесла. Запарку в ведре не подхватил, не сказал, что ей тяжело. На стол подала – не взял за руку, не стал взгляда искать, а как ночь наступила, опять лёг с краюшку, спиной к ней.
Горится Даша…
Хорошо играть, когда тебя любят. А вот когда равнодушием обдают…
Радуется Стефан, видя её грусть и недоумение: «Значит, не совсем я ей не нужен. Только не спеши, наберись терпения, помнишь, что тётка Поля говорила»…
Март ушёл. Апрель подступился. Ранняя тёплая весна. Птицы прилетели, сады зацвели. Вся худоба в базку суетится по-весеннему. Петух кукарекать на огорожу взлетел, телёнок во дворе взбрыкивает на весеннем солнышке, пытается сено бодать, гуси гогочут, шумно крыльями машут и громко перекликаются, как только в небе пролетают дикие гуси-лебеди, индюк болтает грозно, крыло распустив и чиркает им по земле, отгоняя всех от индюшек. Пчёлы вылетели из улья и гудят над цветущими деревьями.
Только Даше грустно:
– Значит, я ему больше не нравлюсь… Тогда кто ж у него на сердце? А я? Я же его жена венчанная! Да как он мог!
А уже привыкла к заботе Стефана. Ох, как хочется, чтобы ласково за руку взял. Не берёт… Самой подойти гордость не позволяет. Как же, щас, жди! Не подойду…
Видит Стефан грусть Даши, хочется ему её приласкать, утешить. Да помнит он мудрый совет тёти Поли: «Не спеши, а то начнёт из тебя верёвки вить, тогда уже не сладишь».
Вечереет. Чувствует Стефан – не удержится, обнимет свою Дарьюшку…
Только с поля приехали, еще бричку не распрягал. Сели вечерять. Даша притихшая подает еду. Так бы и обнял эти плечи, так бы и приник к губам.
Весна голову кружит!
Сны-то снятся как милуется, как ласкается он со своей коханочкой.
Поели. Прилег Стефан на лавку, тело приятно ломит от работы в поле, щёки горят от весеннего солнца. Даша посуду моет, со стола стирает крошки. Мимо пройдёт – такая желанная, голова кругом. Поднялся Стефан, вышел. Солнышко село. На пруду лягушачьей свадьбы хор во весь дух поет. Перепел в степи бьёт. До коли ж ты мени мучать будешь? Открыл воротца, прыгнул в бричку и стоя во весь опор погнал лошадей в степь. А Даша увидала в окно, и в слёзы. Вошла свекровь.
– Куда это он?
– Э-э, девонька, да ты никак плачешь! Та всё образуется.
Упала Даша на кровать и волю слезам дала. Всё, всё теперь кончено! В той стороне, куда он поехал, есть хутор, а там солдатка-вдовица живет и к ней многие казаки и старые и молодые наведываются. Это тоже Даша узнала на посиделках. Вот и мой Стефан уехал к ней! Так мне и надо. А если он на ней женится? А я куда? Папка с мамкой не примут. Замуж меня венчанную никто не возьмёт. «Бедная я, бедная», – жалела она себя, – «что же мне теперь делать?»
Плакала, плакала, и заснула. И не слышала она, как вернулся Стефан, как укоряла его мать, что дивчину довел до слез. А Стефан улыбался счастливой улыбкой и благодарил Бога, что мать лампу не зажгла и в темноте не видно его улыбки. Плакала? Значит нужен я ей!
Вошёл в комнату. В темноте едва увидал свернувшуюся калачиком фигурку на кровати, которая иногда ещё всхлипывает как ребёнок. Обнять бы, придушить в объятиях, припасть к губам!
Вышел из хаты, закурил. Взял бурку и лег в бричке спать.
Утром покорная и грустная Даша решила: буду много работать, может он одумается, вспомнит, что у него венчанная жена есть.
Весна! Травы высокие, ночи лунные, зори росные. Птицы о любви поют. Каждая травиночка любовью полнится. И невольно на ум приходит шаловливая казачья песня
«Ночью глазки горят
Ночью ласки дарят
Ночью все о любви говорят…»
А Стефан снова бричку не распрягает. Повечерял и бросил небрежно через плечо:
– Дарья, закрой за мной ворота!
«Опять до солдатки нарунжился!» – сердито подумала Даша, – «Я ворота закрою, но и с тобой поеду. Я тоби на чистую воду выведу. Я тоби в твои бесстыжие зеньки погляжу» – распалялась Даша.
Быстренько ворота прикрыла и бегом бричку догонять, да сзади, как ей показалось, тихо, прыгнула, свесив ноги. Стефан краем глаза всё усёк, да притворился, что не видит.
Порядочно отъехав от хутора, он как бы нечаянно оглянулся, увидел Дарью, остановил коней, обошёл бричку.
– А ты шо тут подчипилася? Куды собралась?
Нарочито грубым голосом спросил, а потом как гаркнет:
– Марш до дому!
У Даши и смелость вся пропала. Спрыгнула с брички и со слезами домой побежала. А ночью страшно степью бежать! И страх, и обида, и жалость к себе заставили Дашу рыдать в голос:
– Ой же ж лихонько мени! Теперь я ему точно не нужна!
Бежит, плачет, причитает, сердце гулко бьётся, кажется ей, что за ней крадётся.
А в хате свету нет.
– Свекруха лампу потушила и легла. Стыд-то какой! Спросит: где была?
Подхватила с тына полушубок и в амбар. А Ульяна-то свет потушила не спать, а чтобы двор в окно видеть – где ж там её молодые? Ноет материнское сердце. Когда ж лад-то будет между ними? Видела, как Даша прибежала. В хату не пошла, а в амбар юркнула с полушубком.
Полушубок ещё хранил тепло, набранное от знойного солнца, пах Стефаном. Упала на полушубок Даша, перемешивая рыдания с причитаниями:
– И сама я виновата! И пожалеть меня некому! Что ж я наробила! Бедная я, бедная… Теперь Стефан меня отведёт до отца с матерью. Я уже ему совсем не нужна. Дома будут попрекать куском хлеба… Кто ж меня теперь замуж возьмёт… И некому меня пожалеть…
Рыдая и причитая, она не услышала, как подъехала бричка. Стефан тихим шагом ехал за ней по степи следом.
Стефан подошёл к амбару, сел на корточки и закурил. Сердце его разрывалось от жалости, а он не знал, как подойти.
Зато мать из окна видела.
– Ох, сынок, сынок! Добрую козачку себе выбрал, красивую, работящую, умную, да больно уж строптива! Сил нет смотреть, как ты маешься.
Девичьи слёзы как майский ливень. Бушует, да и быстро проходит. Не заметила Даша, как уснула, только всхлипывала как ребёнок после долгого плача.
Луна заглянула в амбар, окутав своим таинственным светом ладную фигуру молодой женщины. Забыл Стефан и советы тётки Полины, и про коней нераспряжённых. Обнял осторожно Дашу. А ей снится, что мамка её обнимает, и прижимается Даша к мамке нежно… А объятия становятся сильнее…
«Ой, Божечки!» – спросонок испугалась Даша, – «Та то ж домовой душить! И угораздило ж мени пойтить одной у амбар. Ой, Божечки! Девки казали, як домовой душить, с ёго головы надо шапку сорвать, он спугается и исчезнет!»
Стала Даша дрожащей рукой шарить, чтобы шапку сорвать с головы домового. Да только шапки не было на голове, а вместо лысины домового – кудри шелковы. Поняла Даша – Стефан это! Всё здесь: и радость, что он вернулся, и что домовой её не задушит, да и женское начало в ней пробудилось.
Ох, и миловал же её Стефан в ту ночь! И наверное не было в тот миг женщины счастливей на земле. И это счастье любви, ласки, нежности всю её долгую жизнь оставалось с ней. Утешало в горе, помогало двигаться дальше по жизни.
Не слышали они, как мать распрягла лошадей и ушла в хату, тихо прикрыв дверь. Не встретили они и первый луч солнца. Подхватились когда мать уже корову выгнала в стадо.
Теперь казачки подсмеивались над Дашей:
– Ну что, повыкобенивалась? Теперь поняла как с мужем сладко спать?
Года не прошло – Даша доченьку родила.
И всё-то у них хорошо было: хозяйство прибывало, меж собой лад, с матерью дружно жили.
Да только вот шёл 1914 год. «Ох, война, что ж ты, подлая, сделала»… Забрали Стефана на фронт в сентябре, а в ноябре глотошная (скарлатина) удавила дочушку. После Рождества весть принесли о гибели Стефана. Не выдержала мать, две недели полежала и умерла тихо, словно свеча погасла. И осталась Дарьюшка со своим горем и хозяйством одна.
Где-то в Петербурге в семнадцатом году была революция. Потом Гражданская война накатилась. Раскололись семьи, брат на брата пошёл, сын против отца стал. Банды шарились по степи. Озлобились люди. Не стало в них жалости, добродетели. А жить надо было!
Застыла душа Дашина. Двадцати не минуло, а уже вдова, и дитя схоронила. С тех пор Даша не пела, кроме колыбельных детям и внукам.
Каждый год веют ветры седой ковыль. Веют события времён!
Снова истоптанные конницей поля стали прорастать колосьями. Чудом оставшиеся в живых после германской войны, революции, гражданской казаки стали возвращаться до дому. Вот только одёжу казачью им пришлось сменить на мужичью. И, оставаясь в душе казаком, откреститься на людях от казачества, чтобы выжить.
Груня, Дашина соседка по девичеству, подружка детства, также овдовевшая в германскую, встретилась ей неожиданно на базаре. Обрадовались подружки! Спешат и расспросить, и о себе рассказать, и знакомых вспомнить. Да какой разговор на базаре…
– Антипа моего убили ещё в четырнадцатом годе, братьёв побили в гражданскую, отец Антипа помер, и осталась я на мельнице одна. Хоть бы кровиночка Антипова осталась… Так не дал же ж бог забеременеть. Приезжай, Дашка! Уж поговорим обо всём. Пшеницу захвати, смелем.
– Как же ж ты одна с мельницей управляешься?
– Приезжай, узнаешь! – чмокнув Дашу в щёку, лукаво улыбнулась Груня.
И поехала Даша. Подъехала на бричке к мельнице. Народу – со всей округи, даже с дальних хуторов. Кроме этой мельницы негде смолоть пшеницу. Увидала Даша с брички мельника. Хромой мужичок, весь мукой присыпанный, молча указывал очередному, куда мешки нести.
Слезла Даша с брички, подошла к мельнику, спросила Груню. Он молча кивком указал на хату. А Груня уже увидала в окно, выскочила на улицу навстречу подружке раздетая, только шаль успела накинуть.
– Дашка! Дарька! – налетела она на Дашу. – Приехала! Пишлы́ у хату!
– Погодь. Мени надо ж бричку пиставить, да ко́ний разнуздать.
– Чичас! Кажу своёму австрияку, вин усё сделае… Проходь у хату, а я чичас.
Груня подошла к мельнику. Австрияк завёл под уздцы коней. Не только разнуздал, но и выпряг, задал корму, два мешка с пшеницей из брички унёс на мельницу.
И засуетилась Груня вокруг подружки. Стол накрывает.
– Ось трошечки самогону в мени е… Мы и выпьемо с тобой, подружка.
Ставя самогон, потянулась Груня и боком коснулась Дашиного плеча. И Даша почувствовала тугой живот подружки.
– Грунь, ты чё?
Груня залилась краской, а потом вскинула голову, в глаза Даше посмотрела и… как в холодную воду прыгнула:
– Да рази мы с тобой, Даш, виновати, що наших козаков побили? Що ж нам на корню смолоду сохнути? Усю нашу жисть проклятая война сгубила. Чёт тоби, хорошо ночью в постеле одной выть, подушки кусать, да ласки Стефана поминать?
– Грунь! Да ты чё? Рази ж я тоби сужу? Чё оправдываешься? Дитё ро́дишь!
– Давай, подружка, помянем наших козаков…
Выпили подружки молча по чарке не чокаясь, закусили огурчиком и заплакали обнявшись. Даша почувствовала, как Грунин ребёнок толкнулся в утробе. Даша отстранилась, налила по полчарке.
– Много незя тоби. Давай, Груня, выпьемо шоб твоё дитё родилось здоровым и век с тобой жило. Горькая тучка пролилась слезами и пронеслась. Оно и понятно, дело молодое. Ну, рассказывай, хто он?
– Да как тебе сказать, Даш… Я ещё на базаре успела сказать, что Антипа моего убили, родни не осталось, одна на этой мельнице. И страшно, Даш! И как жить дальше – не знаю! Живу! Трясусь.
Не в эту зиму, а в прошлую ветрюган был, гололёд. Скотину закрыла на ночь, повернулась. Ах-ти! А у плетня фигура мужичья стоит. Веришь – страх сковал, усё унутри дрожит, а ёму так смело кажу: «Чого тоби надо?» А вин в ответ: «Матка! Кушай! Кушай!» Ишь, матку найшов! Лохомындрики на ём таки ж жалкенки. Увесь трясется… Думаю: выгоню – у степу замерзнет. Чё грех на душу брать? Так и позвала его у хату.
Обрадовался, засуетился, чё-то лопочет, а трясется ещё больше. То ли от радости, то ли от страха, что передумаю. Я его покормила, самогонки налила, а он согреться не может. Ой, думаю, заболеет, а то еще и помрёт. Что я делать-то буду? Нагрела воды бочку, погнала его париться. Горячей воды подливаю, а он стесняется, прикрывается… Напарила. Не грязные же лохмотья одевать – достала Антипову одёжу, всё равно уже не пригодится.
Как помылся – волосы как пшеница, глаза как небо весной голубые-голубые, а борода рыжая.
Напаренного не на пол же ложить. Кровать одна. Самой на полу спать не больно хочется… Вот так и поладились.
Объяснил кое-как, что австрияк он, в плену был, красные расстреливали, домой не может добраться.
А утром у скотины прибрался, двор осмотрел. Кое-как калякает по-нашему, понять можно. Сейчас уже лопочет бойчее. Предложил сделать мельницу, чтоб работала. А теперь я его уже не отпущу к австриякам! Он мой! А австрияки пущай соби там других австрияков ищут.
– Счастливая ты, Груня!
В дверь постучали.
– Здоров дневали, бабы! – поздоровался вошедший казак, да не по-казачьи одетый.
– Здоров, здоров! – откликнулась Груня, – Проходь, Иван. Ось мы тоби стопочку нальем.
– Не откажусь, сноха!
Выпил, закусил.
– Я чого до тебе, Груня. Пшеницу привёз. Буде время, смелите, я потом заберу. Батько помирае…
– Та конешно, конешно, Иван! Ой божечки ж! Одно горе кругом!
Иван вышел.
– Красные у батьки его коня взяли. А як билы прийшли, плетьми забили, шо коня красным дав. Вот и маялся доси, пока смерть нашла его…
И потёк бабий разговор: про горести ушедших войн, как бы хорошо им жилось со своими казаками. Бабам-то было всего по двадцать. И забыли они, как казачек казаки за волосья тягали, да по пьяне буцали кулаками ни за́ что на их хуторах. В своих мечтах забыли про крутой нрав заматеревших казаков.
– Грех жить невенчанной, подружка! Да что делать? В нашу в нашу церьков он не хочет, а ихней нет… Как дитя назвать? Кто крестить будет?
А тут и дело к вечеру. Забеспокоилась Даша, засобиралась. Страшно в степи ночью. Банды пошаливают.
Ганс запряг лошадей, мука уже была в бричке. Расцеловались подружки. Груня шепнула Даше игриво:
– Примечай, Даша, при мужике-то лучше.
– Да где ж его взять! Австрияки на дороге не валяются!
С тех пор дружба снова, как в детстве завязалася.
Время минуло. Дитё родилось. Груня Дашу да Ивана в кумовья наметила. Но Иван заупрямился:
– Не пиду крестить дитё с Дарьей!
– Ой, Иван, да ты никак на Дашку глаз положил?
– Ну положил! Нельзя по нашей вере, чтобы кум с кумой были муж с женой.
– Ой, смотри, строптивая дюже! Сможешь уломать?
А сама стала Ивана зазывать, как Даша придёт, да поближе к Даше сажать. Однажды Иван Груню попросил:
– Ты это, Ганса не посылай коней запрягать. Я сам запрягу, а если что, и провожу.
Запрягал Иван коней не спеша, по-хозяйски. Увидал, что и сбрую пора бы починить, и хомут потёрся, и бричка требует хозяйских рук. «Трудно хозяйствовать одной бабе». – думал Иван, заглушая думками робость перед бойкой казачкой. Уж больно она ему нравилась. Понимал, что росту не хватало до Дарьи, а душа прикипелась.
Когда Даша на подводу залазила, подал ей руку. Глянула она на Ивана насмешливо.
– Чого це? Барыня я, что ли, али немощна?
Ловко запрыгнула на подводу. Разбирая вожжи, опять посмотрела. Он ей что-то давал в руки.
– Что это?
– Записка. Домой приедешь, прочтёшь.
– Ха! Ухажёр! Добрые козаки головы положили на хронте, а таки как ты к их вдовам в постель лезите.
Как кнутом ожгла она Ивана. Но записку не выкинула.
Дома развернула, прочла: «Даша, я тебя полюбил». Бросила записку на стол, упала на кровать в рыданиях по своему Стефану.
Больно пережил Дашин упрёк Иван – кавалер четырёх георгиевских крестов. Но не оставил Дашу. Следующая записка была: «Даша выходи за меня замуж». Ожгла злым взглядом Ивана и молча пустила лошадей рысью.
Время идёт, а Иван и не навязывается, но и не отступается. Груня всегда через кого-либо передавала, когда Даша приезжала к ней. Провожая очередной раз Дашу, Иван спросил:
– Ну, что ты мне скажешь?
– Чё скажу? Настоящии козаки на войне перебиты, а ты иде отсиделся?
Сердито хлестнула вожжами лошадей и укатила геть.
– Бесись, бесись, – проговорил Иван вслед, играя желваками, – все равно моей будешь.
Через несколько дней приехал старший брат к Даше, помочь кабанчика к Рождеству заколоть. Пока Даша хлопоталась – печь соломой топила, воду грела, брат Иван взял каких-то две бумажки с подоконника, у которого стоял стол.
– Даш! А кто это пишет?
Досадуя на себя, что вовремя не выкинула записки, раскрасневшаяся от плиты и от смущения, нарочито равнодушным тоном ответила:
– Та Иван Затолока.
– А ты чё?
– Сказала, что настоящих козаков на войне перебили, а приблуду мне не надо.
– Дура! Ты хоть знаешь, что он полный георгиевский кавалер? Ты хоть знаешь, как он воевал? С курячьими мозгами еще козаку в душу плевать!!! Сватается добрый козак! Хозяин! А ты еще и нос воротишь! А ты подумала о хозяйстве? Я тоби, что ли, буду приглядывать? Так у меня своя семья. Козак ей не такий! Я тоби быстро со своего хребта скину!

