
Полная версия:
Знак обратной стороны
– Без разницы. Я просто хочу, чтобы он тупо был горячим, – и, повернувшись ко мне, пояснил. – На улице резко похолодало, а я весь день по городу бегаю в одной рубашке. Вот, смотрите.
Художник протянул руку, которая вся покрылась гусиной кожей. Надо же, а так не скажешь, что он настолько замерз. Лишь сейчас я заметила у него татуировку чуть пониже локтя. Несколько странных символов, значение которых мне было не известно. Роман проследил за моим взглядом и прокомментировал:
– Ошибка бурной молодости.
– Похоже на какие-то иероглифы…
– Да, что-то общее есть, – Роман ткнул пальцем в расположенную выше других загогулину, чем-то смахивающий на нотный знак бемоля. – Связь.
– А этот? Похоже на какой-то график функции.
– Верность. Их опоясывает символ выбора, – провел по изогнутой черной полоске Роман. – Остальные линии дают сочетание называемое «крест на могиле». Вместе все четыре знака образуют фразу, означающую в общем нечто вроде «неизбежность судьбы», «фатум».
– Я никогда прежде не видела такого.
Не люблю признаваться в подобном, но татуировка вызвала странное ощущение. Словно надо мной начало довлеть нечто мрачное, чему нельзя было противиться. Перед глазами промелькнул образ большой черной птицы, закрывающей солнце. Неужто опять приступ? Но нет, стоило Роману закрыть татуировку рукавом, как мне сразу стало легче.
– Мало кому известны эти знаки.
– Какой-то вымерший язык? Вроде клинописи или пиктограмм майя? – предположила я. – Просто больше ничего в голову не приходит.
– Нет, это искусственный язык, – поспешно бросил художник. До нас как раз дошла очередь делать свой заказ. – Мне американо, а девушка будет, я полагаю… да, точно… сделайте два американо и еще кусочек штруделя.
– С вас сто девяносто рублей, – кассир выдал нам распечатанный чек и номерок: – Поставите его на свой столик. Ваш заказ будет готов через несколько минут. Спасибо за то, что выбрали наше кафе и приятного аппетита.
Вся эта длинная речь была выдана на одном дыхании с неизменной дежурной улыбкой. У меня самой в загашнике была пара таких вот благодарственных заготовок. Раньше я не находила в них ничего дурного. Но чужая вежливость так отдавала фальшью, как порой резиной отдают китайская «кожаная» сумка или перчатки.
Мы выбрали столик подальше от входа, но не так далеко, чтобы потом пришлось пробираться через весь зал. Роман крутил между пальцами номерок, с двумя цифрами «7» и «3». Я приняла их за счастливое предзнаменование: четные числа нравились мне почему-то намного меньше нечетных. Разговор опять заглох. Пришлось спасать ситуацию.
– Значит, «тупо горячий»? Интересно…
– Что именно? – Мужчина определенно не хотел возвращаться из далекой страны своих размышлений.
– Не знаю, – пожала я плечами. – Просто представила себе такую ситуацию. Где-то в параллельной реальности один одинокий мужчина приходит в кафе и спрашивает: «А какой у вас есть кофе?». А ему отвечают: «Сегодня такая плохая погода, идет фиолетовый дождь, вы, должно быть ужасно замерзли. Я бы осмелился посоветовать вам взять «тупо горячий» кофе с облаками из невероятно пушистых сливок»
Роман рассмеялся:
– Вы не пробовали писать книги? Или, не знаю… анекдоты сочинять?
– Что, глупость? – Зажмурилась я от смущения.
– Немного. Но что-то в этом есть. Я бы внес еще чай для неопределившихся, который менял бы цвет от нежно-изумрудного до насыщенно-коричневого. И, пожалуй, мороженое для чистюль, которое предупреждающе кричит, прежде чем капнуть на новенькую юбку. – Теперь пришла моя очередь засмеяться. – Знаете, Виктория, наши встречи приносят мне огромную пользу. Не знаю, может, вас уже тошнит от моего общества…
– Что вы!
– …но после общения с вами я ухожу наполненный. Духовно, я имею в виду. Вот прямо сейчас в моей голове (а вы помните – у меня внутри огромный колодец, откуда я черпаю вдохновение) рождается парочка идей. Знаете, иногда я спрашиваю себя, что хуже: когда их нет, или когда их слишком много? Половина того, о чем я думаю, так где-то и остается. Как вы сказали, где-то в параллельной вселенной. А здесь эти задумки похожи на мертворожденных младенцев. Обидно хоронить их вот так, даже не пытаясь спасти.
– Кстати, – вернулась я к прежней теме беседы, – тот знак. «Крест на могиле»? Почему он так называется?
– Не можете отстать от моей татуировки? – Вовсе не разозлился Роман. – Понимаю, она у многих вызывает интерес. Эти знаки… как бы объяснить… Я столкнулся с ними, когда мне было около двенадцати лет. Намного позже, уже будучи взрослым, копаясь в старом хламе в родительской квартире, обнаружил что-то вроде пособия. Некие записи на иностранном языке. Там были эти символы, этот алфавит. И я принялся их изучать. Вот и вся история.
– И вы можете писать на нем или…?
– Он не предназначен для передачи информации. Знаки можно комбинировать определенным образом, получая новые значения, но написать такими значками письмо или даже свое имя не выйдет. Я вас разочаровал?
– Наоборот, еще больше заинтриговали. У меня, скажем так, фетиш на всякие мистические штучки. Не то, чтобы я верила в астрологию или там, в духов. Просто мне нравиться обладать неким знанием. Чего угодно, от построения хайку до гадания на картах таро. Наверное, я слишком тщеславна. Но иногда так хочется щегольнуть какой-нибудь заумной фразой или сделать нечто такое, чтобы окружающие рты пооткрывали.
Тут принесли наш заказ, и пришлось отвлечься. Официант выставил на середину стола две чашки и тарелочку со штруделем. Я думала, что последний предназначался Роману, но мужчина отодвинул тарелку в мою сторону.
– Это мне?
– Да.
– Спасибо. Хм… надо же… я ведь ни разу не пробовала штрудель. Сколько раз порывалась его заказать, да все как-то…
– Не решались? Боялись развеять ореол таинственности над этим блюдом?
– Скорее, как вы, бежала от новизны, – ковырнув ложечкой тесто, честно ответила я. – А теперь прошу меня извинить, раз мы с этим австрийским красавцем, наконец, нашли друг друга, позвольте мне ненадолго замолкнуть.
– Изобразить барабанную дробь? – поинтересовался Роман. – Все-таки такой торжественный и напряженный момент. Это не шутки Виктория. Этот обольститель станет для вас первым, и все прочие штруделя… штрудели вы будете сравнивать именно с ним. Учтите это, вынося свой приговор.
Кусочек выпечки шлепнулся обратно на тарелку. Ложка в моих руках тряслась вместе с рукой и остальным телом.
– Так нельзя, – сквозь слезы прохрюкала я. – Роман, вы – невозможны.
– Салфетку? – Услужливо протянул квадрат тонкой бумаги художник.
– Благодарю. Признайтесь, сколько жизней вы загубили? С вами опасно садиться за стол. Так и норовите довести человека до того, чтобы он подавился от смеха. Ох…
Мужчина опустил глаза и попытался изобразить крайнюю степень раскаянья. Пока он дурачился, я предприняла вторую попытку хоть немного поесть.
– Знаете что? Не знаю, как другие, но данный экземпляр очень смахивает на плод любви шарлотки и язычка. Серьезно. Слоеное тесто и много-много яблок. Суховато, но с кофе пройдет. Теперь мы с вами поменялись ролями. В прошлый раз это я ломала ваши стереотипы касательно новых блюд, а вы меня допрашивали. Теперь я болтаю без перерыва, и даже не спросила: вы согрелись?
– Да, согрелся. Видите, мы – идеальная пара. Оба боимся нового, оба обладаем убийственным юмором. Может, создадим творческий дуэт? Будем писать репризы, а потом выступать с ними на публике. Если нас не изобьют, то, возможно, кое-что заработаем. А то быть художником, ужас, какое дорогое удовольствие.
– Магазин! Я забыла сказать: он сегодня работает до трех часов. Там объявление висело… вот тупица!
– Ничего, у меня есть целых двадцать минут в запасе, – посмотрел на часы Роман. – А вот вам стоит поспешить, чтобы избежать неприятностей с начальством. Жаль. Я бы посидел вот так еще, но…
– Да… Роман…
– А? – он поднялся вслед за мной на ноги.
– Ничего. Просто… я бы тоже посидела, – повисла пауза. Художник смотрел куда-то в район моего правого плеча, я снова уставилась на его руку, желая, и одновременно боясь, увидеть татуировку. – Ладно, до свидания.
Он ничего не ответил. Когда я выходила, Роман по-прежнему стоял, будто опять провалился в свое собственное измерение.
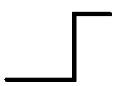
Дорога
Символ правой руки. Общий знак, действующий для связки других пиктограмм. Обычно пишется серыми, темно-коричневыми или черными красками. Написанный светлыми тонами означает – «очищение от лишнего», «основной смысл».
Видение второе
Кисти были погружены в растворитель. В тот же миг прозрачная жидкость окрасилась грязно-пурпурным.
Он устал. Он смертельно устал притворяться тем, кем не является. Вечной звездой тусовок, загадочным парнем, «размышляющем в своих работах о человеческой глупости и нелепости бытия», как написал один журнальчик. Но более всего он устал так жить: наполовину здесь, наполовину – где-то там, в вечном «никогда». Лучше бы, как в песне сплинов, пил-курил. Жителям Южных Курил, один черт, все равно, но ему, возможно, стало бы хоть немного легче. Однако алкоголь, как и другие наркотические вещества, только усиливали их – «приступы», как называла видения художника его любимый врач. Сам же Роман называл свое состояние не иначе, как «провал». Куда и как он проваливается, до конца было не понятно. Но одно мужчина знал четко – он смертельно устал.
Плотная ткань накрыла очередную незаконченную работу. Еще одну из тех, которую Сандерс никогда никому не покажет. Одну из тех, что захламляют его чердак. Иногда он поднимается туда, ходит между полотнами без рам, глядя то на одно, то на другое. Вглядывается в фигурки на пейзажах, в размытые, будто дождевой водой, портреты. Роман никогда не видит их лиц, поэтому выдумывает, какими они могли быть. Какими они являются. Обычно мужчина проходит от люка, до чердачного окошка на другой стороне, двигаясь обратно во времени.
Первые работы больше напоминают простые наброски: не предметы, только их обозначение. Яркие пятна, выхваченные лучом потустороннего света. Одно лишь впечатление, которое он писал с колотящимся сердцем и разламывающейся от боли головой. Не чета сегодняшней его работе – с тщательно выписанными деталями, вымеренной перспективой и продуманной композицией. Уже не впечатление, а холодное документирование, как полицейский протокол с места преступления.
Мужчина сотни раз задавал себе один и тот же вопрос: зачем? Для чего и почему он каждый раз становиться перед мольбертом и начинает свой ритуал? Полотно безразлично к тому, что на нем изобразят. Краскам тоже не важно, для чего их используют.
Быть заточенным в собственном разуме, безграничном и беспредельном, но все же тесном, как клетка-переноска – мы все обречены на это с самого рождения. Но Романа ждал исход намного хуже: тысячекратно повторенный отрезок чужой жизни. Раньше он боялся, неимоверно боялся затеряться там, а потому, едва приступ заканчивался, хватался за карандаш. Спасительный круг, мостик между реальностью и обратной ее стороной – вот чем служили сначала наброски в альбоме, а потом полноценные картины. Он глушил боль не спиртом или кокаином – стремительными мазками, похожими на уколы рапиры. И она превращалась, преобразовывалась в смутные образы на плоскости, высвобождалась, уходила.
Теперь мужчина стал контролировать ее намного лучше, не позволяя захлестнуть себя с головой, растворить в себе, подобно кислоте. Таблетки, прописанные его любимым врачом, также служили тому неплохим подспорьем. Но чем ближе подходила осень, тем слабее становилось сопротивление Романа, пока листва на деревьях полностью не осыпалась. И тогда он бросался в свою мастерскую и как очумелый, рисовал, рисовал, рисовал, в то время как удары следовали один за другим, а голова становилась похожа на треснутый колокол.
Перед глазами все плыло. В комнатке недоставало света, а воздух был пропитан запахом керосина. Роман отворил створку одного из высоких окон. Обещали новую волну похолодания, и пока погода следовала прогнозу. Низкие облака нависли над городом, делая раннее утро похожим на поздний вечер. Ворвавшийся в мастерскую ветер принес некоторое облегчение, унося с собой остатки сна. Роман потер, уже начавшие зарастать щетиной щеки, попытался сообразить, сколько он уже не выходил из дома. День? Два? Неделю? В телефоне светилась ничего не говорящая дата «7 октября, суббота». Выходной, значит. Для него давно не существовало никаких выходных. Только рабочие и такие дни, как этот – утопленные в оранжево-желтой мути, воняющие потом и собственной немощностью.
Внизу на дисплее отразилось количество оставленных сообщений. Знакомые Романа частенько злились, когда тот не отвечал на их звонки, а потом и вовсе бросили бесполезное дело, кидая короткое: «Перезвони, как будешь свободен». Мужчина несколько раз моргнул. Глаза болели от бессонницы, правую руку сводило от напряжения. В зеркало, он полагал, лучше и вовсе не смотреться. Бродяжки с улицы и то выглядели лучше. Короткие штаны и черная футболка перепачканы краской, засаленные волосы стоят дыбом, а по телу то и дело проходит короткая судорога: то ли остаточное от приступа, то ли – признак истощения.
Надо бы поесть. Впихнуть в себя что-то кроме выдохшейся газировки. Что-то, что не проскочит через желудок сразу в кишки, а осядет в нем хотя бы на час-другой. И помыться, и поспать. Но для начала просто опуститься на пол. Ноги гудели от напряжения, и художник испугался, что просто свалиться кулем.
Сообщения. Надо просмотреть, вдруг среди них найдется важное. Владелец галереи благодарил за удачную выставку. Роман пролистнул ниже. Несколько смс от различных магазинов с обещанием скидок. Удалять пока не стал, жизнь – штука непредсказуемая, вдруг пригодятся? Из почти двадцати сообщений в итоге осталось всего около полудюжины. Одно из них мужчина прочитал несколько раз.
«Снова изменяю вам с тем очаровательным австрияком. На сей раз, он не столь сух. Думаю, я начинаю находить в штруделях определенную прелесть. И, кажется, из-за вас навсегда потеряна моя дружба с Надей».
Текст пришел два дня назад. И больше – ни строчки.
Он надеялся, что Виктория не приняла его молчание за попытку отшить ее. Что, как и другие его знакомые, убедила себя в том, что Лех Сандерс очень странный тип, который просто ненавидит писать эсемески. Но стоящая справа картина кричала об обратном.
Ярко-красные сполохи пламени смешивались на ней с черными клубами дыма, поглощая одно за другим, все предметы в небольшой спаленке. Роман до сих пор чувствовал запах жженого пластика и жар, исходящий от пылающих стен.
Первый раз он увидел пустую комнату с включенной лампой, стоя посреди небольшой кафешки. Это было всего лишь короткое видение, статичный кадр – не более того. Как узор при быстром переворачивании калейдоскопа. Раз, и все пропало. Вспышка, молния, оставляющая после себя легкое дуновение озона. Обычно такие видения больше не повторялись. Но не горящая комната. Снова и снова Роман ловил себя на том, что раз за разом возвращается в нее. Стоило чуть отпустить вожжи самоконтроля, как перед ним распахивалась дверь из светлого дерева. А за ней…
Обои, шершавые на ощупь, тревожно-желтого цвета, словно переплетение стеблей ковыля в степи. Если заглянуть за шкаф, там обнаружится совсем другое покрытие: мелкие голубые цветочки, опять же, на желтом фоне. Точнее, на бывшем белом, выцветшим и выгоревшим до грязновато-апельсинового. Он научился разбираться в десятках оттенков этого цвета, от самых насыщенных до таких вот – оттенках-призраков, оттенках-признаков. Старая бумага, налет на дне унитаза, пятна омертвения на сентябрьских листьях, не причиняющих вреда, а лишь свидетельствующих об упадке, грязи, разложении, напоминающих о конечности и смерти.
На обоях золотистая вязь, не то бантики, не то цветочки – не разобрать. В сочетании с насыщенно-зелеными шторами из плотной ткани не смотрится совершенно. Настолько, что вызывает невольное восхищение отчаянностью хозяйки. От штор исходит запах пыли, навязчиво проникающий в нос, заставляющий морщиться. Он касается рукой этой зелени, слишком грубой, слишком буквальной и слышит, как колечки, на которых держатся шторы, скользят по натянутым вверху струнам. Оконная музыка, вот как это называется. Такой же звук рождается от легкого касания смычка к скрипке. Появляется дикое, почти нестерпимое желание распахнуть шторы, увидеть угасающий за окном свет заходящего солнца. А потом также резко, как появилось, оно исчезает. Остается лишь ледяной воздух, дующий через щель между стеной и оконной рамой.
Где-то вдалеке грохочет самосвал, гудит недовольный водитель, пытаясь выбраться из общего потока автомобилей.
«Она может ездить только днем, только на переднем сидении и только со знакомыми людьми», – словно кто-то шепчет это Роману в ухо.
Комната на миг тускнеет, как изображение на экране, у которого постепенно убирают насыщенность. И чрез него, рядом с ним, он и сам не понимает до конца, где именно, проглядывает поверхность кухонной столешницы.
«Значит, я сижу за столом», – приходит нечеткая мысль, а потом его сознание вновь становиться кристально чистым. Этакая чувственная промокашка, на которой отпечатываются чернила деталей.
Почему-то воспринять комнату целиком, окинуть ее всю взглядом не выходит. Только отдельные элементы интерьера. Взгляд перескакивает от одной безделушки к другой, из угла в угол. Не взгляд – влетевшая птица, мечущаяся без возможности вылететь обратно.
За шторами следует кровать, застеленная флисовым дешевым покрывалом. Цвет его выбирался, видимо, из необходимости хоть как-то объединить обои со шторами. В итоге его фисташковая палитра с вкраплением красного смотрится совершенно чуждо как первым, так и вторым. Он знает, как зимой трещит это покрывало, когда с него встаешь, и к пыльности комнаты примешивается резкая отдушка антистатика. Под покрывалом, словно грудь под глухим платьем, проглядывают горбики прямоугольных подушек. Еще одна, квадратная, лежит в ногах.
Милое дополнение дамской спальни, как и пара цветов в горшках, поставленных зачем-то на книжную полку. В полуголых ветках Роман узнает бегонию, а в розетке почти увядших листьев – фиалку. Одинокий цветочек на слишком длинной ножке готов вот-вот упасть вниз. Как и выцветшие обои за шкафом, как пластиковые рамы окна, цветок потерял невинную белоснежность, начав желтеть по краю своих тонких лепестков. Замереть. Застыть в ожидании, когда тот отделиться от своего стебля, от чахлых листьев, от корней, от почвы. Слиться вместе с ним в недолгом полете, а после ощутить на корне языка горечь.
И снова взгляд пляшет, рыщет голодным волком по комнате. Роману надо запомнить все, прежде чем видение закончится. Чем старше он становится, тем лучше ему удается видеть, а не просто переживать обрывочные впечатления. Тем проще потом облечь их в форму. Наконец, глаза встречаются с настольной лампой. Черная ножка, красный рассеиватель. Еще один диковинный цветок. Лампа светит тусклым желтым светом. Не лимонно-желтым, не желто-оранжевым, а той непонятной разновидностью желтого, от которого все вокруг становится еще мрачнее и меланхоличнее. Тени, отбрасываемые всеми предметами в комнате, выглядят с ним гуще, плотнее, а тот небольшой пятачок, где их нет, подобен заколдованному кругу, из которого не хочется выходить.
Лампа старая. Ей лет тридцать, не меньше. Родительское наследство или несчастный найденыш с блошиного рынка? На проводе болтается переключатель. Щелк-щелк, как кнутом. Щелкнул раз, и тьма станет на лапки, щелкнешь второй – и она наброситься на тебя, обглодает мир до сероватых косточек, оставив лишь череп луны в небе. Провод тянется за спинку кровати, поднимается лозой вверх, оканчиваясь бутоном вилки. У самой вилки провод обмотан синей изолентой.
Лампа мигает, светя то ярче, то тише, а из розетки доноситься потрескивающее шипение. А потом кто-то резко нажимает на кнопку «приблизить изображение», и мужчина уже не видит ни комнаты, ни теней, ни света – только искры, выстреливающие из розетки. Спальня наполняется вонью жженого пластика, а искры все летят и летят в разные стороны. Обои вокруг розетки темнеют, прожженное в нескольких местах синтетическое покрывало оплавляется по кромке маленьких дырочек. Из-под вилки вырывается совсем махонький язычок пламени, но его достаточно, чтобы висящий над кроватью рисунок – простая акварель – в мановение ока вспыхнул. Тонкая, еще горящая бумага слетает вниз, на ковер.
На него Роман даже не обратил внимания. А зря. Настоящая шерсть, общим весом почти в десять килограмм. Такие ковры советские граждане тащили, наживая грыжу, во все уголки необъятной родины из Москвы. Рисунок ковра стандартный: ромбики да зигзаги, а вот горит он очень хорошо. Занавески тоже не отстают, занимаются по низу, позволяя огню-скалолазу подняться до самых струн. Художник и не подозревал, насколько быстро тот способен двигаться. Голодный монстр с яко-рыжей шестью, стохвостое кицунэ[25] – вот что такое пожар. Ему нужен кислород, ему нужна пища, ему нужен простор.
Огонь лижет добычу, играет с ней. От жара трещит кровать и письменный стол. В шкафу что-то обрушивается с металлическим лязгом, а потом и сам шкаф-старик, устало перекашивается направо. Если бы Роман был там, всем своим существом, а не одним лишь сознанием, то давно бы угорел.
Но он движется сквозь пламя, сквозь грохот падающей на пол книжной полки. Небольшая горстка книг, что на ней стояла, тоже пылает. Цветочные горшки раскалываются вдоль, сухая земля высыпается из них, смешивается с гарью и пеплом. А он все ищет ту фиалку, пока не находит прямо перед собой. Тонкие лепестки не сгорают, лишь сворачиваются от жара. А за ним ревет на тысячу голосов беспощадный огонь.
Всего за четверть часа или за пару минут где-то там, где он по-прежнему сидит за столом, вся комната превращается в пепелище. Только толстое полотно двери способно задержать разбушевавшееся чудовище. Петли нагрелись так, что теперь светятся красноватым. Не иначе два дьявольских глаза, не пускающих его обратно. Ручка тоже раскалилась, а позолота с нее полностью слезла, обнажая радужную поверхность. Дверь заклинило. Мужчине даже не надо проверять это, чтобы убедится в своей правоте. Огонь все еще бесится, все еще пытается захватить последние уцелевшие кусочки, но его мощь постепенно ослабевает.
– Проверь кухню! – кричит кто-то за дверью.
– Никого! – доносится глухой мужской голос.
– Раз, два, три!
Дверь сотрясается от удара. Потом еще от одного, а на третьем, как выполнивший свой долг последний защитник крепости, валится внутрь. Пламя, получив новую порцию воздуха, делает глубокий вздох, расправляет свои громадные легкие, а потом выдыхает, демонстрируя пожарным свою ненасытную пасть.
– Тише, тише, – уговаривает его первый.
– Врубай, – разрешает второй, и монстр захлебывается пеной и водой. Рыжий монстр давится, сворачиваясь у ног людей в защитных костюмах послушным котенком. А потом вовсе исчезает, оставляя после себя разгром.
Теперь Сандерс может увидеть все разом, всю спальню. И перед тем, как вернуться, к нему приходит нелепая мысль: «Она похожа на зарисовку углем».
Роман просыпается на полу мастерской. Холодно и жестко. Но встать не хватает сил. Приходиться сначала согнуть ноги в коленях, потом упереть руки в пол, и лишь потом оттолкнуться всем телом.
Да, ему надо поесть. И поспать не здесь, а в нормальной постели. Но для начала ему надо позвонить.
1/4
Меня привлек слишком громкий звук работающего телевизора. Даже льющийся из крана поток не мог его заглушить. Оставив в покое недомытую тарелку, я вытерла руки о передник и прошла в гостиную. Муж сидел на диване, теребя левое ухо и быстро-быстро нажимая на козелок[26]. Не характерное, прямо скажу, для него занятие. При этом лицо Славы попеременно отображало растерянность и задумчивость.
– Сделай потише, – крикнула я от двери.
Бесполезно. Пришлось подойти вплотную, взять пульт и самой убрать звук до приемлемой громкости. Только тогда на меня подняли глаза и как-то беспомощно произнесли:
– Не пойму, в чем дело. Такое впечатление, что внутрь попала вода.
– Откуда бы? Или ты сегодня голову мыл? – присела я рядом. – Убери руку, я гляну. На вид все в порядке. Не болит?
– Да нет. Совершенно не больно, просто… я хуже стал слышать, – вздохнул муж. – Извини за шум, просто хотел проверить кое-что. Да, когда прибавляю громкость, лучше. И все-таки такое впечатление, будто в ухе что-то переливается. Когда наклоняю голову – немного больше, когда прямо держу – меньше.

