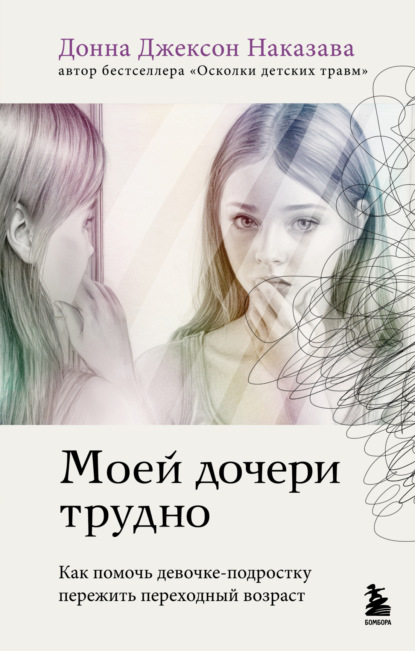
Полная версия:
Моей дочери трудно. Как помочь девочке-подростку пережить переходный возраст
В итоге, с одной стороны, девочки слышат лозунги о том, что они свободны быть кем угодно, а с другой – во время подросткового периода они явно наблюдают существенные негативные последствия того, что они женщины. Более того, сама идея изобилия в мире бесконечных и интересных возможностей для девочек требует от них способности создать образ сильной, умелой женщины, какой они станут в отдаленном будущем. Между тем, если в повседневной жизни они неоднократно сталкиваются с объективизацией и сексизмом, эти сообщения постепенно будут оказывать большее влияние на их самооценку, чем представление об их будущем и больших возможностях.
Иные периоды в нашей общей истории, конечно, наносили молодым людям травмы; возьмите мировые войны. Как стрессоры XXI века могли в чем-то приблизиться к сложности тех проблем? У нас нет всех ответов, но при сравнении прошлых стрессоров с сегодняшними нам следует помнить, что катастрофические события вроде Второй мировой войны произошли с совершенно другими поколениями, не имевшими современных дополнительных стресс-факторов, действующих одновременно. Дело не просто в том, что происходит; дело, кроме прочего, в суммарном эффекте всего происходящего.
Другое отличие может заключаться в следующем: постоянные критические комментарии в социальных сетях вызывают восприятие всего как более близкого, личного и социально дисфункционального одновременно. Как пишет в своем отчете «Охрана психического здоровья молодежи» за 2021 год генеральный хирург Вивек Мурти, инструменты социальных сетей «настраивают нас друг против друга… и подрывают безопасную и благоприятную среду, в которой нуждаются молодые люди и которой они заслуживают»42. На протяжении прошлых серьезных национальных кризисов (мировых войн или Великой депрессии) зачастую существовали идеи коллективной сплоченности из-за общей боли и потерь. Казалось, страх и горе разделялись всеми. Но на самом деле мы больше не объединяемся как общество43. Сегодня на медиаплатформах мнениям уделяется ровно столько же эфирного времени, сколько тщательной экспертизе и научным исследованиям, – им придается равная ценность. Онлайн-площадки намеренно разжигают разногласия между оппонирующими «сторонами», а также усиливают критику девочек и женщин, если они выглядят или ведут себя «не так». Цифровые медиа не просто потенциально мощные системы быстрой доставки информации, отравляющей мозг девочек; это также мощное средство для самообвинения и порицания.
Медиакритик Эмили Нуссбаум написала пост об отношении СМИ к певице Бритни Спирс: «Это не какая-то древняя история мизогинического ужаса – и в определенном смысле ситуация сейчас кажется хуже из-за социальных онлайн-платформ. Каждая лента – таблоид; каждый телефон – папарацци». Более того, «многое распространяется по интернету, где в результате никто особой ответственности не несет»44.
Мы говорим, что время не стоит на месте, но в действительности время, в которое мы живем, невероятно пагубно для девочек. Между тем, каждая девушка держит прямо в руке ядовитое и часто женоненавистническое устройство для отправки сообщений.
Глава 3
Утраченные годы
Мы украли у девочек безопасные промежуточные годы
В МАЛЕНЬКОЙ КОМНАТЕ ожидания в Пайксвилле, штат Мэриленд, сидит девочка-подросток и ее мама, пока другая мама ждет свою дочь из терапевтического кабинета Эми Карлен. Позади них, словно на художественной выставке, в рамках висят фотографии людей, занимающихся повседневной жизнью в городском Балтиморе. Карлен не только уважаемый подростковый психотерапевт для девочек в штате Мэриленд – она также фотограф, чье творчество известно на местном уровне.
Дверь кабинета открывается, и за ней показываются два больших уютных кресла и диван. Карлен входит в комнату ожидания. Девочка-подросток идет за ней, улыбаясь и глядя на свою мать. Не нужно много времени, чтобы понять почему. Карлен затягивает песенку: «С днем рождения тебя, с днем рождения тебя…» Кажется, она по-доброму осознает, что дико фальшивит. Она смело пробирается сквозь знакомые строчки, а все вокруг смотрят на мать девочки, которая с замешательством на лице отложила свою чековую книжку.
– С днем рождения! – говорят мать и дочь, ожидающие приема.
Я присоединяюсь к поздравлениям – я пришла побеседовать с Карлен буквально на двадцать минут или около того, прежде чем начнется ее следующая консультация, – и не блещу вокальными способностями, но кто может удержаться от припева «С днем рождения», когда в маленькой комнате собрались всего шесть человек? «Но мой день рождения не сегодня!» – восклицает чествуемая женщина.
Карлен улыбается понимающе, одобряюще:
– Шарлотта и я просто говорили о том, как трудно иногда делать простые вещи, испытывая тревогу, – поясняет она. – Я призналась ей, что у меня нет слуха. Я совсем не умею петь. Мысль об исполнении каких-либо песен на публике заставляет меня нервничать. И Шарлотта заключила со мной сделку: если я выйду и спою в комнате ожидания, она тоже приложит усилия и выполнит действия, которые ей трудно выполнять на фоне тревожности.
Шарлотта с матерью расстаются с психотерапевтом на приятной ноте, а ожидающие мама и дочь объясняют, что принесли отдать заполненные бумаги. Через мгновение все успокаивается, и я следую за Карлен в ее кабинет.
Карлен, член правления мэрилендского отделения Ассоциации судов по семейным делам и примирению, за свою 35-летнюю практику поработала с тысячами девочек и молодых девушек. Мне интересно, сможет ли она предложить мне более практичный взгляд на множество факторов, которые, по-видимому, влияют на наших девочек сегодня.
В первую очередь она фокусируется на том, что для многих девочек время детства значительно сократилось не только из-за раннего воздействия соцсетей, но и проблем на многих других уровнях. «Общество, в котором, как мы считаем, шансы наших детей на успех значительно уменьшаются, влияет и на наш подход к их воспитанию. В частности, в случае с девочками это привело к утрате когда-то существовавшего продолжительного периода безопасного перехода в подростковый возраст, в котором девочки привычно наслаждались изучением мира, игрой, первыми безопасными социальными связями и эмоциональным взрослением, чувствуя защиту и поддержку со стороны семьи. За последние 15–20 лет мы украли у девочек этот ключевой переходный период формирования идентичности между детством и пубертатом».
К примеру, объясняет Карлен, «пятый и шестой классы были, как правило, временем, когда девочки свободно тянулись к другим девочкам, чьи интересы они разделяли и с кем с удовольствием зависали на игровых площадках или после школы. Они проживали этот промежуточный период с 9 до 13 лет, или около того, в атмосфере подлинных дружеских связей, без необходимости участвовать в таком количестве ежедневных конкурентных занятий, как сейчас». Это легкое и невинное время было «краеугольным камнем детства и служило важнейшей стадией взросления, в которой девочки безопасно учились справляться с разногласиями в дружбе, быть заботливыми к другим и наслаждались безоблачным временем, когда они могли безопасно исследовать мир».
Сегодня девочки этого возраста, напротив, часто подвергаются категоризации со стороны других девочек на конкурентном, иерархическом, ориентированном на эффективность уровне: кто притягивает к себе внимание – в социальных группах, у мальчиков, в соцсетях, в спорте, касательно физической зрелости, внешности и достижений? «Это вызывает чрезмерную тревогу в очень юном возрасте», – замечает Карлен. Неожиданно возник набор порицаний и поощрений в зависимости от того, как девочку видят и принимают на ее уязвимом этапе и личностного, и физического развития; то есть на годы раньше, чем мозг девочек научится отражать подобного рода атаки и осознавать их контекст. В то же время «в СМИ и соцсетях нет четкой границы между девочками и женщинами: девочек часто сексуализируют как взрослых женщин, а женщин воспринимают как девочек предподросткового возраста. Таким образом, одна из первых установок, которые девочки усваивают относительно того, каково быть женщиной, завязывается на самом вредном и в корне неправильном стереотипе – на восприятии их в качестве сексуальных объектов». Во время рассказа Карлен я думаю о том, насколько близки наблюдения специалиста к переживаниям Джулии Абернати и ее ощущению утраченного детства.
Пока Карлен приводила мне эти факты, ее телефон вибрировал несколько раз. Она поднимала его и быстро печатала кому-то ответ.
– Восьмиклассница, у которой сегодня возникло очень много трудностей, – говорит она мне, прежде чем отложить свой телефон. – Мы нередко видим, как такое раннее зарождение сексуализации и объективации влияет на дружбу между девочками. Статусы «дрянной девчонки» и «королевы пчел» во взаимодействии девочек увековечиваются неуверенностью, сопровождающей втягивание их в роль, которая не соответствует развитию подростков.
Когда дети переходят из начальной школы в среднюю, они также перемещаются из учебных заведений, полных знакомых групп друзей, в чуждые условия, к детям, возможно им незнакомым. Изменение тенденций в образовании, которые навязывают детям раннего возраста более взрослое поведение и нездоровое стремление к достижениям, тоже являются источником стресса. Например, детский сад, который раньше был местом для игры и общения, сейчас по уровню занятий и нагрузки больше похож на первый класс школы. Стандартизированные тесты, сокращение бюджета и пандемия COVID-19 ликвидировали игровое время, большие перемены, неторопливые обеденные часы, уроки физкультуры, танцы, творчество и музыку. Средняя школа превратилась в новую старшую школу, поскольку грядущее давление от учебы в колледже проникает в жизнь ребенка все раньше и раньше.
– Эта всепоглощающая озабоченность успехом наших детей сформировала представление, будто ранние победы и достижения дадут позитивные результаты в будущем, – объясняет Карлен. – К примеру, ради образования детей родители выбирают школы, которые обещают научить их детей читать в подготовительных классах или детском саду, игнорируя исследования, заключающие, что чтение в столь раннем возрасте имеет сложную и нечеткую корреляцию с конечным умением читать. Эти ранние сроки достижения академических показателей мешают нормальным, здоровым стадиям развития.
К средней школе ученики начинают перенимать беспокойство своих родителей по поводу будущего и успехов.
– В клинической практике мы видим постоянно растущее число школьников – и девочек в особенности – с тревожными расстройствами и стремлением к совершенству. Лозунг «все имеет значение» превращает средние школы в арену, где подростки испытывают огромное давление от необходимости выполнять и достигать. На терапии тинейджеры нередко озвучивают предположение, что ускоренное зачисление и победы на спортивной площадке приведут их не только в колледж или университет мечты, но в конечном счете и в жизнь мечты. Но одновременно дети ломаются под накалом и давлением. И, по иронии, ученики, как-либо избегающие таких нагрузок, иногда попадают на терапию, потому что родители или преподаватели озабочены их мотивацией.
Мы завысили ожидания от наших детей и подростков до нереалистичных и неосуществимых уровней, не оставив им пространства просто быть детьми. За несколько последних десятилетий показатели перфекционизма у детей выросли: сегодня молодые люди говорят о достигаторстве, стремлении к достижению большего, нежели предыдущие поколения45. Недавний отчет по подростковому благополучию Фонда Роберта Вуда Джонсона подтверждает это: трое из десяти подростков сегодня жалуются на проблемы с перфекционизмом. А он, в свою очередь, связан с большей вероятностью развития тревожных расстройств и депрессии. Исследователи полагают: основные средовые факторы, подрывающие благополучие подростков, включают усиленное принуждение первенствовать наряду с влиянием бедности, психологических травм, дискриминации и социальных сетей46.
ЭФФЕКТ СКВОРЦАКонкурентая атмосфера распространяется за пределы класса, проникая также в семейную и общественную жизнь.
На протяжении эволюционного периода дети достигали совершеннолетия в контексте сообщества, которое обеспечивало значительную безопасность, даже если окружавшая их среда таила в себе множество угроз. Однако в текущих условиях воспитания родитель старается только ради своего собственного ребенка и платит любую цену, чтобы отправить учиться своих детей в нужные учебные заведения, болея за них со стороны за счет благополучия всех детей в сообществе. Неважно, сколько пирожных родители испекут для команды своего ребенка либо на празднование дня рождения в классе, – мы живем в эпоху «мой ребенок прежде всего» и «долой племя».
Некоторые социологи называют это «эффектом скворца». Самцы скворцов конкурируют с другими птицами за лучшие гнезда, например с лазурными птицами и дятлами, и могут быть коварными и агрессивными, когда решают создать идеальное место гнездования для своих детей. Как известно, взрослые скворцы проклевывают яйца других птиц, выбрасывают строительные материалы из гнезд, убивают уже вылупившихся птенцов и даже вьют гнезда прямо поверх существующих чужих гнезд, закапывают и уничтожают яйца или детенышей конкурентов. Как только скворцы избавляются от соперничества за ресурсы, они сооружают собственные гнезда и с шиком растят своих детей.
Этот пример грубый, но он служит аналогией для нашей среды с принципом «мой ребенок прежде всего», который наносит сегодняшним подросткам ущерб. Вместо ощущения безопасности, поскольку мама и папа готовы сделать для них все что угодно, дети, видя острую сосредоточенность родителей на достижении ребенком успеха, могут прийти к выводу, что мама и папа, может быть, и на их стороне, но, как логически следует, другие родители в «племени», скорее всего, ждут, пока они провалятся, чтобы их ребенок забил тот гол, выиграл тот приз, получил лучшую оценку и поступил в тот самый вуз. Наш подход к воспитанию детей существенно изменился: мы не полагаемся на совместные, коллективные организации заботы о детях; дни в школе увеличились и стали более регламентированными, и каждая семья живет сама по себе и надеется, что ее отпрыск получит лучшее и будет лучшим во всем. Такой семейный изоляционизм меняет наше общество и усугубляет напряжение наших подростков в ходе критического периода развития – как раз в то время, когда они нуждаются в дополнительной уверенности в том, что сообщество в целом поддержит их, прежде чем они самостоятельно выйдут в мир.
– Эти двойственные послания кажутся подросткам непримиримыми, – говорит Карлен. – С одной стороны, командная работа и сотрудничество считаются эффективными стратегиями обучения, а с другой – родители подкрепляют идею об ограниченности ресурсов в современном мире для тех, кто стремится к успеху. Лежащим в основе посылом становится: «Никогда не забывай: конкуренция жесткая». Некоторые родители подчеркивают, что они лишь хотят, чтобы их подростки старались изо всех сил, одновременно собирая ресурсы для достижения целей. Как детям и подросткам различить это истинное послание и не чувствовать, будто все ждут от них подвигов? – задается вопросом Карлен. – Все дети в определенной степени понимают: они соперничают в рамках «общины», которая в то же время должна поддерживать их. Тревога пронизывает всё и вся, и кто-то в результате достигает целей, но часто за высокую цену. Других это приводит к негодованию, сопротивлению, замкнутости, тревожности или депрессии.
Сложите все перечисленное вместе, – объясняет Карлен, – так мы украли те годы, когда девочки свободно познавали, что такое безопасная, подлинная связь в отношениях, и заменили их периодом, отмеченным конкуренцией, суждениями на основе угроз и наград и сексуализацией. Все это помещает девочек в хроническое состояние повышенной тревожности, и в данном состоянии у них активируются или не активируются (как мы увидим в четвертой главе) гены депрессии и тревоги. Ключевой этап позднего детства, в ходе которого девочки обычно усваивали суть безопасного сплочения, испарился.
Семейный изоляционизм меняет наше общество и усугубляет напряжение наших подростков в ходе критического периода развития – как раз в то время, когда они нуждаются в дополнительной уверенности в том, что сообщество в целом поддержит их, прежде чем они самостоятельно выйдут в мир.
Утрате детства способствуют и другие культурные сдвиги. Ранее, в истории молодого государства, сообщества и районы объединялись на основе аспектов своей культуры. Такое чувство общности давало ощущение безопасности: все взрослые знали друг друга, дети достигали совершеннолетия в большой группе знакомых людей. Сегодня мы склонны полагаться на наличие достаточно хорошей нуклеарной семьи, чтобы дети чувствовали: их окружение искренне заботится об их интересах. Однако нуклеарной семьи, хотя она и является самым влиятельным и важным фактором в жизни ребенка, не всегда хватает для адаптации нервной системы детей по мере их столкновения с трудностями. Девочки (вроде Джулии и Анны) вступают в подростковый период и встречают огромное количество новых стрессоров и невзгод, многие из которых уникальны для женщин, и одновременно чувствуют, что им некуда или не к кому примкнуть с целью найти защиту, и это может существенно влиять на их психическое здоровье и будущее.
– Родители и школа часто не осознают, что они культивируют подобное ожидание ранней зрелости, усиливая социальные посылы, в котором ценятся определенные характеристики девочек «Вау!», – говорит Карлен. – Родители могут не замечать, как комментарии, делающие акцент на сострадательном отношении их дочери к друзьям (а не внимательности к ее собственным потребностям и эмоциям), или комментарии о ее формирующейся груди транслируют ей идею о том, что быстрое взросление важнее нормального этапа детства.
СЕКСИЗМ, ЖЕСТОКОСТЬ по отношению к женщинам, их недостаточное влияние в обществе – старая болезнь, но с социальными сетями, нехваткой общности и повышенным давлением во всех сферах подростковой жизни мы, очень похоже, усугубили эту болезнь.
При рассмотрении новых научных исследований мы можем увидеть, что увеличивающееся количество проблем с физическим и психическим здоровьем у девочек вызвано не каким-то одним недавним изменением в их жизни, а штормом усиливающихся факторов, причем многие из них были невольно созданы нами, любящими взрослыми. Эти нарастающие токсичные средовые стрессоры способны оказывать негативное воздействие на тела и мозг как девочек, так и мальчиков опасными путями. Но девочки часто страдают больше. И все так же довлеет вопрос: почему?
Часть II
Новая наука о том, почему наши девочки испытывают трудности
Глава 4
Два периода, когда ранний стресс формирует развитие ребенка
НЕЙРОБИОЛОГ ТРЕЙСИ БЕЙЛ обеспокоена растущим числом девочек, страдающих от тревоги и депрессии. До работы в Медицинской школе университета Мэриленда в качестве руководителя Центра эпигенетических исследований здоровья и развития мозга детей Трейси Бейл была содиректором Центра изучения пола и гендера в поведенческом здоровье Пенсильванского университета. Во время своей работы в этих двух учреждениях она изучала роль детского стресса как фактора риска для развития психических расстройств у подростков, а также то, как по-разному хронические стрессоры на разных этапах формирования влияют (с момента зачатия до пубертата) на женщин и мужчин.
Бейл, в том числе являющаяся президентом Международной организации по исследованию мозга, имеет репутацию человека, который добивается своих целей и готовит хороших ученых, она терпеливо и успешно преподает сложные вещи. Это хорошо, поскольку, впервые встретившись в скромной забегаловке Балтимора, мы с ней погружаемся в глубинные основы понимания биологической причины поколенческих изменений в здоровье девочек, и данная тема становится немного сложной.
– Женщины и мужчины в процессе развития проходят через разные временные периоды уязвимости, и в эти особые, ключевые периоды хронические стрессоры и невзгоды с большей вероятностью оказывают влияние на их благополучие47, – рассказывает Бейл об обнаруженном факте.
Как мы увидели, данные источники стресса включают в себя целый ряд трудностей или травм из детства: проблемы дома, относящиеся к окружающей среде кризисы и пандемии, стресс в окружении из-за бедности или жестокости и эмоциональные стрессоры в социальных отношениях. Хотя это может в какой-то степени путать, поскольку там тоже используется понятие «окружающая среда», исследователи вроде Бейл называют эти многочисленные стрессоры, влияющие на здоровье развивающегося ребенка, средовыми ударами.
Конечно, наше общество обременяется все большим количеством средовых ударов для всех подростков. Но чтобы лучше понять, почему женское тело и мозг со временем становятся более уязвимыми, нам нужно вернуться к самому началу истории, вплоть до материнской утробы48.
КАК РАННИЕ НЕВЗГОДЫ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТОГО, КЕМ ОН СТАНЕТС момента вашего зачатия и в процессе эмбрионального развития вы защищены утробой своей матери. Рядом с вами сформировался сложный кластер из ваших клеток, переплетенных с материнскими, – плацента. Она служит особого рода фильтром, уменьшающим воздействие всего пагубного со стороны окружающего мира, что появляется на вашем пути в составе такого детско-материнского единства. Практически все, что может быть вредным для вашего развивающегося организма и мозга – как вариант, химические вещества, которые вдыхала ваша мама, прогуливаясь по только что удобренному газону; выбросы гормонов стресса в ответ на эмоциональное напряжение; инфекции; последствия питания вашей родительницы – все, по крайней мере до определенной степени, смягчается плацентой, хотя, возможно, не полностью. В связи с любым средовым ударом возникает вопрос: насколько надежно от него защищен плод? Поэтому, когда врачи решают, безопасно ли принимать какое-либо лекарство в период беременности, в первую очередь они проверяют наличие данных о его способности проникать через плаценту.
Кроме выполнения функции щита, защищающего от как можно большего числа токсинов и связанных со стрессом гормонов и веществ, плацента также служит своего рода суперпроводником информации.
– Она посылает в мозг триллионы сообщений, которые, хоть вы и заключены в утробе матери, транслируют вам, в каком мире вы скоро окажетесь, чтобы ваша нервная, иммунная система и мозг были готовы и максимально соответствовали всему ожидающему вас снаружи, – рассказывает Бейл. Причина в том, что вопрос, больше всего волнующий мозг в течение гестационного развития, это «что дальше?». Родитесь вы в безопасном или небезопасном мире? К чему конкретно вашему мозгу и телу необходимо подготовиться?
С развития в материнской утробе и на протяжении детства и подросткового периода стрессоры влияют на поведение наших генов. Это относительно новая идея. Вплоть до самого недавнего времени генетика считала, что в основной своей массе наши гены зафиксированы, как наши волосы, кожа и цвет глаз. Зафиксированные, унаследованные гены рассматривались как черновые планы строителя для будущего дома – в нашем случае для архитектуры развивающегося тела и сознания ребенка и взрослого, которым она или он могут однажды стать. Гены винили или хвалили за многие характеристики, наблюдавшиеся у ребенка по мере его роста. Отсюда и поговорка: яблоко от яблони недалеко падает.
Однако за несколько последних десятилетий расширяющееся поле новейших исследований работы генов опровергло эту точку зрения. Гены так же, как и мы (наши тело и мозг), вовлечены в беспрерывный замысловатый танец с окружающей средой. И линии поведения наших генов формируются мельчайшими влияниями. Данный процесс называется экспрессией генов или эпигенетикой. Это действующая 24/7 клеточная махинация, обращающая наши переживания и биографию в нашу биологию.
Почти все клетки вашего организма содержат ваши гены, но лишь маленький их процент активируется за весь период вашей жизни. Разные гены запускаются в разное время: какие-то – в течение эмбрионального развития, какие-то – в детстве, какие-то – в процессе активного полового созревания или подростковом периоде, другие – во взрослом возрасте. Иные гены работают постоянно. Какие-то вообще никогда не включаются. Да, вы наследуете свой геном, но совокупность этого материала, вероятно, не так важна, как то, какие гены начинают функционировать. Воздействия среды – и позитивные, и негативные – определяют, какие гены в теле включатся и будут проявляться на протяжении жизни. Унаследуете ли вы способности своей матери к математике? Талант пианиста вашего отца? Генерализованное тревожное расстройство матери? Артрит отца?
Гены, влияющие на такие тенденции, могут различаться по степени активированности, во многом подобно диммеру, регулирующему, насколько тусклым или ярким становится свет люстры в комнате. Разнообразные факторы и события вокруг вас способны врубить диммер на полную мощность или держать его вовсе выключенным, чтобы определенные гены оставались деактивированными всю жизнь49. В процессе воспитания наших детей мы надеемся сформировать у них чувства безопасности, любви и защищенности, которые помогают держать диммер выключенным, когда дело касается отрицательных генов, скрывающихся в нашем генофонде, и включенным, когда дело касается активации положительных.



