
Полная версия:
Письма к Вере
Ну вот, мое счастье. Целую вас. Вернусь не поздно.
В.85. 12 мая 1930 г.
Прага – Берлин, Луитпольдштрассе, 27
Душа моя,
приехал превосходно, на вокзале был встречен мамой: у нее прекрасный вид и прекрасное настроение. Боксик стар и толст, с седой мордочкой, не обратил на меня никакого вниманья. Еленочка и Е.<вгения> К.<онстантиновна> очень похорошели. Мне отвели маленькую, очень уютную комнатку. Елена рисует плакаты для моего вечера. Вообще, все очень хорошо. Душа моя, пиши мне.
В.86. 12 мая 1930 г.
Прага – Берлин, Луитпольдштрассе, 27
Душа моя,
я люблю тебя. Сейчас разбирал пыльные книги, кое-что привезу, объелся старыми номерами «Entomologist». Я люблю тебя, мое счастье. Мне везет – первый человек, который пришел в воскресенье в гости, оказался энтомологом: вообрази, моя душа, как мы с ним раскалякались; в четверг он мне будет показывать в музее знаменитую коллекцию Papilio. В Подольской губ.<ернии> он поймал совершенно черного podalirius, – pendant к черному махаону в Коллекции Пюнглера. Сегодня вечером идем всей семьей в кинематограф, а завтра я приглашен в «Скит поэтов». Мой вечер 20-го. Я люблю тебя. Вчера был старенький генерал, похожий на Янингса в «Последнем приказе», и читал свой рассказ («мраморная ножка выглядывала из-за атласного одеяла» и т. п.). Кирилл замечательно красив и изящен, много читает, сравнительно хорошо образован, очень веселый. Он рассказывает, что брат мой Сергей (приехавший толстым, с жирной шеей, похожим на Шаляпина) спрашивал его, где тут кафе, где встречаются мужчины, и очень советовал ему нюхать кокаин. К счастью, Кирилл совершенно нормален. Ольги я еще не видел, она с Петкевичем на даче. Елена же очаровательна, а Петя «при мне» очень мил (Е.<вгения> К.<онстантиновна> и мама его недолюбливают, и он говорит «коклюш» и «зави́дно»). Я люблю тебя. Петкевич, оказывается, один из лучших здешних шахматистов (тоже повезло мне). Семья моя поняла «Соглядатая» в том смысле, что герой в первой главе умер, а душа его потом перешла в Смурова. Кстати, насчет души, – мне очень без тебя скучно, моя душенька. Боксуша на меня смотрит мутными глазами и продолжает не узнавать. Тут полагают, что он меня принимает за возвратившегося Сережу. Мама так бодра, что диву даюсь. Она увлекается «Christian Science» (не так, конечно, как Mrs. Bliss), и астма прошла, и нервы в порядке, так что это следует очень и очень одобрить. Она и Е.<вгения> К.<онстантиновна> все чудесно для меня устроили, тома «Entomologist» лежали на моем ночном столике, специально были куплены марки, новые перья, бумага для моих писем к тебе, моя душа. Я тебя люблю. Жильцов тут две четы и еще пресловутая чешка, очень безобидная и милая старая дева. Погода ужасная, святые гадят. Мама на кухне спрашивает у Боксики, «пойдет ли он сейчас гулять с Володей?», но тот молчит. Счастье мое, целую тебя, мою милую, мою душеньку. Скажи Анюте, что я ее очень люблю. Держи ушко востро насчет рецензий, казачьих хоров и т. д. Напиши мне, напиши, здорова ли ты, нет ли болей и вообще. «Собака больше ждать не может», – доносится с кухни. Счастье мое.
В.87. 16 мая 1930 г.
Прага – Берлин
Мой нежный зверь, моя любовь, мой зелененький, с каждым новым бесписьменным днем мне становится все грустнее, поэтому я тебе вчера не написал и теперь очень жалею, прочитав о лебеди и утятах, моя прелестная, моя красавица. Ты всегда, всегда для меня тиргартенская, каштановая, розовая. Я люблю тебя. Тут водятся клопики и тараканы. Только потушил вчера – чувствую на щеке шмыглявое присутствие, усатенькое прикосновенье. Зажег. Таракаша. А на днях был на вечере «Скита поэтов». Возобн<ов>ил дружественные отношенья с Чириковым, Кадашевым, Немировичем-Данченко. Он очень старенький, Немирович. Познакомился с лысым евреем (тщательно еврейство свое скрывающим), «известным» поэтом Ратгауз.<ом> Стихи читал Эйснер, под Гумилева, с «краснорожими матросами», «ромом» и «географической картой», полные новейших клише, очень звонкие, одним словом, ты понимаешь, какая это гнусность. А с Ратгаузом я совершенно не знал, о чем говорить, неловко говорить с человеком, чье имя стало нарицательным для дурных поэтов. Он мне сказал между прочим: «Вот вас сравнивают со мной…» Трогательно и гадко. Читали много молодых поэт<ов> и поэтесс, так что я себя чувствовал как на наших «поэтических» собраньях, все то же самое, тошно. Целую тебя, мою милую, мою душеньку. Мне пришло в голову, что Baudelaire никогда в действительности не видел «jeune éléphant», правда? Ну конечно, были всякие «среди нас присутствует…», «наш дорогой гость…» и т. д. При этом Кирил<л> становился малиновым. Но интереснее всех поэтов и писателей был для меня Федоров, еще один энтомолог, очень страстный и знающий, мы с ним сразу соловьями запели, к некоторому недоуменью присутствующих. Подумай, недавно его большую коллекцию продали за долги, он совершенно нищий. Не знаю, буду ли я читать «Пильграма» во вторник. Первую главу «Согл.<ядатая>» прочту непременно (он у мамы есть). Ольга еще не изволила явиться. Прочту несколько стихов. Кирилл хорошо учится. Никаких технических позывов у него нет. Он хочет быть естественником, бороться, например, с малярией в Африке. Были всей семьей в кино, видели ту картину, о которой так забавно говорил Шерман (кольцо, сползающее с пальца по мере «паденья» женщины). Мама мне подробно подтвердила то, что об одном старике и одной старухе рассказывала Раиса. Мама это, оказывается, таила пятнадцать лет, и был один очень крупный скандал в Берлине. Генерал Долгов (читавший свой рассказ), как бабушка, говорит «spleutni». Сейчас вошла Еленочка и с невинным лицом спросила, где находится Фламандия. Ах, мое счастие, как мне нестерпимо без тебя. Ты моя жизнь. Трудно будет выдержать приближение к анхальтерову вокзалу. Ты деньги получила? Милое мое, как я тебя целую…
В.Мама тебя целует. Кланяйся хозяевам (и вообще, по получению каждого моего письма сразу кланяйся). Анюте привет. Шерману и Каминкам – тоже[109].
88. 17 мая 1930 г.
Прага – Берлин, Луитпольдштрассе, 27
Здраствуйте, моя радость,
Горлину можешь сказать, что 1) на их вечере выступать не буду – пусть сами выгребают, 2) будут ли они выпускать сборник в «Слове» или в «Петрополисе», – все равно участвовать не буду – я не молод и не поэт. Шерману передай, что мне очень понравилась его статья об Иване Алексеевиче. Поклонись хозяевам. Купи, моя любовь, «Посл.<едние> Нов.<ости>» от четверга (у этого самого, как его – ну ты знаешь, – не могу сейчас вспомнить). Был я вчера в музее, мне показывали прекрасные коллекции – не такие, конечно, полные, как в Берлине, но это чехам сказать нельзя (вспомнил, – Лясковский), и много у них неверно названо. Только что был Федоров, о котором я вам писал, мое счастье. Он очень советует ехать в Варну, там чрезвычайно дешево и много бабоч.<ек> Дорога отсюда стоит 20 марок, всего – от Берлина – значит, 40, на две персоны или зверя – 80, туда и обратно – 160, а комнату можно за 20 (для двух животных) в месяц, и пища стоит на двух в день 1 марку, – итого, нам нужно с тобой на месяц жизни и путешествие марок 250 (широко). Мы поедем, я думаю, в первых числах июня. Змей там нет, а Нем.<ирович>-Данченко в два счета устроит визу.
Я тебя люблю, – прямо смешно, как ты мне недостаешь, моя душенька. Тут на трамвайных остановках ярко-голубые круглые фонари, много аспидно-черных домов, очень узкие панели и нельзя курить в прицепном вагоне трамвая. На днях отправляемся к Бобровским. Кирил<л> образован, прекрасно знает литературу и влюблен в очень миленькую барышню. Мама помнит Масальского по Петербургу, о том, что он сидел в тюрьме, здесь никто не знает, так что я всем рассказываю, с подробностями, скажи это Анюте. А на самом деле молчу, как рыбка, или говорю только хорошее. Продолжаются рауты у Крамаржа, с хозяевами не разговаривают, а только жрут, и недавно Кизеветтер подрался с каким-то другим старичком из-за заливного. В одном советском сборнике были мемуары одного комиссара, он рассказывает, между прочим, как раздавали вещи из нашего дома и как он взял себе китайского болванчика с кланяющейся головой. Я так его помню, этого болванчика. Были ли вы у Миш, моя красавица, что вы поделываете, вообще? В Варне дивное морское купанье. Мы там будем ловить Papilio alexanor. Mme Федорова любит целовать гусениц в головку, это у нее прямо вошло в привычку. Как только получишь деньги, пришли мне что-нибудь, скажем десять-пятнадцать марок, кроме путевых 20. Веду сейчас переговоры с одним чешским издательством насчет «Машеньки», не знаю, выйдет ли (это через чешку, живущую у мамы). Милое мое, я вас целую. Как ваше здоровьице? Да, я тебя люблю, я тебя бесконечно люблю. Пожалуйста, пиши мне, а то я опять захандрю и перестану писать. Любовь моя, ларентия моя teplovata.
В.89. 19 мая 1930 г.
Прага – Берлин, Луитпольдштрассе, 27
Получил, мой зверь Бусса, ваше краткое и мало тюфистое письмецо. Написал Фондамину, что согласен (хотя я предпочел бы – в смысле деньжат, – чтобы Пильграм умер в подвале «Последних новостей»). Послал и Фаяру, что следовало. Боксуша продолжает на меня глядеть мутными глазами. Вчера он произвел подряд 157 лайка, мы считали. Сегодня погодка пристойная, пойдем гулять. Мне грустно, что ты так мало пишешь, мое бесконечное счастие. Финансы тут кислые, нет денег на марки, мне довольно неловко.
Я тебя обожаю.
В.90. 20 мая 1930 г.
Прага – Берлин, Луитпольдштрассе, 27
Моя любовь,
не знаю, какая у тебя служба, ты мне очень невнятно пишешь. Как бы старушку подлую уличить? (уверена ли ты, что это она украла, – ведь последнее время бывали всякие монтеры, – и где лежала брошка?). Видела ли ты рецензию Адамовича в «П.<оследних> Н.<овостях>»? Привезти номер? Сегодня читаю, – прозу и стихи, нужно набрать на полтора часа по крайней мере. Я уже писал тебе, моя любовь, что именно буду «зачитывать». Я пороюсь в архиве, ты ж попробуй достать недавний № «За свободу», где обо мне что-то пишет Нальянч. Становится немного сложна эта погоня за статьями обо мне, не прекратить ли? В конце концов, я не актриса. Моя любовь, мне делается без вас все невозможнее и невозможнее. Я вернусь в воскресенье, 25-го вечером, – кажется, в 11, – я еще напишу точнее. Подтверждаю твое почтенное с деньжатами. Теперь буду чаще писать, любовь моя. Третьего дня гуляли, был дивный бледно-солнечный день, мы взобрались на холм неподалеку от нас, и внизу был виден целый полотняный городок – бродячий цирк, – и оттуда был слышен густой рев тигров и львов, – и поблескивали карусели (а на всех заборах реклама: зеленые оскаленные тигры и между ними отважный усач с бранденбургами). Я снова был в энтомологическом музее, и Обенбергер – очень болтливый жуковед – поносил Германию и говорил, что немцы sont pires que les juifs. Русская колония тут тоже, говорят, черновата. А Ольга до сих пор не является, зато был Шаховский, который снова женился. Душа моя, скучаете ли вы без меня? Я целую вас. Поклонитесь Анюте, пожалуйста, и Мишам. Завтра тебе напишет мама. Сейчас моют Боксу. Мама помолодела, бодра, весела, – когда мы гуляли, я все любовался, как она хорошо ходит и какие у нее изящные ноги – в серых чулках. Она утверждает, что это все от Крышчен Саянс. Да, мое счастье, я скоро вас увижу. Отчего ты мне ничего не пишешь про Варну? I thought you would jump at it (ухватишься). Прочел вчера «Les Caves du Vatican» A. Gide’a, ужасная чепуха, но местами хорошо написано. Мне не терпится засесть снова за романчик. Посылаю тебе статейку, мама переписала. Я очень счастлив, что ты существуешь, моя красавица, – но если служба утомительна – берегись! Я очень счастлив; без тебя мир немного осунулся, но все-таки я знаю, что ты есть, и поэтому я все-таки счастлив. Как я тебя целую!
В.91. 22 мая 1930 г.
Прага – Берлин, Луитпольдштрассе, 27
Моя душа,
очень бодренько тебе пишу опять, хотя от тебя neither rumour nor smell. Кстати, выписываю для тебя из Киплинга следующее: «Do you know the pile-built village where the sago-dealers trade. – Do you know the reek of fish and wet bamboo? – Do you know the steaming stillness of the orchid-scented glade when the blazoned, bird-winged butterflies flap through? – It is there that I am going with my camphor, net, and boxes, to a gentle, yellow pirate that I know – To my little wailing lemurs, to my palms and flying-foxes, For the Red Gods call me out and I must go!» Особенно хорошо – «flap». Если от тебя завтра – а сегодня четвержок – ничего не будет, я и последую зóву Красных Богов. А вот про нас с тобой: «She was Queen of Sabaea – And he was Asia’s Lord – But they both of ‘em talked to butterflies / When they took their walks abroad!» Вчера было у нас к ужину много гостей, Панина и Астров, чета Горн, чета Ковалевских, я читал «Университетскую поэму», было всего 13 человек.
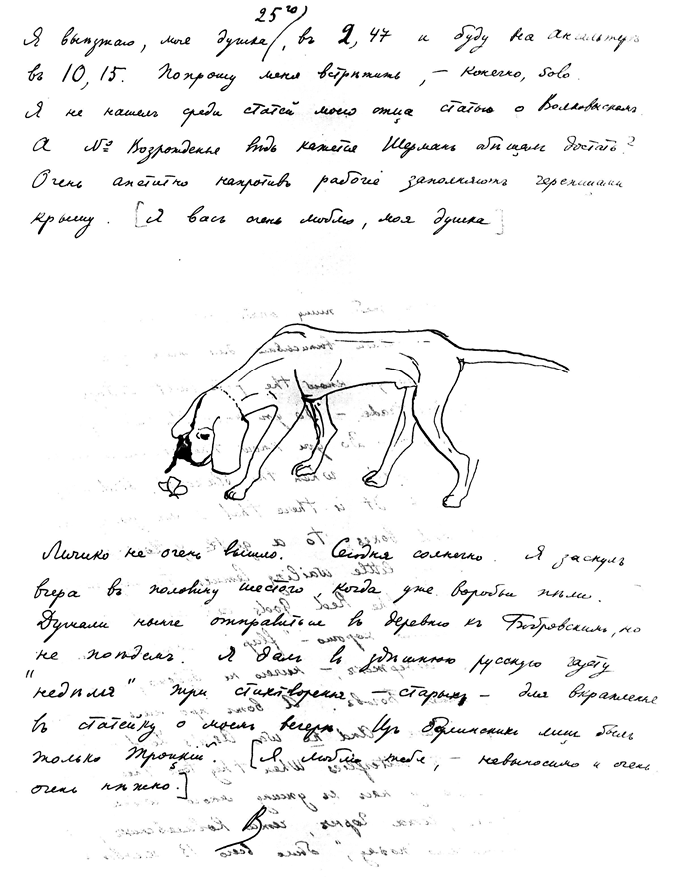
Я выезжаю, моя душка, 25-го, в 2.47 и буду на Ангальтере в 10.15. Попрошу меня встретить, – конечно, solo.
Я не нашел среди статей моего отца статью о Волковыском. А № «Возрожденья» ведь, кажется, Шерман обещал достать? Очень аппетитно напротив рабочие заполняют черепицами крышу. Я вас очень люблю, моя душка.
Личико не очень вышло. Сегодня солнечно. Я заснул вчера в половину шестого, когда уже воробьи пели. Думали нынче отправиться в деревню к Бобровским, но не поедем. Я дал в здешнюю русскую газету «Неделя» три стихотворенья – старых – для вкрапленья в статейку о моем вечере. Из берлинских лиц был только Троцкий. Я люблю тебя, – невыносимо и очень, очень нежно.
В.92. 23 мая 1930 г.
Прага – Берлин, Луитпольдштрассе, 27
Здраствуй, моя душа. Я люблю тебя. Ни тогда, когда я был в Праге без тебя, ни тогда, когда ты была в St. Blasien’е, мне не было так без тебя нестерпимо, как <в> этот раз. Это, вероятно, объясняется тем, что я все больше и больше тебя люблю. Вчера был мой вечер, много народу, я прочел 10 стихотворений (все боевики, конечно), одну главу из «Соглядатая» – первую – и «Пильграма». При этом высосал две кружки пива. Астров сначала многословно обо мне поговорил и потом дал мне № «России и Cлав.<янства>» со статьей Глеба, и там я узнал его фразы, ибо они были карандашиком отмечены им в статье, он прямо оттуда черпал и потом, очевидно, забыл стереть. Познакомился с массой людей, писал в альбомы, улыбался и т. д. На вечер явилась Ольга с мужем, который, оказывается, один из лучших пражских шахматистов. Вообще, было довольно весело, – но вас не было, моя душка. Познакомился с А<в>ксентиевым, который, не зная, что Вишняк написал мне о прекращенье «Третьего Рима», сказал, что Иванов дал только «отрывок». Он очень приглашал в Париж. Статья Адамовича в П.<оследних> Н.<овостях>, как всегда, сдержанная. Зато милый Шерман написал прелестно. Очень поблагодари его демапар.
Тепленький, ты редко мне пишешь. Я, в общем, на это обижен, хотя не показываю. Осталось три дня с хвостом.
В.
93. Ок. 23 мая 1930 г.
Прага – Берлин
Мой маленький,
это последнее письмецо, назначаю вам свиданье в 10.15 на вокзале в воскресенье.
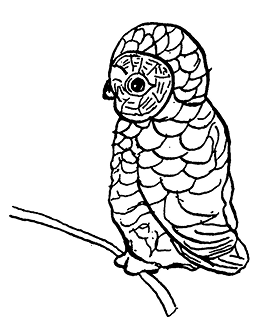
Мой маленький,
мне не нравится ваша служба, я сержусь, мне очень не нравится. Главным образом мне не нравится то, что нужно так рано вставать, это, должно быть, страшно тебя утомляет, – а работать с 9 до 5 ты просто не будешь, я поставлю мою ногу вниз (англицизм), это абсурд. Как только приеду, помещу в «Руле» объявленье – с именем и прозвищем – об уроках. Маленький, нежненький, слабенький, который прилежно трудится с 9 до 5, – это перспектива невозможная. Поговорю с Анютой (кстати, очень целую ее ручку).
Вчера был Изгоев – приехавший из Парижа, – говорил то же самое, что Ника. Иванов живет с Зинаидой. Сегодня будет Кадашев, Варшавский, а вечером Ольга с мужем, – сыграю с ним в шахматы. На днях был Сергей Гессен с женой, очень расспрашивал, каковы сейчас отношенья между его отцом и Обштейном. Я рассказал все, что знаю, и еще многое придумал, чтобы вышло пластично. Кирил<л> бредит стихами, отлично знает литературу, написал прекрасное сочинение о Лермонтове. День-деньской сочиняет – и одно стихотворенье уже сочиняет дней пять, – читает мне, а я ругмя ругаю. По-английски у него отличное произношение, и он хорошо знает английскую поэзию. Скуляри по-прежнему сладок и все время не смешно острит, – но муж он прекрасный, а Елена – прекрасная жена. С Боксушей у меня отношения холодноватые, все жду, чтобы он меня узнал. Питаемся хорошо, обильно, у всех аппетиты гораздо больше, чем у меня. До скорого, моя любовь.
Бусса94. 1930-е (?) гг.
Берлин (?)
Душа моя,
заходил Миша, звал сегодня вечером, я сказал, что тебе передам, но добыть тебя не удалось. Пойди к ним. Я же зайду за тобой (к Каминкам) попозже (от Гессенов).
Целую ваши ручки.
В. Набоков95. 4 апреля 1932 г.
Прага – Берлин
‹…› Первая часть дороги была очень приятна. Я почитывал и смотрел в окно на весеннее детское небо ‹…›[110]. На вокзале встретили меня Елена и мама. Мама в отличном настроении. Очень бодра, хорошо выглядит, хотя похудела. Елена мечтательно настроена и очень мила. Выяснилось, что Скуляри не был для нее ‹…›. Кирилл мне пока больше нравится, чем прошлый раз. Его младородство наносное, слегка озорное, в пику Евгении Константиновне. Впрочем, он страшный бездельник. Ольгин муж все так же мрачен, а Ольга очень похорошела. Ростислав чрезвычайно привлекателен и уже разгуливает по комнатам. Евгения Константиновна поседела, но еще больше поседел и полуослеп бедный Боксик. На днях, быть может, приедет Сережа, и тогда мы все снимемся в тех же позах, как на одном ялтинском снимке. Боксик тоже. Мой насморк все еще держится. Я сплю в маминой комнате на коротком и узком диване со спинкой. Ни в какие Парижи не поеду. Пришли мне, очень прошу, во-первых, «Уста к устам» (прочту только маме без комментарий), во-вторых, статью о бабочках. Ты знаешь, мы с тобой все-таки очень удобно живем. Боксику разрешается ходить в клозет и поднимать ножку у фарфоровой тумбы (для него тумбы). ‹…›
96. 5 апреля 1932 г.
Прага – Берлин
‹…› Передай Бертрану, что благодарю его за письмо. Томпсону я, как видишь, написал. По-моему, очень изящно получилось. Не забудь прислать то, что я тебя просил. Насморк мой немного лучше. Я бодр, выбрит, собственно говоря, пользуясь естественным окончанием странички, я хотел тут остановиться, но я подумал, что, может быть, <ты> не совсем превратно поняла мои намеки насчет смородины и краснорожих. Не думаешь ли ты, что его отношение к героине Лескова и Замятина такое же приблизительно, как отношение жука к кузнечику? Тут солидность, медлительность, некоторая даже тупость, там легкомыслие, проворство, неуловимость. Мама на уроке, Кирилл очень хотел открытку Бертранову, но я ему не дал. У меня тоже есть альбомчик. Сегодня я его заставил принять душ. Думаю засесть за новый роман. ‹…›
97. 6 апреля 1932 г.
Прага – Берлин
‹…› Отрывки ты выбрала хорошо. Я пошлю «Магдино детство» в «Последние новости», а «Визит» ее в «Россию и славянство». Сегодня, однако, послать их не могу. Сделаю в понедельник. Я уже потратил на себя (папиросы, марки) около 20 крон. Мне не очень ловко брать на посылку отрывков, но придется. Может быть, ты перевела бы мне 3–4 марки? Или это сложно?
Из-за Азефа погиб младший брат Бобровского. Задолго до разоблачения Азефа он, брат, каким-то образом узнал, что Азеф – провокатор. Это было в Карлсруэ, и вернулся он в Россию сумасшедшим. Мания преследования. Он решил, что Азеф его теперь убьет. Он ни с кем не говорил, почти не ел, целый день катался на коньках. Однажды он попытался зарубить топором старшего брата. Вскоре после этого он бросился под поезд. Был страшно изуродован и умер. Мне это только что рассказал Петр Семенович, который пришел к обеду. А сейчас около семи, и он все еще сидит.
Сегодня Ольга рыдала, муж потерял ту небольшую работу, которая у него была. Я вложил свою лепту в покупку для Ростислава некоторых носильных вещей. Единственное слово, которое он говорит, – это «да», с большим чувством и много раз подряд «да, да, да, да, да», утверждая свое существование. Погода мерзкая, холодно. По небу бегут оголтелые облака. Я сегодня не выходил, а насморк почти совсем прошел. Мне было сегодня неудобно почему-то брать на отправку, но это психологически. Разговоры по поводу положения Петкевичей и так далее. Но в понедельник я это сделаю. Ошибка, я оставил себе всего 20 крон. Мне казалось, что это хватит надолго. Знаешь, как забавно: мне по утрам мама приносит твои письма совершенно тем же манером, с той же ужимочкой, как в «Подвиге». Кстати, пиши чернилами, а то карандаш стирается, и написанные карандашом твои странички похожи на серые крылья ночниц, с которых сходит пыльца. Петр Семенович мне обещал достать тот номер «Русской мысли», где были впервые нап<ечатаны> мои стихи. Разбирая лишние тетрадки, я нашел совершенно забытое мной, но неплохое свое стихотворение, написанное в Beaulieu, которое начинается так: «Кресты, кресты…» Если не знаешь, спишу для тебя. Мне ужасно недостают апельсины. Я забыл привезти Кириллу те книжечки стихов, которые ему посулил. В комнате разговор. Трудно писать. Тут все живут на взаимном сквозняке. Не ндравится
98. 7 апреля 1932 г.
Прага – Берлин
‹…› Сегодня иду с Раевскими смотреть свеженькую коллекцию бабочек в музее, а оттуда с мамой и с Кириллом едем к Сергею Гессену. Кстати, куда я положил деньги? А вот они, под диваном.
Я начал уже сомневаться в эпистолярных достоинствах вчерашнего моего письма к Томпсону, но хочу верить, что ты от него в восторге, особенно от фразы насчет fine, rich, warm, etc. Ростислав, в розовой кофточке, голубых шароварах и фиолетовых сапожках, стоит в дверях, прислонясь к притолоке, и вот пошел, как пьяный, хотел поднять мяч, уронил коробочку, поднял коробочку, уронил мяч и застенчиво мне улыбнулся. Бокс страшно ревнует, несмотря на слепоту и глухоту свою, начинает лаять, как только Евгения Константиновна берет Ростислава на руки. Ольга разговаривает исключительно на шахматные темы. Муж ее убежденный молчальник и настолько старомоден в своем личном обиходе, что Ольга рикошетом говорит о том, как это отвратительно – краситься, носить яркие вещи и так далее. Вследствие, краски для губ она не взяла, а ему не пригодились клинки, ибо он, конечно, бреется обыкновенной бритвой. Насморк мой почти высох, погода отчаянная. Ледяной ветер, пасмурно. Я надел два пуловера. Привезу Флобера и футбольные сапоги. Летом поедем в Болгарию. Это решено. Пожалуйста, поцелуй от меня Анюту. Боюсь, что хозяйка, пользуясь моим отсутствием, частенько заходит к тебе и говорит, говорит, говорит. Купи сразу несколько марок по 20 пфеннигов и пиши. Меня, например, интересует, как твое здоровье. ‹…›
99. 8 апреля 1932 г.
Прага – Берлин
‹…› Насчет птиц и зверей могу тоже тебе написать. Я вчера был с Раевским в музее, но так как в одной из нижних зал открылась Пушкинская выставка, у меня несколько спутались впечатления. Любительская фотография – щеголь Гоголь с тросточкой среди русских художников в Риме, и изумительная птица Pteridophora alberti, о которой я тебе два года тому назад уже писал. На бумаге такого же голубого цвета оригинал «О Делия драгая», и прелестные геометрические виды старого Петербурга, и маленький плоский блондинистый грызун с соломенной крышей на спине, Chlamydophorus truncatus. Хламидоносец. А насморк лучше. Погода же дрянная, холодная. Рассказ Газданова я прочел. Он очень слабый. Мне очень неприятна эта телеграмма по поводу гранок. Я их наверное послал.
У Сергея Гессена мы не были. Он болен. Поедем в воскресенье. Вчера мы вместе с Ковалевским разгромили Бориса Владимировича в шахматы. Мама рассказала мне интересные вещи про свои спиритические сеансы с семьей Рериха.



