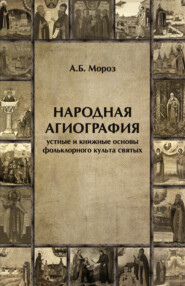
Полная версия:
Народная агиография. Устные и книжные основы фольклорного культа святых
Мнение А. И. Кирпичникова, подвергнув его критике по части работы с источниками, значительно углубил А. Н. Веселовский [Веселовский], найдя в культе св. Георгия значительно более глубокие элементы и проследив путь, каким этот культ мог формироваться. Одновременно он делает замечания о связи культа святого с более древними обрядами, о пути развития этого культа, а также ряд крайне важных попутных замечаний о параллелизме, родстве или даже тождестве св. Георгия и других святых: Димитрия Солунского, Феодора Тирона и Феодора Стратилата – в народных верованиях и легендах, в том числе и литературного происхождения [Веселовский, 5].
Много исследований на эту тему появилось в последние десятилетия. В основном они посвящены святым, чье почитание не имеет широкого распространения, а ограничено этнически или даже регионально. При этом внимание авторов останавливается на ряде существенных тем, таких, как соотношение устной нарративной и книжной традиции, соотношение связанных со святым верований и фольклорной мифологии и обрядности, происхождение и функционирование сюжетов легенд о святых и механизмы текстопорождения. Например, сербский ученый Л. Раденкович, изучая народный культ св. Саввы Сербского, приходит к выводу о его отождествлении с Саваофом, отчасти на основании созвучия имен [Раденковић-1996, 96–98].
Особый интерес представляет собой ряд публикаций, описывающих традицию почитания святых в месте их рождения, подвига, смерти или обретения мощей. Для таких локальных традиций святые являются как бы «своими», а осознание пространственной близости к проявлению сакрального, как явствует из ряда исследований, способствует активности бытования традиции и возникновению большого количества новых текстов. Среди первых работ на эту тему можно назвать публикации, посвященные свв. Петру и Февронии Муромским. Такая работа была проведена сначала М. О. Скрипилем [Скрипиль], а впоследствии по его следам Р. П. Дмитриевой [Дмитриева]. У обоих ученых общая задача – понять, какие именно фольклорные тексты лежат в основе Повести и как конкретно формировались эти явно вторичные по отношению к устной традиции персонажи. На основании анализа некоторого количества записей легенд о Февронии, сделанных в д. Ласково – месте ее жизни до замужества – и не только, М. О. Скрипиль делает такое заключение: «Писатель древней Руси не всегда непосредственно обращался к исконным фольклорным формам (сказке, песне, былине и проч.), […] между ним и народным творчеством роль связующего звена могла исполнять устная или рукописная легенда» [Скрипиль, 139]. Таким образом, легенда исключается из числа «исконных фольклорных форм» и относится им к рукописной традиции, при том что никаких аргументов в пользу существования таковой не имеется.
Р. П. Дмитриева, продолжая эту тему, отчасти спорит с предшественником в плане поиска конкретного источника Повести, отчасти продолжает развивать его теорию некоего конкретного прототипа, легшего в основу жития. По ее мнению, Повесть не зависит от легенды в тех записях, в которых она известна современному читателю. Легенда сформировалась на основании использования фольклорных мотивов в народных рассказах о почитаемых святых. В Повести же используется новеллистическая сказка, хотя и Повесть, и легенда восходят к местному преданию о лечении князя крестьянской девушкой и к их женитьбе [Дмитриева, 49].
Обе статьи имеют один и тот же методологический недостаток – в них используются принципы текстологического анализа рукописной литературы применительно к устным текстам. Будучи специалистами по древнерусской книжности, оба автора механически переносят принципы работы с рукописями на фольклорные легенды и игнорируют специфику последних. За данность принимается наличие некоего прототекста или нескольких независимых прототекстов, которые сохранились в искаженном виде в разных версиях, в каждой из которых есть свои нововведения. Легенда по умолчанию считается более древней, чем Повесть, по той причине, что должен же был автор на что-то опираться. Фольклорная традиция считается если не неизменной, то бережно хранящей тексты, сюжеты, образы древности. Авторы, по-видимому, вовсе не допускают возможности влияния книжности на фольклор, а также игнорируют возможность существования клишированных элементов текста, не привязанных к конкретному сюжету и жанру. Отсюда предпринятая М. О. Скрипилем попытка установления родства между разными легендами на один сюжет (проклятие святым местных жителей) и датировки легенды по атрибуции проклятия реальному лицу (святому). Логика такова: Феврония проклинает односельчан фразой «Ни бóлеть вам, и ни мéнеть», напоминающей ту, которую в другой легенде митрополит Алексий бросил в адрес обобравших его перевозчиков («будете жить ни бедно ни богато»). Из этого якобы вытекает древний характер самой формулы (какой из двух?). Это уже само по себе надуманное обстоятельство должно, по мнению автора, свидетельствовать о времени существования легенды о Февронии: она восходит к легенде об Алексии, а про ту почему-то предлагается думать, что она возникла во время жизни митрополита, то есть в XIII в. Следовательно, легенда о Февронии могла лечь в основу Повести [Скрипиль, 156–157].
Тем не менее в статьях делается ряд ценных наблюдений относительно народных представлений о святых: упоминается конфликт Февронии с местными жителями, представления о ней как о безумной, говорится о специфике народного отношения к чуду, рассматриваются формулы проклятия местных жителей со стороны святых.
Подобные исследования предпринимаются и этнологами. О. А. Черепанова исследовала соотношение легенд об Иоанне и Логгине Яреньгских и влияние житийной традиции на устную. Она показала, как современные легенды о соловецких святых приобретают черты современной же действительности (святые могут пониматься как беглые заключенные соловецкого лагеря) [Черепанова-2005, 234], а также как происходит подмена представления о святых представлением об их иконах (явления святых воспринимаются как явление икон) [Там же, 234–235]. Формирование устного жития святого за счет народных верований и интерпретации иконографии на примере св. Артемия Веркольского анализирует А. А. Иванова, очень убедительно показывающая, как недостающие в житии и основанных на нем легендах мотивации достраиваются за счет бытовых и мифо-ритуальных представлений [Иванова-2008]. Похожее исследование посвящено народному культу св. Иоанна Кронштадтского [Фадеева]. Основной задачей автора было показать, как печатные издания влияют на формирование фольклорного образа святого и как они взаимодействуют с еще живыми воспоминаниями об этом подвижнике и с уже сложившимися фольклорными представлениями. Специфика и интерес этого материала и этого исследования заключаются в том, что святой здесь близок носителям традиции не только в пространственном, но и во временнóм отношении, а также тем, что он был канонизирован РПЦ в 1990 г., хотя почитался как святой еще при жизни.
Большое исследование народному почитанию св. Стефана Пермского и его соотношению с книжной традицией посвятил П. Ф. Лимеров. Автор настаивает на том что Степан коми преданий и житийный Стефан Пермский «два совершенно разных образа, созданные примерно в одно и то же время двумя разными традициями: древнерусской письменной традицией и устной фольклорно-мифологической традицией новокрещенных коми. Разница между образами огромна, как и огромна разница между создавшими их русской христианской и коми (почти еще языческой) культурами» [Лимеров-2008, 3; Лимеров-2008а, 157]. В дальнейшем тексте делается попытка доказать, что в преданиях о Степане, зафиксированных в ХХ в., хорошо отразились коми мифологические (языческие) воззрения XVI в. В обеих публикациях, из которых первая полностью вошла во вторую, автор явно движим идеей найти не просто следы, но отчетливо выраженные языческие представления коми. Он настаивает на независимости преданий о Степане (именно так автор определяет жанр нарративов) от жития и вместе с тем на одновременности их возникновения. Такой подход напоминает упомянутые выше методы исследователей древней литературы при работе с рукописными версиями текста, никак не оправданный при обращении к фольклорному материалу. На наш взгляд, нет ни малейших оснований настаивать на независимости устных текстов от письменных, фольклорные нарративы имеют явно вторичный характер по отношению к сочинению Епифания Премудрого, хотя, естественно, дополняются некоторыми фольклорными мотивами и излагаются с использованием клише, типичных для фольклорных нарративов о сверхъестественном.
Одновременно автор делает важные наблюдения, касающиеся особенностей восприятия святого в народной культуре, роли и функций его как культурного героя, основателя природных и культурных объектов, преобразователя жизни местного населения [Лимеров-2008, 6–12].
Особый интерес представляет несколько работ, посвященных народным верованиям и легендам, связанным со святыми, чей культ возник именно в фольклорной среде или значительно обогащен фольклорной традицией и заметно трансформировался под воздействием фольклорной картины мира. А. А. Панченко принадлежит глубокое и всестороннее исследование текстов, связанных со свв. Иоанном и Иаковом Менюшскими – святыми отроками, из которых один в игре по неведению убил другого, а потом, испугавшись, спрятался в печи вместе с телом убитого брата, после чего они оба были случайно сожжены в печи вернувшимися родителями. Ученый показывает, как бытовой эпизод становится основой сакрального текста и народнорелигиозных верований [Панченко-2006, 223–224], как житийный текст, пересказываемый в крестьянской среде, получает новые детали и интерпретации [Там же, 220] и как в локальной традиции, где распространено почитание святых, общие сюжеты и обряды приобретают особые формы именно в связи с почитанием святых отроков, например, «известно достаточное число рассказов, заканчивающихся возвращением проклятого: чтобы освободить его от власти демонов, нужно накинуть на него нательный крест и пояс, “дать завет на икону”, позвонить в колокол либо прибегнуть к специальной магической практике. Однако помощь святого или святых – мотив, в целом не характерный для таких рассказов. Очевидно, что подобная трансформация этого сюжета в фольклоре Менюши свидетельствует об очень интенсивном воздействии культа отроков Иоанна и Иакова на локальную устную традицию» [Там же, 222–223]. В почитании святых отроков, как и ряда других «святых без житий», то есть святых, почитание которых началось с обретения нетленных мощей, при том что о праведной жизни их ничего не известно, автор склонен усматривать следы почитания заложных покойников [Там же, 224].
В вышедшей в 2012 г. объемистой монографии, посвященной тому же сюжету, автор рассматривает его в значительно более широком этнокультурном контексте и на фоне обширного материала, как славянского, так и европейского. На основании сопоставления множества текстов, прежде всего европейских, на этот сюжет (ATU 1343*) А. А. Панченко приходит к выводу, что малое распространение сюжета на восточнославянской территории и полное его отсутствие в корпусе агиографических сюжетов, с одной стороны, а также достаточное распространение этого и близких сюжетов в Западной Европе – с другой, указывают на то, что сюжет был заимствован новгородской традицией с Запада и под влиянием значительного количества различных обрядов, верований и нарративов (в том числе связанных с отношением к забудущим – неизвестным – покойникам), нарративам и обрядам, связанным с жертвоприношением, и проч. превращается из занимательной, анекдотической, сказочной истории в сюжет жития.
Яркую особенность фольклорной интерпретации житий святых демонстрирует статья Вайолет Алфорд о народном культе св. Агаты. Автор прекрасно анализирует культ этой католической святой, рассматривая ее патронажные функции, обряды, в частности испечение и ритуальное использование хлебов в форме женской груди, так как святая считается покровительницей кормящих матерей, процессии, действия со статуями, верования в ее способность управлять погодой, тушить пожары, наказывать за нарушение запретов и т. п. Многое в культе святой В. Алфорд объясняет более древними фольклорными представлениями, в частности рассматривает соотношение ее с культом мертвых и с языческими божествами [Alford, 162-176]. Особый интерес в работе представляет интерпретация верований, что святая может появляться в облике кошки и в этом виде помогать или наказывать людей. В. Алфорд убедительно доказывает, что такое представление возникло из интерпретации имени святой в его окситанском произношении: Santo Gato, – омонимичного слову gato – кот [Там же, 178]. Этого весьма точного и тонкого замечания, однако, самой исследовательнице недостаточно, и она пытается подкрепить такое предположение отсылкой к преемственности св. Агаты по отношению к Церере, жрицы же Цереры должны были пониматься как ведьмы, способные превращаться в животных [Там же, 179-180], что выглядит явной натяжкой. Как видим, и этот автор не смог удержаться от попытки установить связь между ними и почитанием святых, причем от попытки крайне неудачной в отличие от очень убедительных и точных наблюдений относительно народной этимологии как сюжетообразующего фактора и импульса к возникновению верований.
Похожее в некотором роде исследование принадлежит греческому автору М. Капланоглу, который исследует легенды и обряды, посвященные св. Фанурию. Этот святой, почитаемый официальной церковью, вместе с тем выступает как персонаж народной легенды, известной в славянском мире как легенда о св. Петре и его матери (ATU 804 Мать св. Петра падает в ад). В день памяти св. Фанурия печется специальный хлеб, фануриупита, который относится в церковь в память о матери святого. Этот обряд помимо поминовения матери святого выполняет еще и продуцирующую функцию – помогает выйти замуж, найти пропавший скот или вещи [Kaplanoglou, 56-59]. Функция, приписываемая святому, объясняется через этимологию его имени: фауЕротпс; – ‘показующий’, ‘открывающий’. Сам обряд выпекания особого хлеба и принесения его в церковь, с прочтением при этом молитвы, напоминает, по замечанию ученого, изготовление поминальных блюд и явно восходит к культу мертвых [Там же, 62]. Вместе с тем есть основания считать, что культ св. Фанурия восходит к почитанию св. Георгия и даже сам святой как персонаж восходит к неверно понятому атрибутиву фауЕротпс;, написанному на иконе Георгия, тем более что функции, приписываемые Фанурию, делегируются и свв. Георгию и Мине [Там же, 56]. Таким образом, мы имеем дело с персонажем, обязанным своим происхождением своеобразной игре слов.
Последние две работы косвенно затронули еще один важный аспект народного культа святых – существование в народной культуре квазисвятых, вымышленных, но почитаемых как святые. Специальных работ на эту тему очень мало, но попутно ее касались многие исследователи. Так, например, И. Делеэ отмечал, что в основу культа может лечь, например, открытие неизвестных могил или сюжет (и персонаж) литературного произведения вроде шансон де жест [Delehaye, 87].
Несколько специальных исследований культу несуществующих святых посвятил Владислав Барановский [Baranowski-1971; Baranowski-1979]. Польский этнограф показывает, как из литературных или исторических персонажей на основании сходства их историй с агиографическими сюжетами и народными представлениями о святости появляются новые святые. Так, в качестве святой почитается Геновефа (Женевьева), Брабантская принцесса VIII в., известная в Польше по переводу немецкой легенды. В народе она стала известной благодаря широко распространенным книжкам с изложением ее истории, перешедшей благодаря этим изданиям в народные легенды и народную живопись [Baranowski-1979, 48]; иным образом формируется почитание квазисвятой Халины или Алины: в польской церкви нет святой с таким именем, соответственно, носительницы его не имели патронессы, пока в качестве таковой не была избрана героиня драмы Юлиуша Словацкого «Балладина»: ссора из-за поклонника и убийство одной сестрой другой трансформируется в ссору о вере, а сестра-убийца становится язычницей [Там же, 51]. Еще один пример – святая Зузанна (Сусанна), в образе которой смешаны два одноименных персонажа: так называемая девственница Сусанна дохристианского времени и почитаемая как мученица III в. Сусанна, чья достоверность более чем сомнительна. Более известна первая – героиня книги пророка Даниила. В польском фольклоре эти две Сусанны смешались в одну, чей образ известен из песен [Baranowski-1971, 42–43].
Фундаментальный труд на эту тему принадлежит Жаку Мерсерону, автору «Словаря мнимых и пародийных святых» во франкоговорящей Европе [Merceron]. Собрав несколько сот таких персонажей, часть из которых почитается вполне серьезно, а другая часть представляет собой разного рода шуточные образы, основанные на игре слов, ложной этимологии, персонификации временны́х периодов или просто вымысле, автор словаря не просто посвятил каждому статью, но и описал их происхождение, распространение, функции, открыв тем самым огромное поле для аналогичных исследований на материале других языков.
Изучая народное почитание святых, невозможно обойти стороной вопрос о соотношении книжных житий и фольклорных легенд, посвященных одним и тем же персонажам. Взаимное проникновение этих жанров, первичность книжного или фольклорного текста, первоисточник, пути формирования текстов – вот неполный перечень основных вопросов, затрагиваемых в рамках этой проблематики.
Среди исследователей древнерусской житийной литературы обращение к теме фольклора и его участия в формировании агиографических текстов – явление частое. Выше упоминались работы М. О. Скрипиля и Р. П. Дмитриевой, посвященные фольклорным источникам «Повести о Петре и Февронии». Этот пример показателен в отношении тех методологических просчетов, которые часто допускают авторы, работающие с рукописной традицией. Не имея независимой от жития версии фольклорного текста, относящегося ко времени создания жития, они впадают в соблазн реконструировать его текстологическими методами, вывести из имеющихся в современных записях вариантов. В поисках фольклорного прототипа агиографического сочинения обычно не учитывается ни обратная возможность происхождения легенды от жития, ни тот факт, что фольклорный прототип святого (если он существовал) мог быть серьезно переработан агиографом. Этой позиции придерживается, например, П. Ф. Лимеров, утверждающий, что житие Стефана Пермского и легенды о нем отражают единый некогда существовавший пратекст [Лимеров-2008, 25]. При этом автор датирует возникновение народной легенды о Степане XVI в., не приводя никаких серьезных аргументов в пользу этого суждения [Лимеров-2008а, 157].
В худшем случае при поисках фольклорного прототипа не делается и попыток реконструкции, а просто априори утверждается наличие легенды, народного культа и т. п. исключительно на основании более или менее субъективных ощущений автора. Так, Л. А. Дмитриев утверждает, что на Русском Севере возникали «народные» святые (Артемий Веркольский, Иоанн и Логгин Яреньгские, Вассиан и Иона Пертоминские и др.), «которым приписывался дар чудотворений, и этими святыми были не подвижники христианства, а обычные люди, только с необычной судьбой. […] Легендарные предания об этих святых в тех случаях, когда церковь причисляла их к сонму признаваемых подвижников, облекались в форму житий» [Дмитриев, 259]. О каких именно преданиях идет речь – не сказано, их реальное существование автор ничем не подтверждает. Похожие замечания встречаем у С. А. Иванова (он утверждает, что Житие Василия Блаженного впитало в себя народно-религиозные черты, но какие именно и как – не поясняет) [Иванов, 295], у А. С. Лаврова, употребляющего без объяснения понятие «народные святые» [Лавров, 221]. Обращение исследователей житий к фольклору имеет целью объяснить некоторые не вполне понятные с точки зрения классической агиографии культы через возведение корней почитания этих святых к традиционным верованиям. Е. А. Рыжова, рассматривая истоки культа Артемия Веркольского – отрока, убитого молнией, – объясняет возникновение его культа фольклорными представлениями об убитом молнией как о праведнике или великом грешнике [Рыжова] – обстоятельство, несомненно, существенное для констатации возможного влияния фольклорной традиции на формирование культа святого. Впрочем, по мнению А. А. Панченко, «в сложении его культа первостепенную роль играли не история гибели мальчика, но обстоятельства обнаружения его тела, а также исцеление жителей Верколы от эпидемии. Вполне возможно, что агиографический акцент на смерти Артемия “от грома” связан не с местной устной культурой, а с книжной традицией» [Панченко-2012, 112].
Серьезный, хотя тоже не дающий стопроцентной уверенности в достоверности результатов, но все же основанный на понимании механизмов существования и развития фольклорных текстов метод выявления фольклорных источников в книжном тексте использует, например, Дж. Добл. Он выделяет фольклорные по происхождению элементы на основании сходства отдельных мотивов и способов организации текста в житиях с фольклорными, преимущественно сказочными текстами, и это дает некоторый результат. Не пытаясь найти конкретного прототипа тому или иному эпизоду в сказке, автор утверждает о вероятности заимствования или влияния на основании структурного сходства [Doble, 327–329]. К сожалению, легенды остались вне поля внимания исследователя.
Обратное влияние книжного текста на легенду попадало более в поле зрения фольклористов. Так, например, В. П. Адриановой-Перетц (впрочем, она в равной мере фольклорист и литературовед-медиевист) принадлежит глубокое исследование духовного стиха об Алексии Человеке Божием в сопоставлении с его житийным прототипом и другими жанрами фольклора. Сопоставляя варианты стиха, анализируя отдельные эпизоды и детали, исследовательница приходит к заключению, что помимо жития на формирование стиха заметное влияние оказала былевая поэзия [Адрианова, 350–359; 386–394; 402–404 и др.], сказки [Там же, 375–380; 394–402], иконография [Там же, 437–442].
О влиянии книжности на народные легенды писал и В. Барановский. Упоминание святых в богослужении, церковное почитание реликвий, жития святых, в особенности в изложении Петра Скарги, А. Радзивилла и Яна Лещинского – все это существенно способствовало возникновению народных культов святых, несмотря на малую грамотность крестьянства [Baranowski-1971а]. При этом мощнейшим механизмом формирования народных представлений и легенд о святых является контаминация, вследствие которой одноименные святые превращаются в одного персонажа [Baranowski-1970а, 94, 103, 108–109]. Автор отмечает такое явление, как народная иерархия святых, которая возникла по аналогии с средневековой феодальной и в рамках которой святые располагаются по принципу близости к Христу [Там же, 89].
Ю. М. Шеваренкова обращает внимание на «двойную фольклоризацию» агиографических легенд: из фольклорной среды в книжную, потом из книг обратно (в отличие от новых легенд о местночтимых святых, книжных житий которых не существует; говоря о вторых, она замечает, что «при сохранении и востребованности в региональном фольклоре образа почитаемого старца-лекаря и (или) старца-богомольца, они способствуют продолжению в современной традиции народной агиографической традиции» [Шеваренкова-2004, 61]. Впрочем, книжное влияние на фольклорные легенды не обязательно должно идти по прямой линии – от жития к легендам о том же святом. Устные нарративы (как и тексты книжной агиографии) часто используют повествовательную модель, набор мотивов, сюжетов, образов, связанных с другим персонажем.
Следует отметить, однако, что в работах многих исследователей не делается никакого различия между фольклорными легендами о святых, с одной стороны, и меморатами и фабулатами, на основании которых проводилась канонизация и которые должны были быть использованы в житии при его создании, – с другой. Практика же показывает, что между этими двумя группами текстов существует крайне мало точек соприкосновения и лежащие в основе житийных текстов описания посмертных чудес святого (как и многих прижизненных) обычно не сохраняются в зафиксированной на протяжении XIX–XXI вв. фольклорной традиции. Почему так обстоит – вопрос, пока не решенный, на него еще предстоит ответить. Попытка этого объяснения делается в настоящей работе.
Некоторую сложность для исследования в области народной агиографии представляет отсутствие единой и внятной терминологии, в особенности полная несогласованность в употреблении термина легенда (подробный экскурс в историю, семантику и использование термина легенда см. [Панченко-2012, 249–257]). Разброс в понимании того, что следует именовать этим словом, настолько широк, что речь может идти о совершенно никак не соприкасающихся между собой типах текстов. При этом далеко не всегда дается какое-либо определение жанру и термин легенда используется предельно широко. Так, польский религиовед E. Чупак, рассуждая о социальной природе религиозных культов, вообще не делает никакого различия между житийными текстами и фольклорными нарративами о сакральном, называя и то и другое легендами без каких-либо оговорок и таким образом смешивая тексты книжного и фольклорного происхождения [Ciupak, 71]. Так же подходит к анализируемому материалу Ян Курек. Описывая культ св. Станислава Щепановского, он обращается к текстам, повествующим о чудесах святого, именуя их легендами вне зависимости от того, книжные они или устные, какой степенью историзма они обладают, признаны они или нет официальной агиографией [Kurek-1989, 27–29]. Похожие неточности допускаются нередко в работах, посвященных древнерусской книжности. Хотя среди русских медиевистов не принято называть легендами собственно житийные повествования, однако они склонны некоторые житийные эпизоды или даже целые жития возводить к народным или монастырским легендам без какого-либо обоснования, просто под тем предлогом, что соответствующие эпизоды или тексты целиком не укладываются в существующую концепцию древнерусской литературы. Эта традиция идет еще с XIX в. и, например, в классическом труде, посвященном житиям святых, В. О. Ключевский легко относит к легендам эпизоды, которые кажутся ему наивными и неисторическими. Таково замечание историка о «наивных приемах» эпизода жития Авраамия Ростовского, в котором показана борьба Авраамия не с самими ростовскими язычниками, а с языческим идолом, перед волшебной силой которого изнемогает сначала сам преподобный, то же В. О. Ключевский усматривает и в эпизоде о построении церкви на месте языческой святыни – разбитого идола [Ключевский, 30]. Этот интуитивный критерий определения источника житийного эпизода как легенды остается актуальным. Л. А. Дмитриев в своей монографии «Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв.», хотя написанной явно с оглядкой на В. О. Ключевского, но переводящей разговор о житиях в иное русло (он пишет о них не как об исторических источниках, а как о художественных текстах), продолжает использовать тот же метод: события, не имеющие документальных подтверждений и не выглядящие правдоподобными, определяются как «легенда», «народная легенда» (вариант: «монастырская легенда»), «предание», «легендарное предание», причем эти термины, по-видимому, используются как синонимы. Вот пример такой атрибуции эпизода из жития св. Варлаама Хутынского: «Мораль этого эпизода христиански-аскетическая, но характер рассказа повествовательный, а не отвлеченно-риторический. Видимо, в основу рассказа легла какая-то монастырская легенда» [Дмитриев, 40]. Легендами называются гипотетически существовавшие тексты, содержащие информацию о чудесных событиях, не имеющие литературного источника. Сам по себе вопрос о бытовании таких легенд не ставится – оно предполагается по умолчанию.



