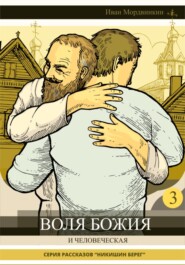 Полная версия
Полная версияВоля Божия и человеческая
Прохор промолчал, не зная как соединить все эти ниточки в сердце, а Федор, желая продолжить беседу, размышлял еще, как бы в никуда, сам себе:
– Ко греху нету воли Божией, а к свободности есть. А дело лучше выбрать то, что меньше будет в тебе страстей возбуждать. Оно ближе будет к воле Божией. Да как только узнаешь сие? Особливо, если полной правды, к примеру, нет в тебе, и всякое дело делаешь не чисто, а со грехом, – Федор всмотрелся в Прошкино лицо. – Потому старцам Бог и дает прозорливость, что они не лукавы.
– И как же можно правду увидать? – удивленно вопросился Прохор, до того и не ведающий стольких духовных составов в человеческом бытии.
Федор вздохнул и рукою взъерошил редкие седоватые волосы. Видно, сам себе таковой вопрос задавал он не однажды.
– Ну… Вот, к примеру, стоят на берегу две лодки, а тебе переплыть надо. Одна большая, но серебрянная. А другая золотая, но поменьше. Да обе тяжелы. Какую выберешь?
– А обычной нету? Так, чтоб по делу, деревянной?
– Вот так и выбирай – что по делу, то и бери, – Федор выставил указательный палец в знак важности произносимого. – Остальное – лукавое да хитрое, нет в нем правды. Что покрасивее, что побогаче. Все возбуждает в тебе страсти. А страсти против воли Божией.
– Что же ты раньше-то мне не объяснил? – вздохнул Прохор, понимая, что без выхлебанной им горечи можно было и обойтись, знай он сии обыкновенности ранее.
– Надобно, чтоб ты спросил. И не по уму чтоб спросил, а от сердца чтобы изошло. Тогда и ответ в сердце войдет, – от приобнял сына за плечи. – Через то ты сам станешь понимать, а когда кто скажет тебе без вопрошенья, так ты и не поймешь, и не запомнишь. Ибо иное дело – разум, а иное – сердце. Так батюшка мой Никифор Афанасьевич говорил, и так меня воспитывал. Все больше в деле, а не в слове.
Карась пропекся и с другой стороны, и Федор разбросил на траве небольшую рядюшку, вынул из котомки полкаравая хлеба и пару белесых молодых луковиц с длинным пером.
– Одного только не разумею все никак, – не унимался Прохор, с аппетитом поглядывая на карася. – Как же Господь не подает простых вещей человекам? Неужто только святым все дает? Ведь всякое дело, как и сам ты сказываешь, со грехом смешано.
– Все подает, – улыбнулся Федор, разломил карася и подул на обожженные пальцы. – Не глядя на грехи. А как иначе-то? Чего хочешь, то и подаст. Подходи и бери.
Федор поднялся, пошарил под переломиной бревна, на которой они сидели, и достал крынку простокваши, с вечера принесенную в поле Ульянкой. Однако ж, Прохора к ужину не позвал.
– Пойди вон, в низинке береза белеет большая на краю пролеска. Видишь? Пойти к ней и сядь у корня-то и сиди, пока не позову. Пусть карась покедова остынет.
Прохор еще раз взглянул на отца с тем, чтоб сыскать шуточное выраженье на его лице, но шутки не обнаружилось, а потому пришлось ковылять в темноте по скошенному лугу, стараясь не наколоть босых ног сухой и крепкой стерней, среди которой попадались и срезанные поросли древесного молодняка.
Береза та звалась в народе волчьей, ибо стояла она на самом краю леса в таком месте, откуда вся луговина видна была, как поле открытое, а потому сюда волки таскали овец, каких выволакивали из деревни, чтобы здесь их разорвать.
Дурное место.
Федоров же костер казался отсюда совсем крошечным, а сам Федор – едва заметным, а может и незаметным вовсе, ибо темнота обманчива, и все в ней видится искаженным.
Прохор уселся на вывих березового комля, помышляя о смысле вынужденного уединения и отгоняя мысли о карасе, который отец натер перед выпечкой солью и промазал ячневой мукой. Да с яйцом для сытости. Небось, с луком-то вприкуску оно вышло б весьма плотно, да и вкусно с проголодки.
Думки его внезапно прервал шорох и треск мелких веток позади, со стороны лесной темени. Прохор вскочил на ноги, и всмотрелся в черноту, жалея, что не прихватил с собою палки. Обыкновенное днем, ночью это место казалось уж совсем жутким, ибо память о хищниках сделывалась в темноте неотступной, отчего рисовались в уме самые жестокие образы.
Прохор даже задрожал мелко, не то от промозглого ночного холода, какой тянется по низинам вместе с ночным туманом, не то от страха и тех воображений.
– Про-ша! – наконец позвал Федор, и с облегченьем Прохор удалился быстром шагом от дурной березы и вымышленных волков, спиною будто чуя на себе недобрые взгляды из темноты.
Со вздохом избавления он уселся на уютное бревно у костра.
– Не знаю я слов стольких, чтоб объяснить, – Федор протянул сыну кусок рыбины. – Так только могу показать на деле. Вишь костер этот – он здесь как Господь в нашем бытии. Все здесь есть – и свет, и тепло, и пища, и мир. А отойдешь от костра, потеряет ли он свои дары?
– Кто? Костер-то? – уточнил Прохор.
– Он самый.
– Да нет, – передернул плечами Прошка. – Отчего ему терять-то?
– Вот и Бог так же, – наконец утвердил Федор свою мысль. – Все блага имеет, подходи и бери. А отойдешь от Него, как от костра отошел сейчас, так и будешь в холоде, в голоде и в страхе. Да еще и в темноте, ибо без Бога-то и непонятно ничего.
– А-а! Так вот для чего ты меня отослал к березе! – улыбнулся Прохор, сводя мысли о костре и его дарах, с мыслями о Боге. – Теперь понимаю, как оно! Ишь ты, как просто-то, а?
Прошка и впрямь вроде бы понял что-то важное, а может сердцем почуял нечто неясно, но вместе с тем и твердо. Да только сошла с его души тягота, и сделалась душа такою лёгкою, что не усидел он, да и бухнулся на коленки перед отцом:
– Ты прости меня, батюшка, виноват я перед тобою, – проговорил он и умолк, чтоб не показать слез в голосе. – И от костра ушел, и от тебя, и от Господа-Бога своего.
Федор, не поднимаясь с бревна, приклонился к нему в объятье молча, да так, чтобы без слов умирить сынишку своего милого. А сделать сие всегда выходило только в объятии, в котором в единое сливаются души отца и сына.
***
Лето пошло своим чередом, клонясь и к осени.
Много Прошка настрадался бы, если б не принял к разумению отцовских наставлений, ибо подселилась в дом батюшки-настоятеля родня, какая на Прошку заживо взъелась и жизни мирной давать не желала.
Да все их наветы с клеветами он принимал просто, как принимают назойливых комаров – отмахнулся, да и был таков. Знал Прохор теперь, что всякое зло не Богом посылается, и нет на то Его святой воли, а его, Прохора, страстями через свободность воли так все выводится. Да и случаи всякие видятся через то не как они есть, а с вывихом, с обманом, как в темноте той у Волчьей березы, что помнилась ему потом, как место смутное и от костра удаленное.
А потому, как ни горьким кажется день в темноте бытия, а всяк он Божий, и все в нем для очищения от греха, как избавленье от хищника, составляется. А человеку по опьянению грехом все обратным кажется. Между тем, как, в правде если посмотреть, при свете-то, всякая горечь – вроде лекарства, а сладость – истинная отрава.
Стало быть, приближайся к Богу, как к тому костру в ночи: живи мирно, хоть бы и посреди искушений, кайся почаще да поглубже, и отойдет нечистый, останется позади, в темноте, ибо всегда всего чистого и светлого страшится.
***
К осени ушли и искушения те, видно, вслед за жарою охладились, да развеялись по ветру: двинулась привередная родня дальше, ибо недовольная осталась она житьем в батюшкином доме. Сам же батюшка-настоятель, отовсюду искушаемый то лето против Прохора, тоже остыл. Да еще до того, что прощения просил у зятя за нанесенные обиды. А тот, хоть в лоб его бей, не понимал за какие. Ибо обиды-то ему наносили, да в сердце он их не складывал. А от того и не сохранилось ни одной.
– Может вернуться мне домой? Тянется душа к Никишину берегу, – вздохнул он как-то отцу, который привез свату огородных даров полную телегу.
– Зови Ульянку, да Пашутку прихвати. Поедем ноне же, – ответил отец.
Собрались вскоре – не много нажилось поклажи, да и нукнули на лошадку.
– Домой-то душа всегда будет тянуться, – улыбнулся Федор, который и сам всегда тянулся домой, стоило ему хоть за двор выйти и к воротам спиною встать. – Но смотри, чтоб за своим, чужого не попирать: вишь, не болеет в Смирновке Ульянушка-то. А на берегу Никишином низина. Стылая она, после Ильи родники как откроются, так ночи внезапно станутся холодные да сырые. Вот и болеют, кто с бугра смирновновского переселился. Мы-то, местные привыкшие, кто там родился, а пришлые болеют.
– Но… Ты же сам говорил, что причина духовная, – удивился Прохор отцовой приземленности.
Но тот только улыбнулся в ответ:
– А какая ж еще? Конечно, духовная. Всякая дорога имеет начало в духовном, но ходится она телесными ногами. Так и человек всяк имеет грехи, а от них и болезни, и искушения, которых могло и не быть, а они есть. И не токмо духовные, но и телесные.
Прохор вздохнул, помышляя о своих когдатошних преткновениях и искушеениях, которые и впрямь привели к телесным и житейским нуждам. И от ясного осознания связанности духовного с житейским, Прошке захотелось вернуться назад, домой и прожить последний год сызнова, но уже с пониманием воли Божией.
– Домой охота теперь, – вздохнул он снова. – Тянется душа.
– А своего дома душа не желает ли? – спросил Федор, деловито вытягивая шею и со вниманием глядя по сторонам в незнакомом переулке – не зацепить бы чего телегой.
– Хотел я когда-то, аж прям горела душа, – вспомнил Прошка свои мыканья по самостоятельной жизни. – Да теперь уж успокоилась, и так ей хорошо. Умирилась.
Федор вывернул резко вправо, и открылся короткий тупиковый проезд, в конце которого высился величественный дом. Тот самый, который всем домам дом.
Федор подкатил к его воротам, тыркнул на кобылу и тяжко спрыгнул на землю.
– Слази! – распорядился он и по-хозяйски растворил воротину в половину. – Вы мне в Смирновке нужны, мы на берегу и без вас коров подоим. А вот на рынке у нас никого нет своего, все продаем лихоимцам, да с потерями. А станете жить здесь да вести торговлю от нашей усадьбы. Вот и будет вам с руки, и нам в пользу.
Вошли в дом. Изразцовая печь, высокие потолки, да кругом резьба. Все дельно, прочно, по-русски широко и просто.
– А как изба эта у тебя? – только и нашелся что спросить аж до бледности удивленный той избою Прохор.
– Дык… Выкупил мал-помалу. Зимою. Народ скотину по морозам продавал, да долги отдавал, а я в дом вкладывал, – ответил Федор, расхаживающий по избе с видом довольного хозяина. – Как только за Крыжниковым поспел, сам не знаю. Долго-то стояла избенка без покупателя. А что? Неужто не нравится?
– Да как же не нравится, батюшка? Да куда мне… – дрогнувшим голосом начал было Прохор, не смея принимать такого подарка, но Федор ребром поднял ладонь. А когда Федор твердо поднимал ладонь, то спорить с ним было глупо и бесполезно.
– Думаешь, я не знал, где и какой дом ты по осени подыскивал? – Федор приобнял сына за плечи и улыбнулся с той доброй дружеской хитрецой, от которой блестят глаза и жди от которой неожиданностей. – Знал я, все мне донесли люди-то. Вот и выкупил для тебя. Не отдавал только, пока не напьешься горечи, и пока мира в душу не обретешь. Потому, как нельзя горькое со сладким смешивать, и нельзя унывшему дать поощрения. Так и Господь с нами поступает, у Него я и научился по своему наблюдению. Всякое уныние от гордости происходит, но Господь не дает ему избытия, пока мы не смиримся. А как смиримся, так и подает просимое.
Как по старому, так и рассердился бы Прошка за такое незримое вождение со стороны отца несчастного своего сына по невзгодам и неурядкам. Но теперь, с пониманием, какое хотя б частью смогло в уме и сердце прижиться, он только благодарил отца за урок, за милость и отечнюю любовь.
А к вечеру и батюшка-настоятель явился с супругой на новоселье. Пирогов нанесли, да ватрушек, и даже любимый Пашуткой леденец раздобыли из уезда.
– Ну вот, – будто засветилась лицом теща. – Простил ли ты отца что-ли?
– Простил, матушка, – разрумянился от стыда Прохор и глубоко, как и бывает в тягостном духе, вздохнул. – Дурень я был, что такое надумал себе.
Теща только обняла его по-матерински, и прижала укутанную платком голову к его груди, ибо до лица ей Прошкиного, при его-то росте, точно было никак не дотянуться. – Вот теперь ты и мне сынок родненький.
***
К ночи Прохор с Ульяной прогрели печь и зажгли лучину, поужинали хлебом, да уложили Пашутку на сундуке, ибо на лежанке по молодой осени спать жарковато.
– Смотри ка чего, Прошенька, – позвала Ульянка Прохора, когда по жаркости топки раскрыла окно. То, что на садовой стороне дома. – Как ты хотел! А ведь и никто того не знал, акромя Господа…
Прохор подошел.
За окном, прогибаясь под тяжелыми гроздьями, высился раскидистый взрослый куст калины, настолько усыпанный ягодой, что даже в синих сумерках казался горою раскаленного докрасна железа.
– Надо же… А ведь и впрямь не знал никто! Господи! – воскликнул Прохор с удивлением. – Даже калина есть у Тебя… Вот она и Божья воля!
– Да… Бегали мы за ней, бегали, а она все от нас, да от нас, – Ульяна приложила головку к Прошкиному плечу, приобняла за руку и задумалась. – А как умирились мы, так сама нас и догнала.
Так стояли долго они, глядя на ту калину, на сад, на речку, на закатную полосу света под черным небом, щедро усыпанным звездами. На “все это”, которое и есть воля Божия, какая завсегда к человеческому сердцу по-отечески склоняется и всякое подает, лишь бы было оно без греха.
Наконец, не сговариваясь, возжегли лампадку, и Прохор зачал привычным гласом любимый свой Покаянный канон:
– Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше…
И Ульянка распевно отозвалась своим серебрянным голоском, похожим на звон колокольчика, пробуждающего эхо в пустом доме, а от того звучавшего по-церковному чисто и торжественно:
– Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
И так молились они, пока и не вспыхнула на звездном небе другая полоса света, но уже с востока. Ибо вскоре начался новый день, как и всегда оно вилось по кругу, и так виться будет, покуда есть на то воля Божия, и покуда сливается с нею воля человеческая, как и должно быть при взаимном объятии Творца и Его творения.
Да будет так.



