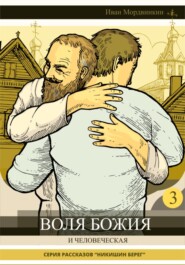 Полная версия
Полная версияВоля Божия и человеческая

Иван Мордвинкин
Воля Божия и человеческая
Прижился Прошка Никифоров, сын Федоров, в молодую свою семью болезнью – расхворалась юная его супружница Ульяна. Да так неясно в ней засела болезнь, что и причины к тому не разобрать. То, бывало, исполнится она радости и цветущей телесной бодрости, да щедро расточает ее на безотказную помощь каждому в свёкровом доме. А то схворится, распростудится посреди лета, да так и сляжет. А еще и разгорячится до того, что хоть щи на ней вари, да гляди, чтоб не пригорело с жару.
По первому разу Прохор так и бодрил Ульянку потешками: жаль, мол, что летом тебя жарит, зимою-то было бы сподручней – глядишь, и согрелась бы без дров, и избу натопила.
Но во второе лето уж и шутки не шли к уму.
И столько отстоял Прошка молебнов в церкви, где числился штатным псаломщиком и почтительно звался Прохором Федоровичем, что и совестно становилось ему от батюшки-настоятеля, который те молебны служил. Не слышит Господь, стало быть, по грехам-то.
Несчастье это приноровилось к Ульяне с самого первого года ее супружества – как лето, так простудица и лихорадица. Особенно после Ильина дня, когда и жары уж летней нету, а больше устоится теплая морось, погоды мягкие и дремотные, с робкими дождецами, а ночи глухие и тихие, ибо в эту пору и всякая птица лениво смолкает от пресыщения, да жирует перед грядущим осенним перелетом. И все в природе так здоровьем нальется к к концу лета, что даже туча дерзает против ветра ходить, и комар крови не вкушает по сытости. А вот молодая Ульяна, напротив, входит в горячку, да так потом до первых морозов и недужится.
К третьему лету, когда уж их первенец Пашутка дорос до второго своего годка, особенно занемоглось Ульяне. Да так, что стали знакомцы с соседями припоминать и Прохорову бабку Арину, которая померла в молодых летах. И даже место на берегу Круглого озера, где жил с родителями Прохор, и которое звалось в народе Никишиным берегом, почли иные проклятым местом. Ибо и сам Никифор, от которого то прозвание пошло, окончил свое земное житие раньше старости.
Бабки же смирновские полагали выкупать Ульяну в ржаной соломе, чтоб рожь забрала хворобу в землю, но сделать то непременно во второй Спасов день, а то, де, до Покрова Ульяна не выхворит и зимы не одолеет.
Однако ж болтовню пресекал Федор, зорко бдящий на страже сыновьего благополучия, как житейского, так и духовного. Сыновьего, а стало быть и невесткиного:
– Чего удумать, во ржи полоскать девку! – народных целений он не принимал никогда, а все ему виделось делом Божьим, за что смирновские звали его Федя Слава Богу. Вот и на сей раз, помышляя об сих болезнях, он склонялся скорей к духовной причине.
– Раз болеет, то есть к тому Божье Промышленье. А наше дело простое – терпением терпи, покаянием кайся и молитвою молись. Так и справится дело-то.
Советчики тут же пускались в витиеватые размышления о воле Божией, чем сами себя конфузили, ибо для речей таких не набиралось у них ни слов особенных, ни разумения. А потому смещались их мысли в сторону премудрых и прозорливых Божьих людей, и советчики направляли идти к старцу, который духом разглядит причину болезни.
Прохор же молодой все вздыхал и нурился уныло, казнясь и разрываясь меж двух вин. Одной виной он вменял себе слабосилие, ибо обязывался когда-то невесту на руках носить. И, благослови отец, пешком бы отнес ее хоть до Печор, хоть до Соловков, а то хоть до святого Иннокентия, ибо дал Бог ему воистину бычью силушку. Но телесной его мощи не требовалось, а житейской силы, то есть понимания как жизнь свою править, в нем и не имелось по молодости лет.
Другую же вину он видел в том, что благословения старца к венчанию они с женою не имели, ибо сочетались по воле отцов, заключивших что-то вроде договора еще по рождению детей. При том, глядя на свою дружбу, а не на волю Божию.
– Разве же так делают Божье дело? – вздохнул как-то Прохор отцу. – Воли Божией не знаем, выбираем по своему разумению. А потом… Вона как сказывается своеволие.
Федор, не смотря на известную в Смирновке светлоголовость в духовных сплетеньях, был, однако ж, тугодумен и в мыслях медлителен. А потому частенько скорого ответа не сыскивал, отмалчивался и пытливо тужился умом. Вскоре, впрочем, ответ голову осенял, да всякий раз с опозданием, а то и не к месту вовсе.
Потому и на сей раз не нашелся Федор, что сказать и только потянулся было обнять сына, как он делал всегда, во всякой болезной надобности. Объятия виделись ему взаимным сочетаванием, при котором от одного к другому переходит нечто из души, нечто цельбоносное, и покоящее, и умиряющее, и роднящее. Будто души отца и сына сливаются в единое.
Но на сей раз душою своею Федор успокоить сына не смог, ибо тот отпрянул, отвернулся с норовистой резкость, схмурился, как обманутый на ярмарке торговец, встал из-за стола, отца не дожидаясь, и громко бухая сапогами по полу летника, вышел вон.
Такого с Прошкой не бывало ранее, чтоб показывал он спесь, ибо отца он любил, а через него, и никак иначе, он любил и весь мир, и других людей. И Бога.
Отдельным же пламенем любил он свою жену, свою Улечку милую, достойную зельной похвалы за ее теплосердие и незлобие и за неугомонное трудолюбие и терпеливость во всяком лихе. И особенно любил он голосок ее серебристый, который непрестанно звенел в памятной части его сердца, подобно переливному журчанью тонкого ручейка в святом источнике у Николаевской часовни за озером.
А потому не мог Прошка видеть ее страданий, кои вменял себе в вину. И, что уж скрывать тайны, и отца винил, что не удосужился тот сходить к старцу, выведать волю Божию, чтоб не быть злому делу и своеволию, от которого все в жизни сунется в прорву неурядиц и беспросветности. От того и не удержал он духу, осудил отца, и пошла душа ропотно сердиться да спесить выбрыком, как необъезженный жеребец, у которого все палки и кнуты еще впереди, да ему, дурню, то невдомек.
Вскоре, однако ж, успокоился он, как мог, но души их с отцом боле не касались друг дружки, и в их глазах не теплился свет семейного единения.
А по осеннему новолетию и вовсе ушел Прохор в тестев дом, который стоял в церковном дворе, ибо тесть его был тем самым батюшкой, который служил по Ульяне заздравные молебны.
Здесь Ульяна вскоре пришла в себя, ночные лихорадки мало-помалу оставили ее, и жизнь, казалось, выровнялась.
Отца же своего Прохор не бросил одиночничать в хозяйстве и каждое “красно солнце” ходил меж Смирновкой и Никишиным берегом – по утренней зорьке к отцу, а по вечерней домой, в тестев дом, в примаки.
И от сих-то началась мрачная пора тягот и воздыханий, ибо отец с тяжбой переносил такое положение, которое не сразу смог принять, и за которое не сразу смог восславить Бога.
Мучился и Прохор. Терзало его душу собственное решение дела, явно навеянное не правдой и любовью, а обидой и исканием виноватых во ближних. Но возвращаться теперь было б не с руки, да и перед людьми соромно выставляться посмешищем.
В ту пору наглотался он горечи жития в чужом доме, ибо, как говорят, примак и кота тещиного на “Вы” называет. И Прохор от сей обыкновенности не исключился, ибо матери Ульяниной он увиделся чем-то вроде прислужника, которого и пожалеть не зачем: чужой – он и есть чужой. А потому, стоило ему нахмуриться в ответ на поругание – тут же она его относила к людям гордым и надменным, случалось ли присесть среди дня – вот он уже и бездельник, втуне поедающий свой хлеб. А за стол с нею вообще хоть не садись – все в рот заглядывает, не съел бы лишнего приживалец. И так во всяком деле наворчит зла и обиды, что всякий, невольно поддерживающий ее, взглянет на Прохора, как на чужака, случайно и злосчастно в иерейский дом попавшего и зря живущего на свете Божьем. Как пустое и ненужное, а то и вредоносное, вроде коросты на пятках.
Посему, крепясь и уверяя сам себя, решил Прохор пробивать твердую стену бытия до конца, и, раз уж от отца оторвался, обзаводиться собственным домом. Так обрел он новое стремленье, которое казалось замечательным бегством от всех напастей.
– Слава Богу за все, – наконец заключил он, как бы ободряя Ульянку, которой и без того все приходилось к сердцу. А потому, стало быть, сказал это он сам себе для утвержденья веры, которая всколыхнулась и заколебалась под натиском житейских передряг. – Слава Богу! Как ни есть, а все слава Богу. Пусть и вкривь. И криво сложенная жизнь проживается до старости, куда ей деваться? Пусть и в несчастии. Так и проживем без… Как есть… Без благословения…
Сия мысль, однако ж, уткнула ум его в неодолимую стену, нагустив в душе самоосуждения. Себя видел Прохор источником Ульяниных несчастий. И тех, что есть сейчас, и неизбежных грядущих.
– Ничего, – звенел Ульянкин голосок в ответ. – Хочешь дом свой – и дом есть у Господа-Бога, все в свое время подаст. Ты не унывай, Прошенька, не печалуйся. И батюшку своего прости, он знает, что делает. Нет твоей вины, что уж? Доверься Богу.
Прохор осекся, замолчал и погрузился в свои навязчивые и неотступные размышленья, будто и не сказала она ничегошеньки.
Самому сходить к старцу, так уже дело сделано, повенчались-поженились, даже и первенец у них родился.
А ведь, выходит, что первенец тот зачался тоже без благословения, если венчание было не благословенным от Бога?
И выходит, придется Пашутке мыкаться и терпеть во всю его жизнь, потому как все, что не по воле Божией зачинается, все идет кривдою, все не прочно и все тлетворно покрывается невезеньями и нездоровьями.
Прохор взглянул на спящего малыша, такого необъятно любимого, что пришлось отвернуться от Ульяны, дабы не увидала навернувшихся слез: вытерпеть своему малышу, своей кровинушке передряг во всю жизнь, пусть и мнимых по сей поре, Прохор не мог даже в уме.
Отмахиваясь от бремени раздумий, он снова проронил привычное с детства и перенятое от отца:
– Слава Богу за все, – но вышло опять без радости и мира, а горько, печально с предательским комом в горле и камнем в душе, явственно теснящим и телесное сердце. А стало быть, на словах сказанное в сердце том и не откликалось.
Прохору припомнился отец, который, хоть и не вдруг, но ко всему находил ответ и мудрое слово, и во всем так правдиво и умильно славил Бога, что и окружающим верилось невольно. Верилось, и душа от той веры утихала, умирялась и будто возжигалось сердце Божьей сокровенной теплотою.
Но то было давно, то было детство.
Прохор вздохнул с протяжкой и покачал головой. Все же, вернуться к отцу он не решался. И оставалось только найти свое место, свой дом. Да так, чтоб еще и волю Божию не нарушить, и чтобы благословил щедро Господь.
Однако ж, как ни велика Смирновка промеж окружных сел, а домов на продажу в ней водилось не много, да и те все перехватывал купец Крыжников, а после подмазок да подбелок продавал чуть не вдвое дороже.
Но у Прошки был свой прилад к делу: он не отставал от молитвы. Каждую молитовку, будь то утреннее или вечернее правило, либо молитва на вкушение пищи, либо “Царю Небесный” перед работой, либо молебен, либо Литургия – он мысленно и сердечно наполнял вопрошением ко Господу о доме.
И примечательно, что Господь откликался. Но все как-то не по-настоящему, будто забавляясь: то предложат дом настолько недорогой, что и Прошкиных скудных сбережений хватило бы. Но на деле открывалось, что домик на отшибе, да и не дом вовсе, а хижина на одно окно с лица, да с худой кровлей, жердяным немазанным потолком и без дворовых построек.
А то знатный домишко попался разок, да цены хозяева не сложили и так расспорились промеж собою, что и продавать передумали.
В другой раз и лучше того сыскался дом – большая изба в три окна, если не считать закрытых сеней, какие и сами на два окошка, да под железной крышей и с печью, выложенной изразцом. Двор по уму-разуму, сад взрослый и не с дикими плодами, а с сахарными, да все в ряд. А за ним и огород в сотню шагов к низинке, на которой свое косовище и река с мосточком для стирки или душевной рыбалки тихим вечерком.
– Э-эх, – вздохнул Прошка от безысходности – денег то у него не набиралось и на ворота в той усадьбе. – Туда б еще калины куст, как то в отцовском дворе, так был бы не дом, а всем домам дом.
Натужней и прилежней взялся Прошка за молитву, сам не зная, на что и надеяться, но уж больно крепко дом засел в сердце. И слышал, видно, Господь: дом тот продавался долго, будто Прохора ожидая.
А уж сколько незаметных “ответов” давал Господь на молитвы и надежды!
То расскажет кто про покупку дома, то картинку с домиком подарят, то во сне приснится, что нашелся дом.
А проснется Прошка – все там же, в бывшей батюшкиной “кабинете”, а по-русски сказать, кладовке для двух батюшкиных книжек, сундука со старьем и целым семейством беспокойных мышей. А сама та “кабинета” размером не больше отцовской печной лежанки. За окном же шумные гуси. Пред каждым утром, чуть засереет темень, взбудоражат они всех жильцов, ибо ором орут на кота, желающего прошмыгнуть в амбар по мышеловному делу. И так уж разгогочутся! И кота этого настырного не пустят.
Но упрямец вновь явится перед следующим рассветом, и все начнется сызнова. Будто издевается животина над Прохором. И виделось от того ему, будто сам он кот, пытающийся пройти своим путем, к своему дому, но не пускает нелегкая.
Но, все ж, и эти маленькие явленья, в которых так или эдак мелькал мимо Прошки дом, или самая мысль о доме, принимал он как Божьи знаки, только неясно, к чему прилагаемые. То ли молитва слаба, то ли мало хочет он того дома, а потому по недостаточной горячности его молитвы Господь не поспешает с подачей просимого, то ли еще чего. Знать бы волю Божию, то куда прямее дорога. А так…
К зиме дела и вовсе застыли. Теща, пеняя на хворое здравие, сидеть с Пашуткой отказывалась напрочь, ибо и он ей в сердце не вошел, потому как больно уж на Прохора походил. А потому, обремененная мальцом Ульяна уж не могла ходить на Никишин берег по утрам для дойки коров в Федоровом хозяйстве.
А ведь хозяйство то имело тучность, соразмеренную под все семейство, какое правили Федор с Варварой, и к которому и Прошка с Ульяной и Пашуткой причислялись, и двое старших братьев Прохоровых со своими семьями, и старшая сестра с мужем и детьми, и дядька Игнат с теткой Акулиной и сыновьями и Прошкиными братьями-друзьями, которые уж сами скоро прирастут женами, и тетка Дарья с двумя взрослыми, и те, каждый со своим выводком. И так во всей семье покойного деда Никифора набиралось тридцать две души.
И как оно так свивалось, неизвестно, но все в Федоровом хуторке одно к другому прилагалось, всякий ко всякому ладился, а и грянет проруха, так друг за дружку вцепится родня и хоть войной на них иди – не одолеешь. А все правится миром, каждый при своем деле для всеобщей пользы и на своем месте, как прутик в корзине, в которой все плети прилажены по разумению и ни какая не лишняя, а вся корзина через то крепка и любую тяжесть удержит.
И теперь все они оставалась без молока и сыра, а шесть их коров – без дойки. Потому пришлось Прохору всю зиму усугублять труд. Иной раз он таскал за собою сани с Пашуткой, чтоб передать его на день своей матери, охочей до внуков сердоболице. Но больше он норовил, помимо своего дела, если пораньше встать да попозже лечь, делать и Ульянино – доить всю шестерню коров, а она чтоб подольше выспалась, да поменьше на морозе зябла. Да разве ж ее заставишь сидеть в избе? Не оторвется она от Прохора.
Таково дожив до весны, а по ней и до лета, измаялся Прохор аж до упадка душевного. И от твердости, какую душе поначалу сообщает озлобленье, доковылял и до уныния, имеющего иной вкус, хоть и от того же корня исходящий.
Последним ударом для него сталась продажа того самого дома, который всем домам дом. И в чем горчинка в горечи обиды – не Крыжников перехватил, дорого для перепродажника, а простые смирновцы выкупили неспешно, чем лишили Прохора земли под ногами, ибо он надеялся и, как казалось, верил до последнего. А увы…
Воля Божия, которая, вроде бы склонялась к нему, вновь от него отвернулась, а как случился сей удар, что ушел от него дом навсегда, так и рассыпались надежды его и прахом распались всякие утверждения веры.
Прохор сломался и опустил руки, забредя в неодолимый тупик, из которого никак не выбраться. Кабы был бабой, так разрыдался бы в голос, чтоб аж птицы свитою поднялись над Смирновкой. А так… Всплакнул тайно в амбаре в обнимку с котом, который, хотя и понимания ни к чему не имел, а единый был на свете, кто Прохора нее судил и не поучал несбыточному.
И что делать дале? Куда ведет Господь свою святую волю? В чужом доме не прижился Прохор, во всем плох да нежеланен. Уж и Ульянка, как виделось оно от обиды, остыла к нему и больше верила своей родне, чем своему сердцу, что такой он, да эдакий.
А в отцовский дом пойти – так не зовет отец.
– Ну что ты? Так-то печалиться… – успокаивал его Федор, когда Прошка, истощившись одинокими мыканиями, наконец раскрыл перед ним все свои духовные искания и терзающие душу опасения.
Сидели они в тот раз на бревне в поле у ночного костра рядом с шалашом, в котором Федор при таком-то большом семействе жил безвылазно аж до самой уборки ржи в конце лета. – Познал ли ты волю Божию?
– Нет, батюшка, – вздохнул Прошка, поднялся и для виду подбросил в костерок дровец. А на самом–то деле просто, чтобы найти повод отвернуться и скрыть лицо, искаженное неунимаемым сердечным страданьем. – Воля Божия то там, то здесь. Без старца и шагу не ступнуть.
– Как же жить-то нам? – спросил Федор, не ожидая ответа, и, наконец, впервые за столько месяцев обнял сына, который тому уж не противился. – Неужто воля Божия вроде тайного свитка? Взять бы его, да прочитать заранее, кто грамоте обучен. То-то жизнь была бы. А?
Прошка взглянул на отца – шутит ли? Но в ночном полумраке с его черными тенями, да при чрезмерной яркости пламени костра тонкостей в отцовских глазах он не разглядел, а потому промолчал.
– А другое рассудить – ведь любит нас Господь боле, чем мы любим даже и детей своих. Так ли оно? – спросил Федор и, крякнув, прочистил горло, как и всегда, когда готовился сказать что-нибудь важное. Ведь надо же! Волновался всякий раз, когда о Боге говорил.
– Так, батюшка, – ответил Прошка, что только и мог ответить. – Кабы не любил людей, то и не сотворил бы их.
– Вот я и думаю. Почто ж Он тогда спрятал свиток этот тайный и только святым старцам его открывает-то? – Федор явно шутил, хотя шутки в его голосе не слышалось. – Тогда это не справедливо, спрашивать-то с нас. Мы ж рабы Божьи, мы все должны по воле Божьей делать. А волю Свою Он от нас скрывает. Эдак выходит уж совсем… А?
– Не знаю, батюшка, – Прохору вдруг захотелось обратиться маленьким мальчиком, который сидит тихо со своим добрым батянькой у ночного костра, ждет, пока испечется карась, и ни за что не отвечает, ни о чем не мается, ни чем не раздирается, а с благодарностью принимает все, как должное, и во всем послушен, и тем счастлив и достаточен вполне. – Знать нету свитка такого…
– А вот и есть, родненький! – ответил Федор неожиданно, да еще и голосом тихим, будто Великую тайну сообщил. – Есть свиток-то с волей Божией!
Прохор на всякий случай взглянул на отца. На сей раз глаза разглядел, те блестели тайной и искоркой потехи, какая бывает у всякого, кто уже заготовил нежданный ответ к загадке и только мешкает нарочито, ожидая вопроса, в котором нет нужды.
И Прошка вопросил:
– И где же он?
– Вот он… – ответил Федор с облегчением победителя и развел указующими руками так широко, что вобрал в свое указанье и костер, и шалаш, и убранное пшеничное поле, и черные силуэты соломенных копен на нем, и жерди тройников для сушки сена, которые едва виднелись на фоне бледной закатной полосы на западе. Попала в его охват и светлая та полоса вечерней зари, и давно уснувшее за горизонтом солнце, и алеющая сирень от его света, мягко густеющая и темнящаяся к верху от горизонта и растворяющаяся в черноте ночного неба, щедро усыпанного звездами, данными людям для ночного света Великим Богом.
– Все это, – сказал Федор, будто зачарованный собственными словами, а от того кроткий и восхищенный. – Все, что вокруг. А что не Его воля, то попущено, и выходит – тоже Его воля-то. А что истинно не в Его воле – того и нету.
Прохор не ответил. Он лишь невольно прислушался к стрекотному пению сверчков, за которым, если вникнуть умом, слышались и лягушки с дальней копанки. И та лягушка тоже воля Божия? И одинокая груша на дороге за копанкой, с которой и ныне жутковато поплакивает сыч? И дорога, идущая через быстротечную Сваруху к Кривянской слободе, и сама Кривянка, а там и уезд? И все, что за ним – что бы там ни было? Там Прошка не бывал ни разу, от того далекое “там” казалось ему непостижимо величественным. Вся Земля?
– Как же? Все это… – наконец дошло до него. – А как тогда..? А где же моя воля? Если сделаю по-своему, то худо выйдет. А Божьего не знаю. Как тут понять?
Федор вздохнул блаженно, оторвался от созерцания ночного неба и глянул на Прошку. Но из-за темени в Прошкиных глазницах не узрел по взгляду его чувств и улыбнулся, собрав в уголках глаз морщинки, при таком освещении казавшиеся бездонно глубокими.
– Дал нам Господь свободную волю. А, чтоб было, куда ее подевать, дал на выбор многие дела. И все они – по Его воле, а какие против воли, те и не дал. Бери любое, какое увидишь.
– Но в чем же Его воля тогда? – не унимался Прохор, вспоминая и болезни своей жены, и горькое житие в примаках, и некупленный дом, который всем домам дом. – Как узнать?
– Только одна Его воля есть. Одна! Делай любое дело на выбор, но сей воли не нарушай, – Федор поднялся с бревна, шевельнул карася, пристроенного к гладкому камню на краю кострища. Карась подпекся вполне, и Федор, ловко орудуя ивовым прутком, развернул рыбину другим боком. Аппетитный запах духнул вкруг освещенной поляны, чем пробудил дремавшего молодого пса, всегда готового к еде.
– И что это за воля? – Прохор и сам приподнялся за ним, стараясь не пропустить ни слова, ни мысли, ни звука. Уж так его эта боль измучила.
– А главная воля Его, – наконец ответил Федор и снова уселся на бревно. – Чтоб не быть греху. Всякое дело тебе можно, но чтоб без греха.
– Как же это? И как понять, что за то дело взялся?
– А вот как: возьмешься торговать, к примеру сказать, и будешь деньгам и выгодам вроде раба. И пошлет Господь многие искушения, потери в деньгах, а то и бедность. Опечалишься и будешь всем говорить, что Бог воли не дал. А не опечалишься, смиришься с потерями, то через терпение и покаяние научится душа смирению, а через него и свободности от того денежного рабства. Вот и благословит Господь твою торговлю. Потому и раб Божий, что не раб страстям. А коли страстям раб, так чего от Бога хочешь? Вот так во всяком деле. Хошь – делай, терпи и кайся, выйдет грех, войдет Бог. А хошь, сразу смотри, где Божье.
– А как же… – Прошка решился было высказать наболевшее, но запнулся, взглянул на отца и осмелился все же: – Ульянка… Была ли воля Божия нам с нею сочетаться, или это мы по своей воле? Очень уж не желаю я ей всякого несчастия.
Федор усмехнулся и скосился на сына со снисхожденьем.
– Видно, не понял ты, – он повернулся так, чтоб хорошо видеть сыновьи глаза, и чтоб его глаза были видней, ибо эдак и мысли лучше от ума к уму ходят. – Раз была Ульяна в твоей жизни, то дал Бог тебе и такой выбор.
– Стало быть, по воле Божией? – на всякий случай уточнил Прохор.
– Стало быть, по воле Божией, – медленно кивнул Федор и утвердил на всякий случай доводом: – Как бы ты был женат на ней, если б Господь воспротивился?
Прошка задумался. Конечно, он всегда только Ульяну и видел в своих воображеньях о женитьбе, ибо с детства его обозначили в женихи. Но мог и не жениться на ней, насильно не сватали. А выходит, что женился он по своей воле, хотя и по родительским волям, и по самой судьбе все к тому клонилось. Как-то уж совпало все, собралось воедино, как ручьи по весне – поди разбери, где чья вода в реке, от какого ручья слилась. А все едино – течет и не разливается в разности. Стало быть, и с волей Божьей и человеческой то же выходит.
– Но, ведь… Если могу любое делать, что вижу вокруг, то и злое могу, и это будет грех, – Прошка даже испугался от понимания, что каждое его дело – не Божья воля, а его собственная.
– Можешь сделать и злое, – ответил Федор печально, будто нехотя, и добавил со вздохом: – И сделаешь злое не раз еще, не думай о себе мечтаний. А воля Божия в том, что Он по любви хочет тебе свободности. Чтобы добро, если его выберешь, сталось и вправду добром от любви, ибо по свободности изъявлено.

