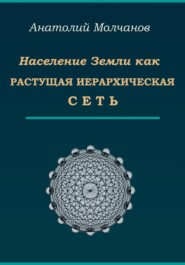 Полная версия
Полная версияНаселение Земли как растущая иерархическая сеть
В том, что Марков посредственный популяризатор науки можно убедиться, почитав, например, книгу «Эволюция человека. Обезьяны, кости и гены». В этой книге, как и в других его книгах по эволюции, если не считать, что объяснение любых эволюционных изменений дается лишь на основе неодарвинизма, конечно, все правильно. Единственный, но совершенно недопустимый для книг подобного рода недостаток заключается в том, что читать это научно-популярное чтиво бесконечно скучно (а еще хотел стать писателем!).
Если сравнить широко разрекламированный двухтомник Маркова «Эволюция человека. Обезьяны, кости и гены» с близкой по тематике книгой израильского историка Юваль Харари «SAPIENS. Краткая история человечества» – будет ясно о чем идет речь. Оставляя в стороне вопрос о полной научной достоверности книги Харари, читается она на одном дыхании: автор не только прекрасный популяризатор науки, но и очень талантливый писатель.
Она безусловно может быть поставлена в один ряд с похожим по названию бестселлером Стивена Хокинга. Чего никак нельзя сказать о книге Маркова: местами она скучна, местами излишне наукообразна, автор как популяризатор науки явно не имеет своего лица. Вот некоторые выдержки из отзывов читателей (http://otzovik.com):
«Иногда скучновато, иногда слишком наукоёмко: надо обращаться к энциклопедиям, чтобы понять текст…»
«При всем моем уважении к Маркову как к популяризатору, ему отчаянно не хватает какого-то своего голоса, своей изюминки…»
При этом не нужно забывать, что Марков – ортодоксальный дарвинист и описывает эволюцию человека на основе теории Дарвина. То есть как эволюцию на основе естественного отбора, что как минимум не полезно, а на самом деле чрезвычайно вредно для любого студента, начинающего ученого[261], который будет жить и работать в XXI веке, когда с этой догматической теорией будет полностью покончено.
Что же касается его совместного с Коротаевым «труда»: «Гиперболический рост в живой природе и обществе» – то это «шедевр» еще тот. Вторая часть книги, написанная Марковым, хотя, как отмечено в предисловии и адресована широкому кругу читателей, – совершенно нечитабельна, т. к. перенасыщена графиками, таблицами и неадекватной «коротаевской» математикой.
Иначе говоря, Марков осуществил публикацию своей занудной, бездарной, ни в коей мере не являющейся научно-популярной и адресованной широкому кругу читателей работы, за счет ничего не подозревающего покупателя его с Коротаевым книги.
Раздел Библиография на 15 страницах, оплачиваемых покупателем книги (!), содержит список трехсот (!) работ. При этом Марков, никак не утруждая себя каузальным анализом найденной закономерности, полагает по умолчанию, что рост таксонов представлял собой автокаталитический процесс.
И описывает этот рост той же системой уравнений (!), которой Коротаев описывает рост населения Земли, и даже вводит понятие «Биологической Мир-Системы»! И совершенно бездоказательно утверждает, что гиперболический рост таксономического разнообразия сухопутной биоты происходил по причине положительной обратной связи второго порядка между общей численностью таксонов и ее приростом, неизменной в течение сотен миллионов (!) лет. (Те же аргументы, с помощью которых мы доказали, что нелинейные положительные обратные связи не могут быть причиной гиперболического роста популяций (см. главу «Законы роста численности изолированных популяций»), могут быть применены и в данном случае.)
Полностью оценили эту книгу те, кто имел несчастье ее приобрести (в том числе и автор этих строк). Зачем было пущено в тираж это «произведение» (претендующее на научность!) авторов, не обладающих никакой математической культурой, талантом исследователя, научной интуицией?
Вопрос риторический: Марков и Коротаев могут напечатать все! И, разумеется, прежде всего свои собственные «труды». Такие, как «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий» – очередная и, безусловно, не последняя в бесконечном ряду подобных ей книг, прославляющих дарвиновскую теорию эволюции.
Хотите почитать книгу Майкла Дентона «Эволюция: Теория в состоянии кризиса», книгу Майкла Бихи «Черный ящик Дарвина», книгу Уильяма Дембски «Выявление дизайна» – не получится: они даже не переведены на русский язык.
А вот книгу Маркова и Неймарк «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий» и многие другие, подобные ей, тех же или других авторов, те, что напечатаны и те, что еще будут напечатаны, пропагандирующие дарвиновскую теорию эволюции, – пожалуйста.
Это похоже на изнасилование: в отсутствии альтернативной точки зрения Марков и подобные ему представители клана дарвинистов вбивают в головы школьников, студентов и начинающих ученых[261] идею эволюции на основе естественного отбора, которая в XXI веке представляется полным анахронизмом[262].
В той же программе «У Корзуна», где Марков объяснил причины, по которым не посвятил себя писательской карьере, он заявил, что его мнение в вопросе о том, что печатать, а что нет – зачастую имеет решающее значение.
Иначе говоря, неудавшийся писатель, ничем не примечательный ученый и посредственный популяризатор науки Марков сам решает, что научно, а что нет, сам определяет несомненную научную ценность своих «произведений», сам с помощью Коротаева пускает их в тираж, сам называет их лучшими книгами года…
В статье «Антидарвинизм как симптом интеллектуальной деградации» Марков пытается всячески очернить имя Ю.В. Чайковского, называя его «маргиналом от науки»:
«…Многих присутствующих неприятно поразили выступления ведущего научного сотрудника Института истории естествознания и техники РАН Ю.В. Чайковского, автора «альтернативной» эволюционной теории…»
Эта статья была необходима Маркову для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою безграничную преданность дарвинистскому большинству, тем самым показав, что имя настоящего ученого и популяризатора науки он носит не зря и, как следствие, обеспечить себе доступ к «кормушке» еще большего размера.
Кроме того, эта злобная статья Маркова представляет, по сути, призыв (точнее требование) к единомыслию, а значит к застою и гниению в науке и атаку на инакомыслящих, тогда как науку во все времена, как это показывают многочисленные исторические примеры, зачастую двигали именно дилетанты и «маргиналы от науки», которых сжигали, ломали им жизнь, подвергали остракизму, отстраняли от работы…
«Если одномоментно рассматривается только одна теория, мы, вероятно, попадаем в интеллектуальную ловушку, созданную этой теорией. Единственный способ выбраться из нее – иметь различные теории, которые соревнуются в объяснении одних и тех же данных. Фейерабенд доказывал, что даже в тех случаях, когда имеется широко признанная теория, которая согласуется со всеми фактами, все равно необходимо придумывать конкурирующие теории, чтобы обеспечить прогресс науки… Следовательно, настаивал Фейерабенд, ученые никогда не должны быть согласны, хотя и стремиться к консенсусу…
Так что вопрос в следующем: хотим ли мы, чтобы ученые пришли к согласию, поскольку каждый из них хочет выглядеть как нечто блестящее в глазах других ученых, или поскольку каждый из них стремится разделить мнение большинства, или поскольку каждый из них хочет быть в победившей команде? Большинство людей склоняются к согласию с другими людьми именно по таким мотивам. Нет причин, по которым ученые имели бы иммунитет против этого, оставаясь, как-никак, людьми.
Однако мы должны бороться с такими побуждениями, если хотим поддерживать жизнеспособность науки. Мы должны поощрять противоположности, которые приводят к несогласию настолько, насколько позволяют факты. Понимая, насколько люди нуждаются в том, чтобы выглядеть как часть, чтобы войти в часть, чтобы быть частью победившей команды, мы должны прояснить, что когда мы уступаем таким потребностям, – мы губим науку.
Имеется и другая причина, по которой здоровье научного сообщества должно поощрять несогласие. Наука движется вперед, когда мы пытаемся согласиться с чем-то неожиданным. Если мы думаем, что знаем ответ, то будем пытаться встроить каждый новый результат в заранее представленную схему. Это расходится с тем, что поддерживает жизнеспособность науки, тормозит ее движение.
В атмосфере, наполненной спорами между соперничающими взглядами, социологических сил недостаточно, чтобы привести людей к согласию. Так что в тех редких случаях, когда мы приходим к консенсусу по какому-либо поводу, это происходит потому, что у нас нет выбора. Факты заставляют нас сделать это, даже если они нам не нравятся. Именно поэтому прогресс науки реален» [35].
Можно понять академиков РАН, которые построили всю свою научную карьеру на теории Дарвина, не видящих и не желающих видеть никаких альтернатив. Можно понять и молчание рядовых ученых, зарплаты и премии которых, а значит и благополучие их семей, могут напрямую зависеть от публично высказанной точки зрения.
Но нельзя ни понять, ни простить «популяризаторской» деятельности Маркова, который позиционирует себя чуть ли не главным популяризатором науки в стране и который зарабатывает себе на жизнь продвижением давно изжившей себя эволюционной теории.
Марков любит давать интервью и выступать на камеру, вероятно, после долгих тренировок перед зеркалом, при этом безапелляционным тоном изрекает всегда непреложные истины. При полном отсутствии чувства юмора (а еще хотел стать писателем!), что хорошо видно по его многочисленным выступлениям, и непомерной спеси – такой кандидат никак не подходит на роль популяризатора науки.
Двойной обман С.В. Циреля
Служил я верно господину, горбатил в меру скромных сил…
Цигель А.Л. Поэма «Холуй»Если А.В. Коротаев «всего лишь» осуществляет подмену понятий закон – тренд, то С.В. Цирель в своей тяжелой для восприятия, наукообразной статье, написанной для сборника, посвященного универсальной и глобальной истории, с неправильным названием: «Скорость эволюции: пульсирующая, замедляющаяся, ускоряющаяся», идет на прямой обман. Точность, полученная Фёрстером для своих констант, для него, как и для Коротаева, как кость в горле (авторская орфография сохранена):
«Дальнейшие исследования (Kremer 1993; Коротаев 2006; Цирель 2008) показали, что сама пропорциональность выполняется не столь жестко, что показатель степени в знаменателе не обязательно равен единице и не обязательно неизменен в течение всей истории человечества, поэтому предопределенность, заданная уравнением (1), существенно преувеличена.
Более того, учитывая падение точности данных и рост отклонений от гиперболы с удалением вглубь истории, уже в палеолитические времена трудно говорить о какой-либо предопределенности (Рис. 3). Но тем не менее оглушающий эффект уравнения (1) до сих пор действует на многих читателей (судя по обсуждениям на форумах Интернета) и вызывает различные толкования»[264].
Так как, по мнению Циреля, показатель степенной функции в формуле Фёрстера «необязательно равен единице и необязательно неизменен в течение всей истории человечества» и, кроме того, поскольку «рост отклонений от гиперболы с удалением вглубь истории растет» – то человечество, очевидно, никогда и не росло по закону гиперболы. Иначе говоря, гиперболы мирового демографического роста, гиперболы Фёрстера, описывающей рост численности населения Земли на протяжении последних двух тысячелетий, – попросту не существует.
В чем же истинная причина столь странного утверждения? В том, что модели Коротаева и Циреля, построенные на таких понятиях, как: гиперболический тренд, надэкспоненциальный рост, положительная обратная связь второго порядка, режим с обострением… – не в состоянии объяснить точность, с которой была определена гипербола мирового демографического роста. На самом же деле показатель степенной функции в знаменателе закона Фёрстера, вопреки утверждению Циреля, как мы это показали ранее, должен быть в точности равен единице.
Заметим, прежде всего, что из приведенной выдержки с полной очевидностью следует то, что свою статью по гиперболическому росту, а также «труды» Коротаева, Цирель ставит неизмеримо выше всех прочих по этой теме, и это тем более касается Интернет-исследований. Но откуда такая уверенность в собственной правоте? Ответ прост: все дело в иллюзии превосходства печатного слова над электронным. Ведь в глазах обывателя, да и не только (все мы в той или иной мере рабы стереотипов), если что-то напечатали – значит это и есть истина в последней инстанции.
Но в наше время, когда тоннами печатается всякая галиматья, все это выглядит как полный анахронизм. Что же касается настоящей науки, то, если в прежние времена любая научная или научно-популярная книга до своего поступления в печать должна была пройти целый ряд фильтров, то в наше время может быть напечатано все, что пожелает левая нога мало кому известного историка-востоковеда Коротаева[1][263].
* * *Попытка Циреля дискредитировать работу Фёрстера и его коллег сделана с единственной целью: ввести читателя в заблуждение и мы здесь это докажем.
Поскольку точность, полученная Фёрстером и его коллегами для своих постоянных, которую никто кроме Циреля никогда под сомнение не ставил, имеет для понимания явления гиперболического роста определяющее значение, попробуем представить, как немецкий инженер австрийского происхождения Хейнц фон Фёрстер (Фёрстер) сделал свое замечательное открытие.
Имея большой объем данных по численности населения Земли от Р.Х. до 1960 года, он подыскивал простую аналитическую зависимость, которая могла бы послужить неплохим приближением для имеющихся у него демографических данных.
Прежде всего, он, вероятно, предположил, что численность населения Земли, т. е. «популяции» Homo sapiens, как и всякой другой популяции, в благоприятных условиях росла экспоненциально. По этому простому закону, когда при удвоении численности удваивается и естественный прирост, растет все живое. Зависимость логарифма численности от времени должна быть в таком случае линейной.
Когда он нанес данные на координатную плоскость, его ожидал сюрприз: график аппроксимирующей зависимости не укладывался на прямую; рост логарифма численности от времени по непонятной причине оказался круче линейного, и гипотеза экспоненциального роста должна была быть отброшена.
Это довольно неожиданный результат, хотя, возможно, и не слишком, ведь если вдуматься, рост численности человечества, как системы высшей степени сложности, подверженной кризисам, войнам и эпидемиям, вряд ли должен подчиняться столь простому аналитическому закону. Если руководствоваться здравым смыслом, то вообще трудно себе представить, что этот закон может быть описан с помощью какой-то простой формулы. Априори представляется, что здесь должна быть справедлива гипотеза близкая к нулевой.
Известно, что рост этот происходил без спадов (возможно, за редкими исключениями) и скорость его тоже почти всегда росла – по крайней мере в среднем. Тогда зависимость численности от времени, очевидно, можно считать монотонной или «почти» монотонной функцией. Но какой-то простой формулы, описывающей эту зависимость, – не существует.
Такой рост можно представить как суммарный рост слабо связанных подсистем: этносов, стран или народов, т. е. считать его случайным процессом, и нет никакого смысла искать глобальный закон роста справедливый для общей численности населения планеты, действовавший на протяжении двадцати столетий.
Для каждого этапа такого, вообще говоря, случайного роста, для всех его взлетов и падений историки, социологи и демографы нашли бы, конечно, какое-нибудь естественное объяснение, и всякая математика была бы здесь бесполезна.
Возможно, так полагал и Фёрстер, потерпев неудачу с гипотезой экспоненциального роста. Каким должен был стать его следующий шаг, что мог бы предпринять любой другой исследователь, попавший в подобное положение? Можно было бы попытаться подобрать полином, хорошо аппроксимирующий демографические данные, но такой полином, достаточно высокой степени, всегда можно найти и в этом нет никакого достижения…
Можно попробовать в качестве кандидата степенную функцию: N = C(t0 – t)n, ведь проще нее, кажется, вообще ничего нет. Собственно, так он и поступил, совершенно не задумываясь о том, какие причины могли вызывать такой рост, подчиненный нелинейному степенному закону.
Важно понимать, что это предположение, расходящееся со здравым смыслом, представляется совершенно фантастическим, если не безумным. Результат точно должен был получиться отрицательным, т. е. точность для значений n и t0 должна была оказаться очень небольшой.
Но совершилось чудо: эта точность, с которой определились постоянные Фёрстера, совершенно неожиданно оказалась чрезвычайно высокой, можно даже сказать невозможно высокой, делающей гиперболу мирового демографического роста, по сути, предзаданной: N = C(t0– t)n ; C = 179 ± 14 млрд; t0= 2027 ± 5; n = -0.99 ± 0.009. Нужно заметить, что сам Фёрстер, хотя и шутил на эту тему, но так и не понял ни причины, ни значения открытого им аномального гиперболического роста.
* * *Согласно заявлению Циреля он и Коротаев, а до них еще и Кремер, показали, что «показатель степени в знаменателе формулы Фёрстера необязательно равен единице», что нужно понимать, очевидно, единственным образом: все они по очереди, не доверяя Фёрстеру, повторили его исследование и получили для n значительно меньшую точность.
Причем Цирель, очевидно, не счел возможным довериться не только вычислениям Фёрстера, но также результатам Кремера и Коротаева и пересчитал все заново! Но результаты, полученные американским инженером Фёрстером, никто и никогда под сомнение не ставил. (Немецкий физик Хорнер расширил время действия закона до неолита, подключив дополнительные данные, что несколько увеличило постоянную Фёрстера С и оставило практически без изменения n и t0. [1])
В таком случае утверждение Циреля о том, что показатель n необязательно равен минус единице можно интерпретировать как обвинение Фёрстера в фальсификации. Действительно, если Цирель повторил исследование Фёрстера и его коллег и получил значительно меньшую точность для n, то работа Фёрстера была, очевидно, всего лишь подгонкой.
Это легко понять, т. к. как в случае простого повторения, так и с привлечением новой информации, точность, полученную Фёрстером для своих постоянных, с учетом значительности объема демографических данных, которые он использовал, можно только увеличить, но никак нельзя уменьшить. (При том условии, конечно, что Фёрстер ничего не подгонял.)
* * *На самом деле Цирель, конечно же, не повторял работы Фёрстера и его коллег, а его утверждение о том, что он что-то такое якобы «показал» – всего лишь попытка ввести читателя в заблуждение. При вычислении n по методу наименьших квадратов могло быть получено любое действительное число, например, n = -0,78 или n = -1.16, но вышло, что n = -1 с точностью до одного процента, т. е. простейший целочисленный показатель.
И этот факт никак не соответствует утверждению Циреля о том, что показатель n случайным образом менялся в процессе роста, т. к. в таком случае целочисленность результата является всего лишь случайным совпадением. Конечно, такое совпадение возможно, но, очевидно, весьма маловероятно, что показывает степень правдоподобия надуманного объяснения, данного Цирелем.
Само утверждение о том, что показатель n «необязательно неизменен в течение всей истории человечества» есть не что иное, как обман, рассчитанный на читателя далекого от математики. Действительно, n, как и две другие постоянные, есть результат осреднения по всем демографическим данным, имеющимся за последние двадцать столетий.
Иначе говоря, Фёрстером подыскивалась степенная функция, наилучшим образом подходящая для описания роста на всей шкале этого роста. Т. е. речь здесь идет об интегральном, среднестатистическом показателе, описывающем весь рост, и говорить о том, что он как-то менялся с течением времени – абсурд.
Цирель, конечно же, хорошо это понимает, поэтому его утверждения и есть намеренное введение в заблуждение. На самом деле им здесь подразумевается причинный динамический закон аналогичный закону квадратичного роста dN/dt = αN2 с показателем лишь приблизительно равным двойке и случайно меняющемся в процессе роста.
В таком случае гиперболический рост не может быть получен по той простой причине, что дифференциальное уравнение, описывающее такой рост, не имеет устойчивых решений. Это справедливо для неизменной в своих границах Мир-системы и не меняющегося в течение всей эпохи гиперболического роста причинного динамического закона квадратичного роста.
Это будет справедливо и для растущей «коротаевской» Мир-системы с неизменным законом роста, и это тем более будет справедливо для растущей Мир-системы со случайно меняющимся причинным динамическим законом роста.
Утверждая, что «рост N является гиперэкспоненциальным и неплохо описывается (хотя бы на отдельных крупных участках) гиперболическими уравнениями, сходящимися в сингулярной точке», Цирель снова идет на откровенный обман, т. к. совершенно очевидно, и это легко доказать, что куски гипербол, описывающие рост на отдельных участках, не могут иметь общей точки сингулярности. И такая «кусочно-гиперболическая» кривая никак не может быть аппроксимирована гиперболой Фёрстера.
* * *Собственная модель гиперболического роста населения Земли С.В. Циреля отмечена теми же пороками, что и изобретательская теория Коротаева. Гиперболический рост любой популяции, как и всякий другой рост численности, описываемый нелинейным дифференциальным причинным законом роста, происходит за счет системности популяции, которая должна найти в любой предлагаемой модели адекватное объяснение.
Утверждение Циреля о том, что рост «неплохо описывается на некоторых отдельных участках гиперболическими уравнениями» означает, что эта необходимая системность, объясняющая гиперболический рост, то появлялась в процессе роста, то исчезала.
Что говорит о его полном непонимании феномена гиперболического роста, который, по мнению С.П. Капицы, и есть выражение этой глобальной системности растущего человечества. [1]
С.В. Цирель, вероятно, считает себя экспертом в вопросах гиперболического роста и демографического перехода. Первая его работа на эту тему появилась в 2004 году. Но за годы, прошедшие с тех пор, как показывает эта статья, он так ничему и не научился. Его модель, модель первого типа по нашей классификации, основана на причинном дифференциальном законе роста.
Иначе говоря, система дифференциальных уравнений, описывающих рост, происходит из его головы, а соответствие теории демографическим данным проверяется близостью теоретических результатов гиперболе Фёрстера, т. е. гладкой монотонной кривой.
Что не является, конечно, сколько-нибудь серьезной проверкой на истинность, иначе не расплодилось бы в количестве уже около десятка подобных однопричинных моделей, основанных на той или иной форме императива от демографического до информационного.
При этом автор не имеет никакого представления о том, как его модель может быть расширена с учетом экспансии растущей популяции в пространстве. Здесь как минимум должен быть поставлен вопрос об учете запаздывания распространения информации, обеспечивающей глобальную системность растущей популяции в том нелинейном дифференциальном законе роста, на котором она основана.
Учет такого запаздывания приводит к уравнениям с запаздыванием, и если запаздывание значительно, то для такой растущей популяции возможны колебания численности и даже резонансы: колебания с нарастающей амплитудой.
* * *Отсутствие каузального анализа изучаемых связей – еще один грубый просчет, допущенный Цирелем. (Модель Циреля основана на причинном дифференциальном законе.) Нами представлено десять (!) аргументов, говорящих о том, что закон квадратичного роста dN/dt = αN2, к которому должен сводиться любой закон роста численности человечества, в том числе и предложенный Цирелем, всего лишь сопутствующая связь и причинным законом считаться не может.
Можно только удивляться тому, что С.В. Цирель совершенно не интересуется проблемой устойчивости, несомненную важность которой отмечают все серьезные исследователи гиперболического роста. А ведь система дифференциальных уравнений, описывающих рост в его модели, устойчивых решений не имеет.
Цирель единственный из всех авторов, кто даже не пытается объяснить причину глобальной системности растущей популяции Homo sapiens, с необходимостью вытекающей из факта нелинейности закона квадратичного роста dN/dt = αN2.
Он просто записывает дифференциальный закон, называет его гиперэкспоненциальным и совершенно не интересуется тем, как такой закон как рекуррентное соотношение мог выполняться шаг за шагом в пространстве и во времени на протяжении двадцати столетий для растущей Мир-системы с учетом всего сказанного выше. Т. е. демонстрирует совершенно БЕЗДУМНОЕ, чисто формальное, техническое применение математики. Что характерно и для других работ С.В. Циреля.



