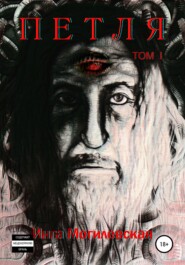
Полная версия:
Петля. Тoм 1
Знаю я все это: сначала год, потом два… А потом я меня затянет, не смогу вырваться. Утрачу все навыки, забуду все, что так долго и кропотливо зубрила все эти 8 лет – буду слишком далека от медицины, чтобы вернуться. И сдамся. Нет. Уж лучше сразу не поддаваться, чтобы потом не пришлось сдаваться…
Я вздыхаю, раздумывая над новой порцией возражений, но так и не успеваю высказать их. Робкий стук, в приоткрывшийся дверной проем проглядывает испуганное лицо Пабло – шофера отца.
– Сеньор Ньетто? Простите, что прерываю. К вам пришел Полковник…
– Да, да, я его жду. Спасибо, Пабло! – отец по-молодецки вскакивает из-за стола, бросает взгляд на стоящие в углу комнаты часы, – Ровно два. Как и договаривались. Ох уж эти военные – пунктуальности им не занимать! Скажите нашему гостю, пусть проходит… И, да, Пабло… – окликает шофера, а сам бросает на меня твердый, победоносный взгляд, – Отвези Сеньориту Мадлен к мистеру Граузу…
– То есть, все? На этом наш разговор окончен? – обиженно вопрошаю я.
– Прости, Мадлен. Боюсь, я опять буду занят. Ты езжай к Граузу, а потом расскажешь мне, как прошел разговор, ладно?
– Папа, я…
– Я хочу для тебя лучшего, милая. Пойми это.
И я не нахожу, что ответить. Просто слушаюсь. Пай-девочка.
С этим, который пришел к отцу, и из-за которого он прервал беседу со мной, я сталкиваюсь в дверях – метис, невысокий, плотненький и сбитый как свежесрубленный пень, два крестика пронзительно поблескивают на лацканах формы, воротничок наглухо застегнут, сдавлен и сжат петлей галстука, туго вгрызается в обрюзгшую шею. Шаг твердый, чеканный, выдрессировано-армейский, а лицо, напротив, мягкое, осунувшееся, расплывчатое. Глаза, словно стекают в набухающие под ними мешки, и толи из-за этой оплывчатости, толи из-за тусклых не находящих себе места зрачков, взгляд кажется безвольным, полным сомнения, смятения и нерешительности…
«Кажется, я не единственная, кому не по себе в этом доме», – думаю я, проходя мимо этого человека. Кроткий вежливый кивок вместо приветствия – я не стала подавать ему руку, да и он все равно не успел бы ее поцеловать, потому что за моей спиной он уже разглядел фигуру отца, полностью захватившего его внимание…
– Сеньор Ньетто, это честь для меня…
– Боже мой, Пако, мы же не на официальной встрече! – перебивает его отец несвойственным ему приторным тоном, – Так что, давай оставим все эти лишни холодные любезности в стороне, и поговорим искренне и непринужденно, как друзья… Без всяких там «Сеньоров»…
Это последнее, что я услышала, прежде чем выйти вслед за шофером на улицу.
– Пабло, ты знаешь, кто этот человек? – спрашиваю я, располагаясь на заднем сиденье автомобиля.
– Ха… Конечно! – смеется тот, словно я спросила какую-то очевидную и нелепую глупость, – Это, Сеньорита, возможно, наш будущий президент…
***
II

Почему так темно? Почему ничего не видно? Ощущение, будто она нырнула в мазутную лужу. Отдалась объятиям самой вселенной, облаченной в траурные вуаль пустоты, вечности и мрака… Как же она не заметила тот момент, когда мир вокруг нее померк…, когда нечто, проглотившее солнце, выжало до последней капли весь свет из ламп, свечей, огней и всего, что было хоть как-то способно противостоять алчности тьмы? Как и когда это произошло?
Заключенная приподнимает руку, пробираясь сквозь гущу тьмы, пытается нащупать свои веки – только чтобы лишний раз убедиться: они подняты. И глаза… Скользкое глазное яблоко – жжет, когда она дотрагивается кончиком пальца. А ведь даже ладонь не видно… Неужели ослепла? Ослепла…оглохла… Это все равно, что умерла… Лишилась этого мира, лишилась всего того, что было по-настоящему значимо, что доставляло радость… Лишилась трепетных рассветных заливов, и тягуче-знойных полуденных солнцепеков, лишилась игривых и кокетливых игр заката и таинственно-манящих ночных огоньков, лишилась протяжных воев пастушьих свирелей, неугомонного щебета птиц, бесконечного треска и скрежета насекомых, трезвона бубенчиков на проезжавших под окнами повозками, и наглых криков мальчишек, продающих газеты, и колокольного набата часовни, созывающего на воскресную мессу, и голосов… Лишилась человеческих голосов: их слов, фраз, речей: тех, что когда-либо будоражили ее мысли и сердце, и тех, что просто проскальзывали мимо, просачивались сквозь сознание, тех, что похожи на бурную лесную речку – и можно не чувствовать жажды, но все равно станет приятно и спокойно от ее мирного, прохладного мурлыканья, ее всплесков, мерцаний миллиардов искр, разорванного солнечного отражения… Как она любила уходить в сельву, когда была маленькой, и купаться в реке с другими девчонками, и смеяться, и слышать их смех и голоса… А теперь ничего этого нет. А как же ее голос? Ее собственный голос? Заключенная хотела открыть рот, закричать, но не смогла… Необъяснимый страх – верный спутник мрака в одно мгновение завладел всем ее существом, сдавил горло, и голосовые связки застыли, обледенели не в силах противостоять ему.
И тут она все-таки расслышала… Да, это сторонний звук… Один из тех, на которые никогда не обратишь внимание, пока не окунешься в омут абсолютной тишины. Звук чужого дыхания. Совсем рядом, но будто сквозь…
Робкой непослушно вялой рукой заключенная дотронулась до каменной поверхности стены, подле которой протянулось, утопая во мраке ее бесконечно длинное тело. Да, это стена – стена дышала холодом и муками загробной бездны… Но все-таки это был живой звук: хриплый, натужный, приглушенный и угасающий. И снова скользнула ее ладонь по плотной каменной кладке, как по выпирающим ребрам коченевшего тела, в поисках жизни – в поисках источника этого звука – единственной крохотной зацепки – лазейки в мир сущего… Пальцы провалились в какое-то углубление – небольшое – ладонь едва протиснуть – но чуть глубже… По коже руки пробежал морозцем поток воздуха. Воображение мгновенно прорисовало в ее сознании зловещий образ – приоткрытый каменный рот этой ледяной стены, с тысячью острых зубов, готовых в любой момент сомкнуться, перегрызая ее тонкую кисть. Быстро отдернула руку, и в это же время из обнаруженного отверстия донеслось протяжное душераздирающе постанывание.
Заключенная собралась духом, чуть придвинулась к странной выемке.
– Кто здесь? – прошептала она, и содрогнулась от собственного голоса, так оглушительно взорвавшегося в черной пустоте.
Ответа не последовало.
– Умоляю вас, отзовитесь… – проговорила она еще громче, – Я же слышу, что вы где-то рядом, – и снова прислушалась.
– Никого здесь нет, – ответила стена. Голос был сдавленным, задушенным, едва различимым, полным отчуждения и боли… Но, несмотря на это, молодым.
Странно… Разве стены узилищ не должны обладать голосом старца? – подумала она, придвинувшись еще ближе к каменной выемке.
– Кто ты? – спросила заключенная.
– Никто, – равнодушно отозвалась стена.
– Но имя-то у тебя есть?
– Какая тебе разница? – огрызнулась стена.
– Ты давно здесь?
– Не знаю… Что значит давно?
– Сколько дней? Или, может, месяцев?
– Не знаю… Тут время не течет – оно неподвижно и твердо, как скала… Ведь нет ничего, чем можно его измерить. Разве что собственным дыханием… Только, кажется, я уже умер и не могу дышать.
– Ты жив… Я слышу, как ты дышишь. И я с тобой разговариваю. А я-то все-таки живая.
– Ты в этом уверена? – печально спросила стена.
Заключенная не ответила. Снова протиснула руку в каменную пасть, теперь уже дальше и глубже, пока не смогла распрямить ладонь по ту сторону преграды. Там было пусто.
– Можешь подойти? Я просунула руку в твою камеру. Прикоснись ко мне.
– Зачем?
– Хочу чувствовать, что рядом есть человек. Мне страшно…
– Я уже не человек, – горько усмехнулась стена, – я чудовище. Сам себя боюсь. Хорошо, что здесь темно, и я не вижу, что со мной сделали, но… Я не осмеливаюсь даже прикоснуться к своему лицу, потому что знаю, в нем уже нет ничего человеческого.
– Почему? Тебя избили? Покалечили? Что с тобой?
– Иногда они приходят, чтобы отвести меня туда, и… Я закрываю глаза, чтобы случайно не увидеть где-нибудь свое отражение, – сбивчиво продолжил голос, будто не слыша ее вопросы, – мне все равно, что они со мной делают, и зачем им это нужно. Просто хочу, чтобы все закончилось. Хочу, чтобы это тело поскорее сгнило, исчезло, хочу, чтобы, наконец, заткнулся мой разум…
– Господи… Да что же они с тобой делают? Тебя пытают?
– …Потому что разум все время твердит, что я заслужил это… что я заслужил…
– Да какое же преступление нужно совершить, чтобы заслужить такое?!
– Тебя за что посадили? – спросил голос, в очередной раз проигнорировав ее вопрос.
– Не знаю… Меня не должны были садить за решетку. Мне заплатили, чтобы я… ну… – она замялась, не зная, как бы помягче объяснить, – В общем, последняя воля приговоренного к смертной казни – он пожелал женщину. Вот меня и привели.
– А, значит ты из этих… – разочарованно проныла стена, – И что? Скольких ты тут уже обрекла гнить заживо?
– Что?
– Не делай вид, что не понимаешь… Все началось после того, как ко мне в камеру тоже прислали одну такую ночную фею. Я даже не понимал, что все происходило на самом деле. Думал, приснилось. А потом начала развиваться болезнь…
– Я ничем не больна. Меня и здесь проверили, прежде чем пускать… Какую-то прививку еще поставили – до сих пор жжется.
– Дурочка… Бедная наивная дурочка, – прошептала стена уже мягко и ласково, и она почувствовала, как влажные костлявые пальцы обхватывают ее ладонь.
– Эй, не трогай меня, раз ты болен! – вскрикнула заключенная, и попыталась вырваться, – Ты же сам меня сейчас заразишь!
Он неохотно выпустил ее, а потом, словно обидевшись, отполз подальше и долго не отзывался.
Наверное, ей стоило попросить прощения… Что она, в самом деле? Какая ерунда… А если он больше не захочет разговаривать? Она не вынесет тишины. Тишина – слишком страшна в подобном месте. Она обладает голосом самых мучительных и кошмарных мыслей, она предрекает самые изощренные страдания, она пытает безответными вопросами и неизвестностью. Нужно говорить, нужно кричать, нужно выть – нужно рвать в клочья эту невыносимую тишину… Нужно извиниться перед ним. Пусть только не молчит.
– Послушай, я…
– Не волнуйся, – перебил он, – эта болезнь не передается простым прикосновением. Все сложнее…
– Ладно, не будем об этом. Не думай о болезни. Я тебя не вижу, только слышу твой голос, и представляю красивого юношу. Таким ты и будешь для меня, хорошо? Как все-таки тебя зовут.
– 457, – голос чуть дрогнул, когда он произносил свой номер.
– Это не имя.
– Называй меня так.
– Ладно. Как хочешь. А я Патрисия. Сказала бы, что рада знакомству, да только слово «рада» тут неуместно… – с горечью проговорила заключенная, – Но, по крайней мере, теперь мы не один на один с этим кошмаром, а хотя бы вместе, да, 457?
– Да.
– Хорошо, 457. Так что за преступление ты совершил? За что тебя посадили?
– Как ни странно, меня посадили не за мое преступление, а за то, что я был партизаном. Воевал на стороне ополченцев.
– Постой… Тебя, что упекли сюда еще до революции? – удивляется она.
– Какой революции? – он тоже удивлен, но, кажется, даже это удивление не способно пробить прочный слой апатии и безразличия в его слабом голосе.
– Ну, как же: два года назад, когда весь народ восстал, требуя отставки тирана. Всеобщая забастовка, митинги… Ужас, что творилось! Даже армия в основной своей массе поддержала протестующих. Почему тебя не амнистировали? Я думала, что с приходом нового президента, освободили всех политических заключенных.
– Значит, про меня забыли, – констатирует 457, – А что про меня помнить? Я же не человек, а так… Крыса. Мне самое место в их клетке.
– Ну, зачем ты так про себя?
– Потому что это – правда, – он вздохнул.
– Нет. Я уверена, ты хороший человек.
– Да откуда тебе знать, какой я?
– Не знаю, просто чувствую…
– Тшш… – перебил он, – слышишь шаги? Сюда кто-то идет.
Она замерла в панике – ужас сковал тело сильнее кандалов, даже дыхание затаила, напряженно вслушивалась…
– Не слышу, – шепотом призналась она.
– Просто еще не привыкла к здешним звукам… Один человек с каталкой… или тележкой…Сейчас спускается по лестнице… Потом скрипнет дверь в коридоре, он пройдет 30 шагов, и повернет в эту сторону, и еще 10 шагов… Сюда приходят только по двум причинам: принести еду или забрать туда.
– Куда «туда»?
– Туда…
– И меня заберут? – выдавила заключенная, немеющим от ужаса языком, – Меня тоже…?
– Патрисия… ты не бойся…Нечего уже бояться…, – тщетно попытался успокоить он.
– А вдруг они и меня…? Вдруг они сделают это же со мной? – она не смогла сдержать судорожный всхлип.
– Если хочешь, возьми меня за руку, – и она почувствовала, как из выемки в стене вынырнули его длинные искривленные и бугристые пальцы, застыли, наткнувшись на ее плечо. Она тут же ухватилась за них, сдавила крепко-крепко, будто это могло спасти ее от неумолимо приближающихся шагов и постукивания колесиков каталки. Теперь она их слышала. Все ближе и ближе. Каждый удар сапога по каменному полу, и дребезжание роликов резонировали в ее теле, сжимали в кулак ужаса ее сердце…
– Не бойся так, глупышка… Не нужно… Уже нечего… – продолжал нашептывать 457. Нашептывал, пока шаги не остановились перед дверью его камеры… – Слышишь? Успокойся. Это за мной.
Он выдернул свои пальцы из ее ладони, и в ту же секунду раздалось скрипучее металлическое лязганье замка на двери его камеры. Сквозь крошечное отверстие в стене просочился поток приглушенного света. Заключенная прижалась к нему лицом, силясь хоть что-то рассмотреть… Два колеса кресла-каталки, ноги приближающегося человека. Наклонился, чтобы что-то подобрать… Совсем близко промелькнула его рука, облаченная в белую, отливающую пластиковыми бликами перчатку. И что-то темное заслонило на пару секунд ей обзор. «Наверное, спина 457-го, – догадалась она, – Поднимает его, что бы усадить в кресло». Услышала его сдержанное глухое постанывание, и снова застучали завертевшиеся колесики и затопали тяжелые сапоги, покидая её поле зрения. Хлопнула дверь камеры, мгновенно разрубив и умертвив поток света, и в восстановившей свою власть темноте, послышались все те же зловещие звуки: шаги, дребезжание колесиков – только теперь удаляющиеся – уносящие прочь ее неведомого собеседника.
И снова тишина, черт бы ее побрал… Надолго ли они его унесли? Что с ним будут делать? А что будет дальше с ней? То, что 457 сказал про болезнь… Нет. Это же немыслимо! Она прокручивала в памяти его слова – снова и снова: «Скольких ты уже обрекла гнить заживо?… Бедная наивная дурочка… Болезнь так не передается… Уже нечего бояться… Болезнь так не передается…» А как передается болезнь? Могла ли она заразиться от того смертника, с которым провела ночь? Он не выглядел больным… Господи, да зачем им это?! А с каких пор они вообще стали приводить к узникам девок? И зачем проверяли ее? Не все ли равно, больна она чем-то или нет, если этого типа все равно утром казнят? Почему не выпустили ее, после того, как она сделала свою работу? Что еще за прививку ей влупили? Зачем?… За что?…
Тишина рождала все больше и больше вопросов. Они переплетались, плодились, кишели в ее голове, разрывая на части мозг. Сотни вопросов… А кто даст хоть один ответ? Или она знает ответ, просто не хочет его принимать? Ответ? Ее постигнет та же участь, что и этого бедолагу в соседней камере – это ответ? Это разве ответ?! Ерунда, а не ответ! «Не смей даже думать о таких гадостях», – приказала она себе и попыталась отвлечься – подумать о том, что было приятно… Долгое время ничто хорошее на ум не шло. И тогда она вспомнила своего американца. Этого американца – Джеймса. Он забавный… Нет, временами – настоящая язва! Но он ей нравится. Не красавиц, конечно, но весьма мил. И, похоже, он всерьез на нее запал. По крайней мере, она не видела, чтобы он поднимался наверх с какой-нибудь другой девицей. Только на порог, и прямиком к ней. Ну и влетит же хозяйке, когда он не обнаружит ее сегодня! Так влетит – мало не покажется! Он умеет быть жестким. Только не с ней. С ней он всегда ласков, заботлив, любит смешить ее какими-нибудь дурацкими шутками, рассказами и розыгрышами… Как бы ей хотелось сейчас оказаться в его объятиях, гладить колючие рыжеватые волосы, покрывать поцелуями его белое тело, слушать нежные слова, которые он намурлыкивает ей на ухо… «Прости, Джеймс, – мысленно обратилась она к нему, – Придется тебе теперь поискать другую пассию. В конце концов, у Анны много девиц, способных составить мне достойную замену. Так что долго ты тосковать не будешь…» От этой мысли ей стало еще тошнее и страшней. Более того – ей стало себя жалко… Боже! Как это унизительно и ничтожно – жалеть саму себя! Это куда хуже тех унизительных оскорблений, которыми ее периодически одаривают клиенты… Американец другой… Он никогда… Он совсем другой. Не похож ни на одного человека, с кем ей доводилось встречаться. А ведь она совсем ничего о нем не знает. Все какие-то темные дела, интриги, секреты. Порой ей кажется, что он пират или контрабандист, а иногда она готова поклясться, что он военный или шпион… А Джеймс только отшучивается: «Знаешь, Пати, это женский долг – быть таинственными, полными непостижимых загадок и секретов. А я простой неотесанный мужлан – не навешивай на меня свои обязанности»… «Неотесанный мужлан»? – уж что-что, а подобное выражение подходит ему как корове седло. А в то же время, так трудно подобрать хоть что-то ему подходящее – какую-нибудь дурацкую кличку или прозвище… Нет. Даже фамилия… Она понятия не имеет, какая у него фамилия. Впрочем, разве это важно? Разве ей недостаточно просто того, что он с ней и больше ни с кем?
Уже не с ней… Теперь она одна, совсем одна – в тюрьме, во тьме, в ужасе…
457-го привезли обратно, когда измученная своими терзающими думами заключенная уже стала проваливаться в сон. Она встрепенулась от лязганья замка за стеной, тут же прижалась глазом к тайной лазейке в мир чужих кошмаров. Заметила, как подъехала каталка, и подле стены тяжело плюхнулось обмякшее тело, словно кто-то швырнул на пол мешок картошки. Потом тюремщик ушел, укатив с собой пустое кресло. Дверь соседней камеры захлопнулась.
– 457! – позвала она.
Ответа не было.
– 457! Ты живой?
– …
– Ответь мне!
Тишина. Слышно разве что его учащенное дыхание и слабый шорох ворочающегося тела.
– 457! Что случилось? Почему ты не отвечаешь? – настаивала заключенная. Протиснула ладонь, потолкала его. Он не реагировал.
– Ну! Скажи, что с тобой сделали! – толкнула сильнее. Он чуть сдвинулся в сторону, так чтобы она не могла дотянуться.
– Да что тебе! Язык отрезали! – в отчаянии вскрикнула она, убирая руку.
Это упрямое безмолвие пугало ее гораздо больше, чем тишина одиночества. Чтобы хоть как-то успокоить себя и разбавить густоту молчания, заключенная села, поджала колени к груди, сложила вместе ладони и стала нашептывать молитву. Она уже не уповала на спасителя, и не смела просить спасения. Кто она была такая, чтобы просить? Развратная блудница – продажная девка. Всю свою жизнь она бездумно придавалась греху, и не гнушалась пороков, находя в них пикантную нотку, придававшую вкус порой пресному существованию. Верила ли она когда-нибудь в Бога, или в Пресвятую Деву, или в Христа? …Она не ходила в церковь, не носила на груди распятье, и не молилась уже лет десять. Но сейчас…
– Если ты любишь Деву Марию и веришь в Бога и Христа, пощади их. Не заставляй их обращать взор на это место, – проговорил слабый голос из-за стены.
– 457? Господи! Я уже думала, ты не заговоришь! – встрепенулась заключенная, разом позабыв про молитву.
– Бог сюда не заглядывает, он не знает о существовании этого места, – продолжал 457, – и ему нет дела, до тех, кто находится здесь.
– Не говори так. На свете нет ничего и никого, что может ускользнуть от его взора.
– На свете? Ты видишь здесь свет? Мы с тобой уже в аду… А это не его работа, доставать грешников из ада.
– В ад попадают после смерти, а мы еще живы. Значит, у нас еще есть шанс покаяться и спасти душу.
Он притих. Задумался.
– Они считают, я могу не дожить до утра, – наконец, пробормотал 457.
– Они тебе это сказали?
– Я слышал, как они разговаривали между собой. Говорили, что я итак продержался дольше остальных – почти два года, говорили, что нужно списать меня, как исключение, и продолжить исследования, говорили, что-то о новой партии инфицированных… Они сначала не собирались возвращать меня в камеру… хотели понаблюдать, как я умираю прямо там… А потом передумали. Один из них сказал: «Увези этого. С ним все итак ясно. Анализы взяли, завтра сделаем посмертное заключение».
– 457, это все ерунда. Не отчаивайся! Они тоже могут ошибаться! – залепетала заключенная.
– Надеюсь, что они не ошиблись, – угрюмо прошептал он, – я хочу умереть. Я рассчитываю на смерть как на избавление от всего этого. Жаль только, что они не приведут сюда священника, чтобы я мог исповедаться, перед тем как расстаться с жизнью… Как ты выразилась – спасти душу?
– Если ты веришь и каешься, то священник не нужен – Бог тебя итак простит…
– Я не знаю, верю я или нет… Скорее всего, не верю. Просто, нет больше сил носить это в себе… Что, если я не избавлюсь от этого, когда умру? Что если после смерти ад для меня не закончится, и я так и останусь один на один со своей совестью? Теперь уже навеки?
– Что ты сделал такого страшного, что боишься своей совести больше, чем смерти? – удивляется она.
– Я предал… предал своих товарищей, подставил своего лучшего друга… Это мучает меня сильнее болезни и страшит сильнее смерти…
Вот они и подобрались к этой теме… Только сейчас она вспоминает… нет, до нее доходит то, что сказала ей Анна перед тем, как передать в руки тюремщиков: – «Помни, малышка, если кто-то из них захочет что-то тебе рассказать – слушай и запоминай, а не захочет – так разговори. Истории заключенных бывают очень интересны и полезны. Истории о вероломных предательствах и обманах, эти истории имеют большую цену». Какая польза может быть от этой истории, она не знает… А какова цена этой истории? И, в конце концов, какой смысл выслушивать и запоминать, если она все равно отсюда не выйдет? Нет – есть смысл и есть польза: для нее самой, страшащейся тишины и для этого мальчика в соседней камере, которому просто необходимо… необходимо говорить…
– Тогда, говори… Говори обо всем, что тебя гнетет. Говори, пока не почувствуешь, что твоя душа свободна. Я, конечно, не священник, чтобы просить за тебя перед Богом, но…
Она придвинулась к стене вплотную, просунула руку…
– Так даже лучше… – прошептал 457, – Я хочу исповедаться путане. Так даже лучше…
Его ледяная ладонь прижалась к ее, и их пальцы переплелись…
III

…В своих воспоминаниях, я не раз пыталась определить – дать названия своим ощущениям в те первые дни после возвращения. Что ж, то, что я сначала считала игривым любопытством в постижении своей экзотичной родины и отчаянным желанием вернуть свои давно пережитые детские чувства к отцу, в последствие было мной проанализировано и переосмыслено. Сейчас я, к своему ужасу и стыду, осознаю, что и то, и другое были всего навсего брезгливым призрением – высокомерием, помноженным на скуку и жажду перемен. И перемены не заставили себя долго ждать…
Я добралась до ворот фабрики мистера Грауза, но внутрь войти так и не успела. Странный шум, доносящийся с тыльной стороны здания, отвлек мое внимание, заинтриговал, заставил развернуться… На фоне общего гула промышленной зоны этот звук был явно рожден скоплением людей. Я различала стройную выразительность, повышенный тон, и, вместе с тем, спокойную интонацию главенствующего голоса, которому, то и дело, словно подпевали другие, менее спокойные, изредка слабые озлобленные и полные сомнений, но чаще дружные восторженные и одобрительные возгласы. И все это сливалось в причудливую мелодику, ритмику, напоминавшую уличную постановку классической пьесы, вроде Шекспировской трагедии… Не противясь своему любопытству, я подошла поближе.
Прямо возле ограды на возвышенности стоял высокий худощавый человек, выделявшийся среди остальной массы народа не только своим центральным положением и зычным тембром голоса, но и несвойственной местным жителям белизной. Этот контраст черно-серой толпе – его бледное лицо, длинные ослепительно белые волосы, искрящиеся платиновыми нитями, светлая рубашка – производили почти гипнотическое впечатление… Впечатление, будто этот человек стоял в свете рампы… или сам излучал свечение… Он говорил – говорил на испанском языке, свободно и легко, насколько я могла судить, даже без акцента, периодически перемежая его словами из местного диалекта – на манер речи коренных индейцев. Столпившиеся вокруг него люди, по большей части, молча слушали его, лишь немногие осмеливались робко выкрикнуть свое сугубо личное несогласие, а потом вдруг все разом единым хором поддерживали выступавшего – вторили ему, ликовали. Все это, как мне сначала показалось, до того было пропитано театральностью, что я невольно стала задумываться о сценарии и режиссёре. А, кроме того, кого-то мне напоминал этот белый человек, хотя я никак не могла понять, кого именно… Может он и был известным актером?

