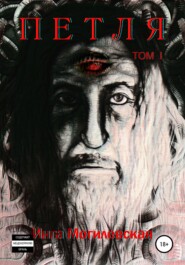
Полная версия:
Петля. Тoм 1
– Хок, послушай… Я это не просто так. Да, они молчат, но одна девочка в деревне – племянница Габриэлы – рассказала мне, что несколько дней назад слышала жуткие детские вопли, доносящиеся из подвала его дома. Испугалась, дурочка, убежала. Только мне по секрету призналась, взяв обещание, что я никому не расскажу. Детские вопли… Я уверен, что это был он, что это он кричал. Не знаю, что Рауль с ним делает… Или делал… Может, его уже и в живых нет.
– А сам Рауль тебе, что сказал, когда ты его встретил?
– Ничего вменяемого… А когда я попытался его утихомирить, то и вовсе нож мне к горлу приставил. Мол, если и дальше буду совать нос, куда не следует…
– Может, дельный совет? – перебивает индеец.
– А может, у тебя хоть где-то в районе сердца кольнет, Хок? – злобно шепчет гость, вытаращив глаза, – Ведь не такой же ты, в самом деле, скотина!
– Какая теперь разница? Если он мертв…
– А если нет?
Не отвечает.
– А если еще жив? – настойчиво повторяет гость.
Его собеседник поднимается со своего лежака, медленно проходит взад-вперед по комнате, тяжело дыша и шаркая ногами, словно старик, потом бросает взгляд на входную дверь, подходит, приоткрывает ее, осторожно выглядывает в образовавшуюся щель. Видит мальчика, сгорбившегося на крыльце над книгой подле зажженной свечи. Понаблюдав за ребенком с минуту, снова бесшумно закрывает дверь, возвращается на прежнее место, садится, понуро опустив голову.
– Ты пришел только, чтобы рассказать мне об этом, Тито? – еле слышно спрашивает он.
– Да, – холодно отзывается гость.
– Я тебя выслушал. Можешь проваливать.
– И все?
– А что еще?
– Ты просто так меня выпроводишь и завалишься дальше упиваться своими вымученными страданиями? И ничего не предпримешь?! Я был лучшего мнения о тебе. И Скарлет бы это не одобрила.
От звуков прозвучавшего имени индеец невольно вздрагивает, поджимает задрожавшие губы….
– Не смей… Слышишь? Не смей…!
– Так веди себя по-человечески! Хок, черт возьми! Мы все тогда были подонками! Но я с этим жить не могу. И ты, я знаю, не такой!
Тишина.
– А что ты хочешь, чтобы я сделал? – помедлив, спрашивает индеец, не глядя на своего собеседника.
– Я не знаю, – раздраженно огрызается гость и решительно направляется к выходу, – Лично я еду вытаскивать мальчишку, даже, если это будет стоить мне жизни. А что будешь делать ты? Это твоя совесть, Хакобо. Что хочешь, то с ней и делай.
Он покидает их дом, громко хлопнув за собой дверью.
В метре от склоненной головы ребенка тяжело протаптывают грязные сапоги гостя. Отвязывает стоящую у ворот лошадь, садится в седло и галопом уносится проч. «Мог бы хотя бы попрощаться», – думает мальчик и переворачивает страницу, которую вроде как прочитал, но не может припомнить из нее ни слова. Пытается в очередной раз сконцентрироваться. Что-то ему мешает. Что-то свербит под кожей спины и покалывает крошечными иголочками позвоночник… Он знает, что это отец снова подглядывает за ним в дверную щель. Чувствует на себе его пытливый взгляд, но не решается повернуться, продолжает упорно игнорировать этот безмолвный призыв. Постояв так минут пять, отец все-таки выходит на крыльцо, присаживается рядом с ним на корточки. Тяжелая горячая ладонь опускается на плечо мальчика, ласково треплет его, потом пару раз легонько проводит по всклоченным волосам, и снова застывает на плече… Мальчику это кажется странным – таким… таким… неестественным… Это отцовское прикосновение. Он не может вспомнить, когда отец последний раз вот так ласково дотрагивался до него, гладил… Очень давно… «Зачем же сейчас? – думает он, – Ведь я уже не маленький? Что ему от меня нужно?»… Он не знает, как на это реагировать. Ему не по себе. Ему неприятно. Мышцы напрягаются, тело, будто каменеет. Мальчик отчаянно цепляется глазами за первую попавшуюся строку в книге, но его взгляд, скользнув по поверхности маслянисто-черных букв, срывается в бессмысленную пустоту.
– Что читаешь, сынок? – наконец, спрашивает отец каким-то непонятным мягким и теплым, словно звучащим сквозь овечью шкуру тоном.
Не поворачиваясь, мальчик закрывает книгу, отодвигает в сторону, показывая ему обложку.
– …А-а… ясно… – задумчиво протягивает тот, – Не рановато ли тебе такое читать? Возьми, что попроще. Вон сколько книг в доме…
– Я их все уже прочитал, – отзывается ребенок, замечая, как непроизвольно дрожит его голос.
– Ясно… – снова проговаривает отец. Пальцы его руки сильнее вдавливаются в угловатое плечико мальчика, – Ты так быстро повзрослел… – в голосе слышится не то досада, не то упрек, – Раньше я смотрел на тебя и думал: – «Рано ему еще говорить о многом, пусть подрастет». А теперь понимаю, что уже слишком поздно. Я упустил тот нужный момент. Я упустил что-то важное. Тито прав, я никогда не был для тебя настоящим отцом. Мне жаль… Прости.
– Тебе не за что извиняться, папа, – бормочет он: взгляд по-прежнему устремлен в пространство, губы шевелятся сами по себе, – Неправ был я, когда обвинил тебя в гибели мамы. Она не должна была тебя останавливать. То, чем ты занимаешься – гораздо важнее меня, и важнее ее. Потому что пока наш народ находится под игом…
– Да-да… Знаю, что ты хочешь сказать, – перебивает его отец, – Именно этим я всегда себя и оправдывал. В этом-то вся ошибка.
– Это не ошибка.
– И все-таки, я надеюсь, что ты никогда… – он запинается, недоговаривает, тяжело вздыхает. Скрывая неловкость, еще раз ласково тормошит его волосы, – Ладно… Иди в дом. Уже поздно, тебе спать пора, – сам проходит к перилам, снимет с них конскую уздечку и седло, – А мне нужно кое-куда съездить. Побудешь немного один? Хорошо?
Мальчик не отзывается.
– Что молчишь?
– Ты никогда раньше не спрашивал, побуду ли я один… Ты просто уходил и возвращался только через месяц или два, – проговаривает мальчик. Из его уст это звучит совсем не как укор, но индеец все равно замирает как вкопанный, виновато опускает голову.
– Да… знаю, – говорит он, – На сей раз я ненадолго. Завтра к вечеру точно вернусь. Обещаю.
Как это странно – слышать от отца подобное совсем не нужное обещание, и мальчику вдруг становится интересно, сдержит ли он его. Простое любопытство – пари с самим собой. «Нет, завтра точно не вернется» – решает он, наконец, заходя в дом и запирая дверной засов, – «Как обычно вернется еще очень нескоро… Если вообще вернется. Мама, ведь, не вернулась». И впервые за все время он чувствует неизвестный ему доселе страх – страх вечного одиночества.
А отец сдерживает свое обещание. Возвращается, как и сказал, к вечеру следующего дня. И возвращается не один.
Часть
1
***
Смотри на меня! Смотри! И не смей отворачиваться! В конце концов, я здесь, чтобы исповедаться не перед безликим существом, вечно прячущимся за ширмой, а перед тобой. Так что, смотри на меня! Смотри…
Ну, вот. Теперь я тебя тоже вижу. Говорят, глаза – это зеркало души… Почему же тогда в черноте твоих зрачков я улавливаю лишь свои черты? Свои пороки. Уж не по той же ли причине ты так ненавидишь меня? Отворачиваешься от меня. Испокон веков – отворачиваешься. И верно – что может быть отвратительнее собственного ада? Но мы с тобой неразделимы, и, хочешь – не хочешь, ты меня все-таки выслушаешь…
Я говорю себе: не было иного выхода. Я говорю себе: в этой истории не было правых – мы все ошибались. В этой истории не было виновных – мы все были жертвами друг друга. Я говорю себе, мне просто следует про все забыть. И продолжать жить.
Все это – ложь.
Как жестокий мясник я с дотошной хладнокровностью я все еще потрошу свою память. Захлебываясь в крови и боли, не знаю, что я пытаюсь отыскать в ее нутре… Иное прошлое? Иную судьбу? Иную самость? А может, я просто пытаюсь найти поддержку и опору. Так, будто прежнее «я» сможет оправдать «я» настоящего? Вот, только не нужно мне это неуклюжее ханжеское оправдание. Мне нужен лишь суд – суд над собой. В конце концов, ни земное правосудие, ни небесный суд, чем бы он ни был, не смогут должным образом взвесить мой грех – они постараются противопоставить его тяжести моего сожаления и раскаяния. И оправдают. Это заведомо неверно. Нет. Единственный поистине справедливый суд – это суд собственной совести.
Впрочем, что есть совесть? Что она это такое? – Вне субъективного сожаления, вне раскаяния: вне пределах собственных эгоистичных переживаний, вне потерь и боли от лишения того, что ты считал себе принадлежащим и неотъемлемым – что она такое? Я не знаю. Поэтому, я уповаю… Я призываю: я призываю тебя – знающего все обо мне, но не ищущего мне оправданий; тебя, кто будто бы находится вне, но смотрит на все через мои глаза, тебя – в чью справедливость я верю: я призываю тебя – осуди! Осуди меня, кем бы ты ни был!
Осуди, ибо сам скоро осудим будешь!
Ладно, вижу, ты не понимаешь… Тогда, слушай. Слушай, что было и есть.
Вот тебе – архив жизни. Летопись событий, которые для всех канули в Лету, как канули в Лету и все, кто их помнил. Все, кроме нас с тобой…
В истории человечества нет правых и неправых, нет абсолютно хороших и плохих, нет чисто белых и абсолютно черных. Но есть предатели… Такова война, революция, соперничество – любое противостояние, любая конфронтация. Нужно занять чью-то сторону, выбрать цвет и сторону доски – не важно, чью, и будешь прав. Даже если эта сторона проиграет, а те, другие, назовут тебя врагом, даже если история навесит на тебя ярлык «зла», кто-то все равно будет верить, что ты прав. Ты сам будешь верить, что ты был прав. Это – главное. Но если ты не уверен, если ты сомневаешься, если мечешься… Если ты не поддерживаешь до конца, всем сердцем, всей душою, всем своим существом, упрямо бросающимся в пропасть черного безумия… Если ты не знаешь себя – ты предатель.
Я – предатель. Я тот идиот, нарушивший правила игры. Без идолов, без идеалов, без идей, за которые бы стоило умирать. Переметчик, не готовый жертвовать жизнями во имя ваших истин. Я – заведомо проигравший. Всё, что у меня осталось – это вина, болезненная память – мое вечное клеймо, и имя…
Имя, данное мне еще тысячи лет назад…
***
I

Впервые за долгие 8 лет своего отрочества я приехала домой. Вернулась на родину, которую я покинула, будучи еще совсем ребенком. Вернулась на эту землю, в этот город, к этим людям – ко всему тому, что долгие годы оставалось для меня лишь по-детски красочной и радужной картинкой в кладовой моей памяти. Я была уверена, что смогу оживить застывший пейзаж яркой утопающей в солнечных потоках и пышной зелени страны с открытки, присланной моим отцом (ведь не зря она столько лет провисела над кроватью в моей маленькой коморке общежития), и надеялась, что, спустя все эти годы, смогу вновь погрузиться в этот мир тропического рая – в чарующий Эдем, предназначенный мне от рождения.
Однако, возвращение на родину не оправдало моих ожиданий. Оно стало для меня сродно контузии… Трудно сказать, что было не так, но я почувствовала это сразу, как только ступила с трапа парохода на родную землю, сделала несколько шагов, осмотрелась… Нет, тогда еще я не ощущала боли и горечи, а, пожалуй, пребывала в некоем ментальном оцепенении. Все равно, что взглянуть на себя в зеркало и увидеть в нем не привычное родное лицо, а какого-то нелепого уродца: жалкого, удручающего и вместе с тем – забавного. Я не знала, как реагировать на это – как воспринимать, как смириться, как принять.
После стольких лет мне даже не верилось, что я родилась в этой стране, провела здесь свое детство. Все вокруг казалось мне чуждым, диким, странным, хотя я прекрасно понимала, вся страна не могла так резко измениться за это время. Изменилась только я, мое сознание. Я не просто повзрослела и поумнела, я повзрослела и поумнела в Америке. Я получила американское воспитание, американское образование, американское мышление. Мой разум соответствовал American Standart и уже отказывался адекватно воспринимать нравы и устои этой не вписывающейся ни в какие рамки страны. Местные люди – люди с моим цветом кожи – казались мне теперь столь же экзотичными как, скажем, жители африканских глубинок. Их жилистые бронзовые тела и пестрая, изношенная до дыр одежда, их впалые щеки, острые скулы, их голодные, черные, вечно воспалённые и слезящиеся, как раздавленные ягоды асаи, глаза одновременно и пугали и вызывали во мне скорбную жалость. Только жалость эта была какой-то ленивой, безучастной, отстраненной, какую можно испытывать только к совершенно чужим и совершенно иным людям. Жалость, которую испытываешь к тем, чьи горести, в действительности, не трогают тебя, чьи разрушенные жизни для тебя лишь повод прицокнуть язычком и покачать головой, утрируя и без того наигранное сожаление, в разговоре с друзьями – приятелями.
Все мои друзья и приятели остались в Штатах. Все они были по большей части, североамериканцами, и, закончив обучение в Калифорнийском Университете в Сан Франциско, пожелали остаться на родине. Ну, вот и я вернулась на свою…
Я все еще хорошо понимала свой родной испанский язык, с редким, словно инкрустированным брильянтами, вкраплением индейских наречий. Я понимала почти все слова… но как будто в отдельности – не зависимо от соседствующих. Поэтому логическая связь фраз и предложений – глубина контекста, периодически оставался за пределами моего восприятия. Как и поведение местных жителей – что-то ускользало. Что-то исконное, коренное, выстраданное поколениями постоянно ускользало от меня. И в первые дни своего пребывания, я, как одержимая золотой лихорадкой, пыталась отсеять истинно ценное – смысл и суть происходящего – крупицы подлинного золота из потока засыпающего меня с головой песка…
– Пабло, высади меня здесь, – говорю я шоферу, указывая в сторону площади.
– Но Сеньор Ньетто велел отвезти Вас до…
– Не волнуйся. Я сама дойду до фабрики Мистера Грауза. Но сначала хочу немного прогуляться по городу. Все-таки я восемь лет не была здесь. Мне нужно освоиться, осмотреться, попривыкнуть, – я достаю из кармана купюру, протягиваю ее Пабло, – На, сходи пока куда-нибудь, отдохни.
– Вы что, Сеньорита! Ваш отец голову мне оторвет, если узнает…
– Он ничего не узнает, поверь. Ты подъезжай за мной к фабрике часам к пяти, я буду тебя ждать там.
Пабло медлит. Недовольно скорчив губы, он все-таки останавливает машину, но наотрез отказывается от предложенных денег, протестующе размахивая ладонями… Можно подумать, что я тычу ему в лицо протухшую рыбу… Испуганно бормочет что-то невнятное, вроде: «Нет, пожалуйста, не надо! Сеньор итак очень щедр…»
– Ладно, как хочешь, – растерянно пожав плечами, я убираю деньги обратно.
– Сеньорита Мадлен, только, пожалуйста, будьте осторожны. Тут Вам не Штаты – полно воришек и прочих мерзавцев. Не разговаривайте ни с кем и не ходите по безлюдным улицам.
Выдавливаю снисходительную улыбку:
– Пабло, я понимаю, что это не Штаты. Но и мне уже не пятнадцать. Со мной ничего не случится. Вернешь меня вечером к отцу в целости и сохранности.
«Вернешь меня в целости и сохранности» – когда я произносила это, я, действительно так думала. Да и кто бы мог подумать, что будет иначе?
Выбравшись из машины, я решительным шагом двинулась к растянувшимся по всей площади торговым развалам.
Если вся страна казалась мне тогда сплошным хаосом, то этот бедняцкий рынок на окраине города уж точно был его эпицентром. На относительно небольшой территории, напичканной лавками и прилавками, торговали, чем попало и как попало. Плотные ряды, забитые толпами местных жителей и густая, непродыхаемая вонь, рождали в моем разнеженном чистоплюйской средой сознании ассоциацию с разлагающейся падалью, кишащей личинками мух. Усилием воли я подавила начинающийся приступ тошноты и, стараясь дышать ртом и как можно меньше, отважно погрузилась в эту чуждую мне атмосферу.
Ассортимент товара, представленный на этом рынке, был достаточно широк, но настолько… необычен, что в большинстве случаев я даже не знала, что это и для чего. Скорее всего, рынок был в основном продуктовым, но лежащие на прилавках «продукты» не только не выглядели съедобными, но и делали невыносимой саму мысль о приеме пищи… «Наверное так местные бедняки справляются с голодом» – тогда подумала я, – «посмотрят на все на это, вдохнут «аромат» и готово».
Невольно задержалась у одной лавки, где молоденькая приятная девушка торговала чем-то тушеным. Причем это «что-то тушеное» по внешнему виду подозрительно напоминало языки… Да – да, обычные человеческие языки, вынутые из колбы с формалином какого-нибудь медицинского учреждения и теперь плавающие вздутыми белесыми мешками в густой тиноподобой подливке. Девушка заметила мой интерес к товару и радостно защебетала:
– Покупай! Отдам недорого! Очень свежее!
– А что это? – спросила я.
– Как, что? Хокон.
– Простите, а из чего приготовлен?
– Как, из чего? Из курицы, конечно.
Ее пояснение немного меня успокоило, хотя аппетита так и не вызвало.
– Хорошо. Мне сначала показалось, что это «Ri winaq aq’», – кажется, как-то так пришедшая мне на ум ассоциация произносилась на одном из местных диалектов, и почему-то мне захотелось все-таки попробовать прикинуться «своей» перед этой симпатичной юной индианкой. Тут же подумала, что такое замечание в адрес ее стряпни могло прозвучать обидно, но…
– Нет, что ты! Это просто хокон, – простодушно и вовсе не обижено засмеялась девушка.
– Thanks God, – буркнула я себе под нос, теперь уже по-английски.
– А то, что ты ищешь, продается чуть дальше, в пятом или шестом ряду, – с радостью сообщила она.
Настала моя очередь нервно усмехнуться. Конечно, я приняла это за шутку. Но шестое чувство настоятельно рекомендовало мне не ходить и не проверять достоверность ее слов. В противном случае я рисковала сильно разочароваться не только в национальных кулинарных изысках, но и в местном чувстве юмора.
Вместо этого я пошла по тому же ряду. К счастью, пощадив мое обоняние, дальше так называемая «продуктовая» часть заканчивалась, и перед моим удивленным взором предстали развалы, пестрящие национальной одеждой и предметами народного промысла. Это место вполне могло заменить этнографический музей – поработать немного над инфраструктурой, помыть все, почистить, и можно смело водить сюда на экскурсию туристов, жаждущих приобщиться к местному культурному колориту.
Посчитав, что с меня на сегодня довольно впечатлений, я направилась туда, куда и велел отец… А он-то лучше знал, куда мне нужно идти, и что делать, чтобы адаптация к забытой родине прошла как можно мягче. Но и он просчитался. Не подумал, что адоптироваться мне нужно будет не только к своей родине, но и к родному дому, и даже к нему – моему родному отцу… Этот наш с ним утренний разговор все еще назойливо крутился у меня в голове, вызывая все большее смятение и злость. Восемь лет разлуки – и вот он, итог: полчаса беседы во всей красе обнажившей его родительское непонимание, неодобрение и властолюбие. Всегда ли он был таким? Стала ли я совсем другой, чтобы, наконец, заметить? Заметить, но, увы, не иметь силы перечить. Та, другая я никогда бы не уступила ему, вела бы себя жестче, увереннее. А эта – вдруг растерялась, изобразив из себя пай-девочку. Из-за нее я теперь кусаю локти, снова и снова прокручивая в голове утренний разговор…
___
– Ты проходи, присаживайся, – отец жестом приглашает меня в свои владения, в свою «святую-святых» – в свой кабинет, – С тех пор, как ты вернулась, у нас так и не было времени нормально поговорить.
– Времени не было у тебя, папа. А я, пока, свободна, как ветер.
– Это-то и пугает, – лукаво улыбается он, – И об этом я тоже хочу с тобой поговорить.
С любопытством озираясь по сторонам, я переступаю порог, погружаюсь в одно из кресел – такое огромное, что мне становится как-то не по себе. Ощущение, будто я залезла в разинутую пасть кашалота, готового в любую минуту меня проглотить. Странно, но сродный с этим дискомфорт мне внушает и обстановка самой комнаты. Что- то здесь определенно изменилось за 8 лет моего отсутствия, хотя я не могу определить, что конкретно. Тут словно усилилась концентрация роскоши, став теперь до невыносимости угнетающей. Может, я просто отвыкла? Или все кажется мне таким громоздким и перенасыщенным лишь в контрасте с моей неказистой жизнью в общежитии?
Отец не спешит с разговором, неторопливо набивает свою трубку, давая мне время освоится. Оно не идет на пользу. Все больше ерзаю в кресле, пока, наконец, не вжимаюсь в его туго обтянутую кожей спинку, словно загнанная в ловушку мышь… Что же все-таки не так? Что изменилось? Как говориться, дьявол в деталях – его я и пытаюсь найти, всматриваясь, изучая, вспоминая, сопоставляя…
Новая мебель, разросшиеся книжные стеллажи, мягкий еще не затоптанный и не затертый ворс ковра, гобелены, струящиеся отблеском глубоких коньячных оттенков, звон хрустальных льдинок канделябра – не столько слышимый, сколько ощутимый от лязганья кружащихся в голове слов «блеск, лоск, глянец – блеск, лоск, глянец»… Но не пронзает, не звенит свежей легкостью, а будто стынет и вязнет в воздухе – в тугом, тягучем парфюме из лакированной древесины, кожи и табачного дыма. Даже едва просочившиеся нотки сочных трав и сладость цветов из сада, занесенные ветерком сквозь распахнутое окно, тоже увядают, задыхаются, раздавленные этой тяжелой горечью.
Отец закуривает, переводит на меня свой внимательный взгляд. А я понимаю, что это еще одно воплощение того, от чего я безнадежно отвыкла.
– И все-таки, почему ты решила вернуться?
И легкая сеточка морщинок на его худом лице чуть подергивается в улыбке, скрывающей непроизнесенное в слух: «Весьма неразумный поступок».
– Не знаю… Все-таки это моя родина.
– Что ж, справедливо, – а его живые проницательные глаза словно договаривают: «Хотя и глупо», – Впрочем, сейчас или никогда. Боюсь, очень скоро границы между нашими странами могут оказаться закрыты. И хотя я искренне полагаю, что в Штатах у тебя было бы больше возможностей для самореализации, твой патриотизм тоже достоин похвалы. Но об этом мы поговорим в другой раз. Сейчас меня интересует, чем ты думаешь заняться на «своей родине»?
– Я еще не думала об этом, но, наверное, пойду работать в больницу.
– А вот это не самая удачная идея.
– Но я 8 лет училась на врача и…
– Знаю, знаю, сейчас ты скажешь, что у тебя есть и диплом, и призвание, и желание, но… – и устало разводит руками , подразумевая что-то вроде: «Ты же понимаешь, это была всего лишь твоя детская блажь, которой я имел неосторожность потакать. Только пора бы уже повзрослеть».
– Да, у меня диплом врача. Честно полученный диплом с отличием. Какие тут могут быть «но».
– Медицинская сфера не в моей компетенции.
– Ну и что? Главное, что я в ней компетентна.
– Ты понимаешь, о чем я. Я не смогу устроить тебя на нормальную должность – там выбирают по особым критериям. А быть сиделкой или медсестрой… – улыбка на его лице переходит в ухмылку, ухмылка спадает в брезгливую гримасу – две глубокие рытвины, вонзившиеся в уголки опустившихся губ – быстро скрытую за взятой в рот трубкой.
– И что ты предлагаешь?
– Я поговорил о тебе с мистером Граузом. Он готов принять тебя. Младший специалист финансового отдела – это для начала. А на будущее, огромная перспектива карьерного роста.
– Папа, это не мое.
– Откуда ты знаешь? Ты же еще не пробовала. Его компания до сих пор считается весьма успешной. И я получаю с ее акций неплохие дивиденды. Ну и впоследствии, у меня есть определенные планы относительно нее.
«Хочет прибрать к рукам» – догадываюсь я, хотя вслух произношу чуть мягче:
– Планируешь выкупить фабрику у Мистера Грауза.
– В общем-то, да. С нынешней политикой иностранные капиталисты здесь долго не продержатся, и будет обидно упустить такую золотую жилу.
– И ты хочешь, чтобы я потом работала на тебя?
– Не «на меня», а «у меня». Или, лучше сказать «со мной». Это разные вещи.
– Не думаю, что…
– Так подумай, – резко перебивает он, – Я не прошу многого. Поработай у него хотя бы годик. Присмотрись. Ну, а если не понравится, тогда поступай, как знаешь.
– Я итак знаю, что моя стезя – медицина. И я согласна начать с должности обычной медсестры.
Он опять недовольно морщится, встает из-за стола, приглаживает и без того гладко зачесанные назад густые черные волосы с аристократичным вкраплением седины, отходит к окну.
– Я изрядно похлопотал, уговаривая Грауза принять тебя на эту должность. Не ставь меня в неловкое положение.
– Ты мог бы для начала посоветоваться со мной, – замечаю я.
– Я хотел быть уверен, что он тебя возьмет, прежде чем предлагать столь заманчивое место. Послушай, я прошу – только год. Ради меня…

