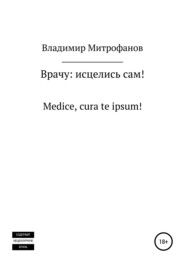 Полная версия
Полная версияВрачу: исцелись сам!
Только успеет ли он написать, и можно ли это будет прочитать, или все написанное пропадет?
Люди неизбежно умирают, а их вещи еще какое-то время продолжают жить, тоже постепенно исчезая из этого мира. Собираемые годами коллекции после смерти хозяев распродаются, вещи за бесценок идут в комиссионные магазины, бумаги засовываются в сараи, на чердаки, а потом неизбежно сжигаются. В отсутствие владельцев имущество их вдруг внезапно дряхлеет и приобретает неистребимый запах. Замечено, что дом, когда в нем не живут люди, очень быстро разрушается.
Наглядный был тому пример: школьный учитель Борискова по истории Петр Григорьевич Лобанов, светлая ему память. Всю жизнь он собирал марки и создал выдающуюся коллекцию. Но как только Петр Григорьевич умер – тут же, чуть ли не на следующий день после похорон, дети его отнесли коллекцию в комиссионный магазин – ну, хоть сколько дадут. Для них эта коллекция не стоила ничего – это была только разрисованная бумага, причуда старика. Впрочем, другие коллекционеры тут же воспользовались редкой возможностью получить кое-что ценное почти даром. А ведь Петр Григорьевич свою коллекцию обожал, трясся над ней. Это был его мир – где-то они с такими же фанатиками собирались, менялись, делали гашения, листали каталоги, спорили. И этим он жил все свои последние годы и вечерами допоздна сидел над альбомами за столом, заваленным лупами, пинцетами, зубцемерами, долго рассматривал какую-нибудь редкую марку, улыбался, радовался удачному приобретению, горевал, когда видел оторванный зубчик или слишком грязный размазанный штемпель гашения. А какие были названия каталогов: "Михель", "Ивер"! Каталоги, кстати, тоже тут же сдали в букинистический магазин, а что-то удалось продать через газету "Из рук в руки". Какие-то деньги они выручили, и им показалось, даже немаленькие, поделили и тут же потратили: сын купил подержанную машину, а дочь с зятем – новую кровать.
Считается, что вещи хранят энергию прежних владельцев, поэтому многие люди просто физически не могут пользоваться не то, что чьей-то старой одеждой, но и даже мебелью и, тем более, украшениями из камней. Существует теория, будто бы в кристаллах сохраняются какие-то энергетические влияния. Старые украшения считается возможным носить только в тех случаях, если это подарок дочери от матери или же преподнесенный любимым мужчиной. Говорят, камни хранят энергию их владельцев, поэтому носить чужие драгоценности опасно. Но наверняка существуют какие-то способы очистки. Раньше, говорят, драгоценности закапывали в землю, но не факт, что это помогает. Однако, несмотря ни на что, женщины все равно будут жаждать бриллиантов. Один знакомый Борискова, чтобы уговорить очередную подружку на близкие отношения, обычно покупал в ломбарде какую-нибудь золотую безделушку (колечко или кулончик), чистил ее нашатырем, затем подкупал к нему новый футляр, красиво упаковывал и дарил девушке вместе с букетом. Получалось и относительно дешево и в то же время шикарно. Девушка тут же соглашалась на многое, точнее, на все. Женщины почему-то чрезвычайно падки на золото и цветы. "Что самое смешное, получается не очень-то и дорого", – уверял даритель. И, самое главное, женщине не обидно. Драгоценности ей пригодятся, и в то же время не останется неприятного осадка, что ее купили, как возможно показалось бы, если бы ей просто заплатили за секс деньгами. В результате, она не чувствует себя обделенной.
Впрочем, Борисков знавал людей даже и постарше того восьмидесяти пятилетнего кашлюна. Один из них был известный разведчик (или, точнее, шпион?). Ему было уже аж девяносто пять. В годы войны он был связан с известной "Красной конторой". До сих пор нельзя было понять, был ли он разведчиком, то есть работал на нас, или же шпионом, то есть работал на гестапо, или же на тех и на других. Сразу же после войны "Смершем" было проведено специальное расследование, которое ни к чему не привело, хотя его все равно на сколько-то лет посадили. Была какая-то невнятная информация, что он, будучи связан с французским сопротивлением, сдал оттуда немцам нескольких человек. Любопытно, что он лично знал легендарного шефа гестапо Мюллера. О чем они говорили? В нашем представлении Мюллер это был просто людоед. О чем можно было говорить с людоедом?
При всем том, что подготовка разведчиков, работающих за границей, перед войной была довольно слабая, он там успешно работал вплоть до окончания войны. Теперь он остался один, почти ста лет от роду, и никто уже никогда узнает, кто он был и за кого на самом деле. Он даже русским-то не был, а по легенде вообще считался то ли уругвайцем, то ли парагвайцем. Он хотел, точнее его родственники хотели, чтобы ему за прошлые заслуги непременно дали звание Героя Советского Союза. Суть же дела состояла в том, что Герою ныне от государства положено довольно неплохое ежемесячное содержание. Скорее всего, это был очень хитрый человек, который работал на всех одновременно. В той чудовищной бойне он должен был выжить, и он выжил, несмотря ни на что.
Жизляй рассказывал, что у него однажды лежал с сердечной недостаточностью пациент из Прибалтики, который вообще был бывшим легионером СС. Жизляй в конечном итоге не удержался и вступил с ним в диалог и спор, упомянул и про Нюрнбергский трибунал, казалось бы, поставивший все точки над "и", на что ему бывший легионер ответил примерно так:
– Что вы мне про Нюрнбергский трибунал говорите, доктор! Для меня, что Нюрнбергский, что Гаагский – суть ничего не значат. Собрались победители и стали судить. Там, на таких судах, насудят так, как им скажут сверху. Или не так? Почему я должен свою жизнь оценивать с этим, ими же, победителями, созданным трибуналом? Знаете такую замечательную фразу: "А судьи кто?" Это что, Господь Бог его создал, этот трибунал? Я воевал потому, что ненавидел коммунистический режим, который отнял у меня все и погубил всех моих близких, и воевал я конкретно с ним. А с кем я еще должен был воевать? С немцами? Они-то как раз у меня ничего не отнимали и ничего плохого мне не сделали. У меня все забрали конкретно большевики. Мы тогда воевали вовсе не за немцев – мы воевали за себя, а это значит, к нам нужны и мерки другие. А победи немцы, ведь был бы совсем другой трибунал, например, Московский или Смоленский, и судили бы там с той же помпой Сталина, Молотова, Хрущева и кучу их подельников. И представили бы массу доказательств их несомненной преступной деятельности. Мой родной брат сидел в Казахстане и рассказывал, что их после того, когда они высказали протест, поставили во дворе на колени, а охранник ходил и стрелял в затылок, кому считал нужным. Он что, лучше того немца, который стоял на вышке в Освенциме или где там еще? Гуманнее? Но его почему-то не судили. А почему?
Злобный был такой дед. Жизляй только рот открыл. Впрочем, деда подлечили, и он благополучно выписался.
К этой самой истории можно было бы добавить и следующее. Однажды Борисков осматривал одного немецкого старика явно из военного поколения, опять же с туристического лайнера, привезенного "скорой" с сердечным приступом. У него в левой подмышечной области был будто бы след от ожога, который в истории болезни так и обозначили, хотя он свое героическое прошлое никак не выставлял и удостоверение инвалида войны никому в лицо не тыкал. Дед тот был довольно крепкий. Борисков что-то такое пытался вспомнить, ему когда-то говорили про такие вот шрамы, но точно вспомнил только уже когда старик ушел. Ему когда-то давно рассказали о том, что все члены СС имели подмышкой татуировку с руническим знаком. После войны, чтобы не иметь понятные неприятности, такие татуировки сводили, однако шрам оставался уже навсегда. Мог ли тот старик быть бывшим эсэсовцем? А если и был, то что? Является ли ныне преступлением служба в СС или в немецкой армии во время той войны? Существует ли и каков срок давности? Наполеон – он плохой или хороший? А Иван Грозный? Или уже всем все равно?
Еще наблюдался один пожилой человек с действительно странной судьбой. Он в войну был еще мальчишкой, – четырнадцать лет исполнилось в сорок первом, – и под призыв поэтому он не попал, а поступил в диверсионную школу Абвера для подростков-шпионов. Идея в общем-то была гениальная, которую и наши широко использовали: ребенок и подросток менее приметен и не вызывает чувства опасности в отличие от мужчины от восемнадцати и до сорока. Да и задача была простая: разведка, что где стоит и что где находится, и мелкие диверсии. Узнай в Смерше, что он там вообще учился, в любом случае ему было бы несдобровать: засунули бы в колонию, да и клеймо осталось бы в личном деле на всю жизнь. Поэтому он после войны взял чужие документы и даже никогда не писал в анкете, что вообще был на оккупированных территориях, да особо никто и не обращал внимания, поскольку в партию он вступать не собирался, как и не стремился работать на режимных секретных заводах. И еще сразу после войны он отслужил в армии, и это сыграло в его биографии очистительную роль. Детством никто никогда не интересуется, оно занимает в автобиографии всего-то две фразы: родился там-то, в таком-то году закончил школу. А вот далее уже подробнее, где служил, где работал, где учился, номер диплома…
Главное тогда было не высовываться. Иногда именно случайные проверки выявляли нежданное. Борисков вспомнил, что они как-то были на врачебной практике в одной из периферийных районных больниц. Одно время эта больница была образцово-показательная, ей управлял главный врач, кстати, тоже грузин, человек в административном деле чрезвычайно талантливый. Все сотрудники его просто обожали. В больнице был сделан хороший ремонт, для сотрудников построена загородная база отдыха с баней и лодками. Все было очень хорошо, и вдруг его решили представить к званию Героя социалистического труда. Начали проверять документы, и тут оказалось, что он вообще не имел диплома врача, то есть диплом был им куплен, а по образованию он был просто фельдшером. И тогда его обвинили в присвоении денег, то есть в похищении разницы в зарплате между врачом и фельдшером и, отстранив от должности, посадили. Впрочем, было ясно, что такой человек и в тюрьме не пропадет. А больница тут же после его ухода и захирела. Немного не дотянул он до капитализма, а то бы сейчас процветал бы. А скорее всего он давно уже освободился и процветает в новых условиях.
Кстати, еще один дед Жизляя, который по матери, перед войной был репрессирован и расстрелян, поэтому все, что касается эпохи Сталина, Жизляй не переносил по чисто личным причинам. От деда же Борискова осталась только одна военная фотокарточка, хотя и очень качественная, четкая. На ее обороте была невнятная затертая карандашная надпись, что-то про действующую армию, но дата определялась ясно: 4 апреля 1942 года. Дед, которому было сорок лет, в шинели еще без погон, в зимней шапке и в рукавицах, в начищенных сапогах стоял на фоне стены какого-то то ли дома, то ли, скорее, сарая из досок, набитых вкривь и вкось, – стены, которой ни в какой европейской стране, наверняка, просто днем с огнем и не найдешь. Сзади его видны были стоящие на земле сани – и тоже насколько раздолбанные, что с трудом можно было их и распознать. Во всем была видна такая несусветная бедность, которую трудно себе и представить. Интересно, где же это все-таки было снято? Впереди были еще три года войны. Что-то такое в семье упоминали про Ржев. Подсчитано, что в лесах под Ржевом было убито около миллиона наших солдат. Ныне считается, что это была отвлекающая войсковая операция.
Из того военного поколения приходил еще такой дед Филиппов. Он считался узником фашизма и в качестве компенсации получал от немцев довольно неплохие деньги. Он тоже в войну был еще подростком, и в его рассказах была масса нестыковок, что впрочем, как раз и говорило о том, что нечто реальное в этих рассказах было, а если кое-что и придумано (или, правильнее сказать, домыслено) то лишь только небольшая часть. Ведь даже кино и видеосъемка лишь в какой-то мере являются фактом. Поэтому суды и не любят съемку, а любят свидетелей, хотя свидетели лишь по причине того, что они всего лишь люди, всегда что-то обязательно наврут. Семнадцатилетний Филиппов был угнан в Германию, работал там несколько лет на ферме у хозяина, и рассказывал, что жить там было не только не хуже, чем у них в колхозе, а даже гораздо лучше. Немцев он с тех пор очень уважал. У него там даже подружка была, правда не немка, а француженка, и, с его слов, очень даже хорошенькая. Да и сам он был тогда ничего. Осталась даже фотокарточка. Теперь же это был одышливый старик. Трудно было найти что-то общее с ним теперешним и тем пареньком с фотографии военных лет. В колхоз назад он никак не хотел и собирался уйти со своей француженкой к ней во Францию, но попал в советскую зону оккупацию, и его оттуда уже не выпустили. Француженку выпустили, а его – нет. Маленькая трагедия среди океана человеческого горя.
Еще как-то лежал в отделении такой Мельников Николай Иванович. Это был реально великий человек, бывший партизан, Герой Советского Союза. Дожил до девяноста, и умер не так давно. Теперь его обвиняли в приписках боевых операций и неправомерном получении звания Героя Советского Союза, поскольку награды тогда давали за определенные боевые успехи. Якобы он приписал себе лишнюю пару пущенных под откос эшелонов. Что ж, если и так. Игра, конечно, была рискованная, но ведь она дала прекрасный результат – обеспеченную и почетную старость. Жизнь его вообще была сплошная авантюра. Во время войны долгое время он находился далеко от центральной власти, и в его отряде царил полный произвол. Он был глава этого маленького государства, где единолично казнил и миловал. Он испытал краткое бремя полновластия. Была в отряде одна парочка влюбленных; Мельникову понравилась женщина, и тогда он ее мужа послал на почти заведомо невыполнимое задание, и того там убили, а потом все сделал так, чтобы она после этого стала жить с ним в командирской землянке. Он всегда добивался своего. Кстати, у него самого была законная жена и дети, кажется двое, которые были эвакуированы куда-то в Сибирь. Был ли он злодеем? Война – вообще ужасная вещь. Откуда-то вылезают люди, которые распрекрасно себя чувствуют именно в этой среде, другой им и не надо. Вне войны они, возможно, сидели бы по тюрьмам, маньячили, спивались, а тут они – воины, герои, которым дано легальное право насиловать, убивать и грабить.
Кстати, в войну за сбитый одномоторный самолет пилоту давали тысячу рублей. За эти деньги летчики покупали в соседней с аэродромом деревне литр самогона. За сбитый двухмоторный давали уже две тысячи.
Партизанская война в некоторых местностях строилась на том, что в район выбрасывали диверсионную группу НКВД, которая занималась рекрутированием в партизанский отряд граждан из местного населения, по ходу дела уничтожая полицаев, других представителей оккупационной власти и самих немцев. Наличие мирной обстановки на территории считалось явлением недопустимым. Вся страна воюет, а эти гады ждут, когда их освободят – не выйдет! Все это вело к проведению показательных актов жестокости. В одном из оккупированных районов был негласный договор между населением и немцами: вы нас не трогайте и мы вас не тронем. Там было создано что-то типа коммунизма – общества без денег, с местным самоуправлением, даже театр работал. Никаких партизан не было и в помине. Работала торфяная фабрика, поставки торфа немцам осуществлялись бесперебойно, поэтому необходимости репрессий с ихстороны не было. Все местные жители хорошо понимали, что если есть партизаны – есть и каратели. А в таких ситуациях местным жителям всегда достается. В то же время в одном из соседних районов постоянно убивали полицаев, потом захватили несколько немецких солдат и убили их всех, да еще так: привязали живых к деревьям, облили им ноги бензином и подожгли. Спросите – зачем? Ответ: война, нужно чтобы было еще большее ожесточение. Другие немцы, увидев это, разозлились и сожгли ближайшую деревню вместе со всеми ее жителями. Тут произошло уже обоюдное ожесточение. Перепуганные жители из других деревень потянулись в леса, в партизанские отряды. Поставленная задача была решена.
По каким-то неустановленным причинам, видимо заложенным в саму природу человека, воюющие стороны при некотором существовании вне непосредственного боя имеют тенденцию сближаться, замиряться, брататься и вообще пытаться существовать мирно, по тому же самому принципу "вы нас не трогаете, и мы вас не трогаем". Это обычно происходит на уровне простых солдат, что руководство армиями совершенно не устраивает. По их высокому мнению, тоже вполне, казалось бы, логичному, солдаты должны воевать и погибать. А не тормоши их, так они в окопах напротив друг друга могут сидеть годами: хозяйством, даже женами и детьми обзаведутся, только их корми, да пои. Тут же неизбежно начинает падать дисциплина, идут брожения, появляются ненужные мысли. Людей вообще надо постоянно чем-то занимать. Копание и зарывание ямы имеет свой смысл. Оставь без дела группу молодых парней – они тут же все напьются, обязательно куда-нибудь полезут за девками, начнут играть в карты, мучить кого-нибудь из слабых. Многие чудовищные вещи делаются просто от скуки. Поэтому и происходило постоянное стравливание солдат, которые по каким-то причинам не особо-то и хотели погибать. Нужно было держать их в постоянном напряжении. Например, за восемь дней в начале сентября 1941 года в 11-й дивизии под Ленинградом было убито всего 90 человек. Солдаты писали в письмах: "Наконец-то нам дали немного отдохнуть". Причем, так писали с обеих сторон фронта. Такое маленькое количество потерь обеспокоило начальство, и командир батальона Зотов был снят со своей должности за "необеспечение огневой активности".
Во время провальной Керченской десантной операции комиссар Лев Мехлис приказал убивать всех немцев. В захваченном госпитале зачем-то прибили гвоздями язык немцу-врачу и перебили всех раненых. Объяснимо: око за око, зуб за зуб. Сейчас понятно, что людей мучили специально, чтобы вызвать у них ответную жестокость, ожесточить их. Это обычное дело для любой войны. Важно было помучить, например, засунуть в член стеклянную трубку и там раздавить, вбить кол в глотку и тому подобное, – по сути, совершенно бессмысленные вещи. И кто-то ведь это делал. И тут же катилась ответная реакция: "Ах, вы так, ну, держитесь!" И опять же цель достигнута: люди, как собаки, были стравлены, и им уже не остановиться.
Один ветеран как-то сказал Борискову, тогда еще совсем молодому врачу, относительно того знаменитого партизанского командира:
– Ты не особенно-то верь Мельникову – он все врет! Он всегда все врал. И Героя и инвалида войны он получил ни за что.
Это были ветераны. А вот следующий пациент Гейро Александр Федорович представлял уже послевоенное поколение. Это был уже довольно пожилой, но очень богатый человек. Перед самым выходом на пенсию он еще успел поучаствовать в приватизации и отхватить немалый кусочек своего родного предприятия и посему, выйдя на пенсию, продолжал входить в Совет директоров. В результате доход его был очень даже не плохим. В деньгах он не нуждался совершенно, напротив, помогал детям и внукам, главным образом, младшей дочери, которая после рождения ребенка так и не работала. Внучке его было уже девять лет, внуку – два с половиной. Дочь с мужем, который был преподавателем ВУЗа, сейчас думали сделать еще одного. Александр Федорович эту идею очень поддерживал, обещал помочь материально. Внуков он очень любил. Конечно, у него было много денег, но не было предстательной железы. Впрочем, он не особенно грустил и сожалел по этому поводу. В свое время он хорошо погулял, дети у него были, а теперь вот и внуки растут.
Еще другой интересный дед лежал в отделении. Поступил он в больницу с обострением бронхита, а при обследовании была случайно выявлена положительная реакция на сифилис. Так что получилось, что он впервые в жизни подцепил сифилис аж в шестьдесят лет. Его жена, у которой тоже сработал положительный тест, уверяла, что вполне могла подхватить "сифон" и на работе, поскольку работала медсестрой и прекрасно понимала, что на мужа свалить ей вину никак не удастся, хотя поначалу она об этом и подумывала.
Подобные истории с сифилисом вообще в последнее время случались в клинике относительно часто. Например, одна молодая женщина устраивалась на работу продавцом и для получения санитарной книжки в кожно-венерологическом диспансере честно сдала кровь на анализ, который выявил у нее скрытый сифилис. Вызвали мужа, и у него тоже обнаружили. Ситуация была крайне стрессовая и критическая: возникли обоюдные подозрения, рушилась семья. Тогда врач принял совершенно гениальное решение: каждому из членов семьи наедине было сказано, что с высокой вероятностью виноват именно он. Супруги о чем-то своем подумали, каждый вспомнил про какой-то свой грешок, почувствовал свою вину и попытался ее загладить. Дело было замято, и семью удалось сохранить.
Одна давняя знакомая Борискова врач одного районного кожвендиспансера Татьяна Сергеевна Медунова рассказала, что у них там недавно случилась довольно любопытная история. У кабинета венеролога встретились сразу вместе все четверо: муж, жена, любовница мужа и любовник жены. И у всех у них был сифилис.
Многие, получив такой неприятный диагноз, конечно, переживали. Один мужик в возрасте около полтинника, посетовал Борискову:
– Да, здорово лопухнулся! Теперь жена грозит мне яйца отрезать! Обидно, что женщины-то те вроде были на вид были приличные, солидные, не какие-то там сопливки – под тридцать лет. А главное, не повезло – презик разорвался! Два выдержали, а третий – разорвался! Эх!
Впрочем, особенного раскаяния на лице у него видно не было. Просто не повезло человеку, стечение обстоятельств. Он говорил:
– Мужская компания, привезли симпатичных женщин. Что – отказываться? Ведь откажешься – ребята не поймут!
Его к Борискову тогда прислали с высоким давлением.
Борисков постарался закончить прием в эту пятницу пораньше. Дело в том, что в 18.00 у сына в школе созывали родительское собрание. Было уже 17.12, с учетом пробок – доехать только-только притык. В холле школы, пока объяснялся с охранником, встретил Нину Малахову, маму Олегова дружка и одноклассника Мити. У нее тоже были свои проблемы. Борисков от своего Олега знал, что Малахов торговал в школе бутербродами и напитками – то есть своими собственными завтраками, которые ему каждый день собирали мама и бабушка. Завтраки он всегда с собой брал обильные, а потом продавал голодным одноклассникам. У него всегда можно было купить бутерброд с ветчиной или стакан кока-колы. Причем цены были довольно смешные.
Пока Борисков просмотрел объявления, Малахова уже куда-то исчезла, наверно поднялась в класс. Гардероб в это время уже не работал, и Борисков пошел наверх прямо в пальто. Школа, когда-то бывшая императорская гимназия, Борискову очень нравилась даже просто самим зданием: высокие потолки, широкие мраморные лестницы. Сам он учился, считай, что в простой сельской школе постройки пятидесятых годов и такого великолепия никогда до этого не видел. Олег же другой школы не знал и считал эту школу вполне нормальной, а шикарные компьютерные классы и электронные школьные доски как само собой разумеющееся – в порядке вещей.
Родители подтягивались долго, многие опоздали чуть ли не полчаса. Наконец, с трудом начали. Оказалось, что имеется серьезная проблема: дети в классе дерутся друг с другом. Причем даже девочки. Создали в классе кланы, которые враждуют. Классная руководительница говорила: "У нас в прошлом году одиннадцатый класс "А" отмечал выпускной в трех разных местах". "Кстати, может быть, и правильно, а то передрались бы по пьянке-то", – подумал Борисков. Свой школьный выпускной он помнил довольно смутно, но дрались там это точно. Тут же по этому поводу возникла дискуссия и теперь уже чуть не передрались сами родители. Борисков сидел на маленьком стульчике за последней партой и думал о своем. Виктоша, сидевшая рядом (на это собрание пригласили всех родителей, как отцов, так и матерей, хотя половина и вовсе не пришла), ерзала, все пыталась вступить в дискуссию. Борисков пихал ее в бок: "Ты лучше молчи!" В конечном итоге ни к чему не пришли, а под конец собрания как всегда стали собирать на что-то деньги.
Вернулись они домой уже в девятом часу, и Борисков сразу же отправился гулять с Микошей.
В десять вечера позвонил Жизляй и сказал, что этот самый момент по телевизору в записи показывают бой Рината Валеева. Этот известный боксер-тяжеловес когда-то лечился у Борискова с почечной коликой и с тех пор они изредка общались. Жена Валеева и многочисленные его родственники тоже периодически лечились в клинике. Борисков тут же, несмотря на протесты смотревшей очередной женский сериал Виктоши, переключил телевизор на спортивный канал. Там уже шел второй раунд поединка Рината с каким-то негром из Африки. Боксировал Ринат несколько тяжеловато, но бой у негра все же выиграл за явным преимуществом, хотя и сам хорошо получил по роже. Борисков дозвониться до него не смог, и тогда из вежливости послал ему SMS-сообщение: "Смотрел бой. Здорово!" И тут, раздеваясь, он с удивлением обнаружил на себе монитор. Надо сказать, что к подвешенному на шее монитору Борисков привык удивительно быстро, однако когда снял одежду, настроение тут же испортилось.



