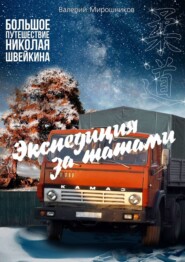скачать книгу бесплатно
– В среду, послезавтра, в 10.15, – педантично ответил Шрайбикус. – И, ребята, раз уж мы все здесь собрались, я бы хотел задать вам несколько вопросов, paar Fragen[11 - Пара вопросов (нем.)].
Вопросы были о педагогической системе Швейкина. Воспитанники многое рассказали о тренере. Шрайбикус исписал блокнот вплоть до обложки.
Артем Швыркалов: Было строго запрещено пропускать тренировки. Нога болит, голова или живот. Звонишь Николаю Григорьевичу: «Можно я на тренировку не приду?» – «Нет, нельзя». Приходилось ехать заниматься. А после тренировки уже ничего не болит. Домой довольный едешь. Я теперь точно также поступаю со своими воспитанниками – чем дома сидеть, можно побыть на тренировке, с пацанами упражнения поделать, которые не во вред здоровью. Это важный фактор в воспитании спортсменов, чтобы всегда держаться командой.
Роман Терзиян: Я помню, как меня самого дедушка Николай Григорьевич приучал к спорту. В совсем маленьком возрасте он мне сделал боксерскую грушу и турник. Когда мы переехали в Казань, Николай Григорьевич меня спросил: «Хочешь заниматься дзюдо?», а я так был приучен, что слово отца, деда, слово старших мужчин было законом. В 3—4 классах самостоятельно из центра ездил в Ново-Савиновский район на тренировки на автобусе, и это было в порядке вещей. Пару раз заблудился, приходилось как-то выруливать.
Артем Швыркалов: Мы не понимали, конечно, значения всего того, что делал с нами тренер, считали его слишком строгим. Но чувствовали, что это во благо и это с любовью делается. Николай Григорьевич стремится, чтобы его воспитанники были примером для всех. Он обращает внимание на любую мелочь. На сборах, бывало, тихий час, а нам не спится. Даже если один кто-то не спит, а сидит на кровати или ходит по комнате, Николай Григорьевич поднимает всю комнату, и вместо тихого часа бежим кросс на полтора часа. Думаешь: «Блин, опять Григорьич застукал!».
Михаил Данилян: В клубе очень мощная воспитательная составляющая, я больше нигде не видел такого. Это гораздо шире, чем просто тренировки. Например, на сборах у нас в тихий час идут лекции. В понедельник я читал лекцию «История воинского обучения». Роман рассказывал про профессиональную борьбу. Артем рассказывает о чем хочет, ему темы не пишем. Это называется «Швыркаловские байки».
Илья Морсков: Наша цель в развитии массового дзюдо до того уровня, что мы видим в Японии и в Европе. Дзюдо развивает не только все группы мышц, но и координацию, ловкость, интеллект. Это очень красивый и техничный вид спорта. Он просто полезен в быту, когда у нас человек может поскользнуться на льду и упасть, ему пригодится умение падать, освоенное в дзюдо. Но что самое главное у нас в клубе – это воспитание через спорт и патриотизм наших детей настоящими людьми. Это особенно важно в наше время, когда молодежь выбирает не тех кумиров, когда наглость проявляется даже в 14—15 лет, а что из этих ребят будет дальше?
Михаил Данилян: Я не скажу, что мы стараемся превратить всех своих воспитанников в идеальных людей. Своим ребятам говорю, что если через 15—20 лет мы встретимся и будем рады видеть друг друга; мне не будет стыдно сказать, что это мой воспитанник, им не будет стыдно сказать, что вот мой тренер – то все хорошо. Неважно, станет ли парень крутым спортсменом, чемпионом. Важно, чтобы он стал порядочным, воспитанным человеком. Настоящим мужчиной.
Илья Морсков: Мы, безусловно, все фанаты дзюдо, но не все дети становятся профессиональными спортсменами, а лишь единицы. И эти единицы должны быть примером новым поколениям. Если кого-то «звездная болезнь» подталкивает хамить персоналу спорткомплекса, то такого спортсмена лучше и не готовить, пусть он проиграет и уйдет из спорта. Мы готовим наших ребят так, чтобы они были в меру дерзкими, боевыми – без этого в жизни съедят, общество у нас такое. Но при этом они должны быть доброжелательными, дружелюбными, воспитанными, поступать этично.
Роман Терзиян: Оказалось, люди тянутся, когда видят настоящую работу. Насмотрелись на халатное отношение к своим обязанностям. А у нас как раз то, что нужно молодым: новые веяния, постоянная движуха, поиск своего пути.
Илья Морсков: Можно сказать, что у нас в клубе сформировалась команда единомышленников. Это стало возможно благодаря Роману Эдуардовичу Терзияну, внуку Николая Григорьевича, который всю жизнь с ним, впитал его систему, в нем прослеживаются повадки Николая Григорьевича. Он пригласил и меня, и Швыркалова Артема Сергеевича, который тоже воспитанник Н. Г. Швейкина, вытащен им из самых проблемных слоев. Замечательно вписался в команду Михаил Данилян. Ему тоже помогли стартовать в жизни, помогли с учебой и работой. Прирожденный педагог, как он работает с детьми! Это надо видеть! Я другого такого тренера не знаю!
Роман Терзиян: Миша ищет подходы с научной точки зрения, он прямо этим горит. Из человека, который был, в общем-то, далек от большого спорта, даже на уровне округа не боролся, получился прекрасный специалист, который быстро развивается. У меня другой склад, я привык, что надо пахать, тогда будешь выигрывать. Но надо признать, что помимо пахоты должен быть еще научный подход к восстановлению, к подготовке к соревнованиям.
Илья Морсков: Команда – это еще и отношения между людьми. Мы с Николаем Григорьевичем можем и пошутить, и потолкаться, но если начальник сказал что-то сделать – это не обсуждается. То же самое и в отношении Романа Эдуардовича. Мы с ним одногодки и всю жизнь дружим, но на работе он мой начальник, и я не превышаю свои полномочия. Коллектив у нас по-настоящему крепкий, поэтому и дело ладится.
Большие гонки
Трасса М-7 «Урал». 1979
– Значит, ты с Дитковским сосед? – спросил Николай Иванов, когда КАМАЗ после небольшой передышки снова вырвался на трассу, подбираясь уже к Дзержинску, который вскоре за городом Горьким[12 - Горький – ныне Нижний Новгород.].
– Борис Владимирович – вот уж помог по-соседски! – откликнулся Швейкин. – И тебя вот отправил в дальний путь!
– Да мы с ним гораздо дальше катались!
– Куда это?
– В 1974… да, в 1974 году проходили заводские испытания автопоездов КАМАЗ в Забайкалье – возле Читы и в Бурятской АССР. С февраля по март мы там по горам и перевалам мотались.
– Там же, говорят, такие морозы, что машины осенью заводят, а весной глушат. Если заглохнет – уже не завести, – проявил осведомленность Швейкин.
– Да не очень холодно было – минус 32, – отмахнулся Иванов. – А у нас электрофакельные подогреватели – новинка! Нажал кнопку – и через 2—3 минуты воздух в коллекторах прогревается – заводится как летом.
– Здорово! Здесь у нас такой же?
– Не бойся, не заглохнем! Холодней было, когда на «полюс холода» добирались – поселок Оймякон в Якутии. На модификации «КАМАЗ-Север» даже стекла в кабине двойные, кабина утепленная, все провода морозостойкие, даже последняя отвертка из ЗИПа – с теплоизоляцией, чтобы руки не обморозить.
– Все продумано! Без приключений отработали? – поинтересовался Швейкин.
– По 15 тысяч километров намотали, до Магадана доехали. Все нормально, – ответил водитель.
Потом, словно что-то вспомнив, порылся в бардачке и вынул оттуда пожелтевшую вырезку из газеты со статьей «Забайкальские километры».
– Вот, кстати, о соседе твоем Дитковском – в газете писали. Он тогда еще не завотделом, а контролером работал.
Швейкин развернул вырезку:
«Борис Дитковский в 1971 году окончил Казанский авиационный институт и стал инженером-механиком авиационных двигателей. А пошел на КамАЗ. И, между прочим, не один – с ним еще тридцать комсомольцев-выпускников. Бориса зачислили в отдел главного конструктора на должность инженера-испытателя.
Борис принимал участие в испытании нового автомобиля, начиная с первой серии. Сейчас экзаменуется уже четвертая серия. За это время поработал и на бортовых, и на седельных тягачах, и на самосвалах. В 1973 году проводились государственные испытания основных моделей «КамАЗов» – Борис участвовал и в них.
Дитковский доволен своей специальностью. Ведь от инженера-контролера зависит многое. Контролер ведет путевой протокол, где записывает все показатели приборов, следит за точностью выполнения методик и программ испытаний. Он обрабатывает полученные данные, пишет отчеты, на основе которых делаются заключения о необходимости что-либо изменить или дополнить в конструкции испытываемых узлов».
– Могу добавить, – ожил радиоприемник «Кварц-302», – что Борис Дитковский принимал участие в создании знаменитой команды по ралли-рейдам «КАМАЗ-мастер», а в 2001 году даже был руководителем команды «КАМАЗ-триал», выступавшей на Чемпионате стран СНГ по автотриалу на грузовых автомобилях. Послушайте!
Ведущий: Автотриал – это соревнования по технике вождения, в которых фактором, определяющим результат, является не скорость, а время и точность прохождения сложной трассы.
Ведущая: В качестве препятствий для грузовиков выступают крутые подъемы и спуски, кустарник и лесные завалы, косогоры и овраги, нагромождение камней, заболоченные участки и дно водоемов, завалы из старых автомобильных шин, завалы из бетонных блоков и полуколец, бетонные желоба и волны, пороговые препятствии из металлических и бетонных сооружений.
Ведущий: В 2001 году камазовская команда под руководством Дитковского оказалась в тройке лучших[13 - Подробнее об участии команды КАМАЗа в соревнованиях по автотриалу – https://avtospravochnaya.com/novosti/11963-komanda-kamaz-trial-prinimala-uchastie-vo-vnedorozhnykh-sorevnovaniyakh-foto (https://avtospravochnaya.com/novosti/11963-komanda-kamaz-trial-prinimala-uchastie-vo-vnedorozhnykh-sorevnovaniyakh-foto)].
– Кстати, ты обещал про гонки на КАМАЗах рассказать, в которых летом участвовал, – напомнил начальник экспедиции. Как спортсмена, его, конечно, интересовали соревнования.
– Да, было дело! Только я выступал тогда не на КАМАЗе, а на ЗИЛе, – сказал Иванов.
– Это как?
– Началось все с того, что в окрасочной камере автомобильного завода случился пожар и два автомобиля КАМАЗ-5320 были частично повреждены…
В окрасочной камере автомобильного завода случился пожар и два автомобиля КАМАЗ-5320 были частично повреждены (в основном, пострадали резино-технические изделия, пластик и окраска). После расследования было принято решение о списании указанных автомобилей и использования их в качестве опытных в автокроссах, которые в то время был очень популярны в СССР. Дорабатывали эти автомобили на автомобильном заводе работники БТК цеха комплектации и сдачи автомобилей Александр Юрьев и Виктор Филиппов. Так родилась команда автосборочного завода.
Параллельно возникла команда водителей-испытателей управления главного конструктора, в которой участвовали кандидаты в мастера спорта Александр Чащин и Николай Иванов, перворазрядники Валерий Крынкин, Владимир Чернухин, третьеразрядник Ильдар Мустафин.
8 июля 1979 года в Набережных Челнах впервые состоялся автокросс грузовых автомобилей. Автокросс был посвящен 60-летию комсомольской организации Татарии. Организаторами выступили комитет ДОСААФ города Набережные Челны и комитет ДОСААФ КАМАЗа. В автокроссе приняли участие спортсмены автосборочного завода, управления главного конструктора КАМАЗа, а также гонщики автотранспортного предприятия из города Барыш Ульяновской области и спортивного клуба армии города Куйбышева[14 - Куйбышев – ныне Самара.].
– Наши выступали на КАМАЗах, приезжие – на ЗИЛах. Ради чистоты эксперимента меня тоже посадили на ЗИЛ, – рассказывал Николай. – Но подготовить машину по-настоящему не удалось. Все же это долгая кропотливая работа. Как тебе объяснить? Ты велосипед по весне готовил к сезону – смазывал, выставлял зазоры тормозов, чтобы втулки легко крутились?
– Бывало.
– Вот настроить велосипед, это как шестиструнную гитару для посиделок на кухне. А грузовик – это концертный рояль для международного конкурса. И топливную аппаратуру надо настроить, чтобы мощность двигатель давал, и клапана, и тормоза, и подвеску. Гонка – это испытание на пределе всех узлов автомобиля.
– Понимаю.
Напряжение автокросса не ослабевало в течение всех трех заездов. Ни один из болельщиков не пожалел, что пришлось долго идти к месту проведения кросса.
Первый заезд. Вперед стремительно вырвался ЗИЛ под №118. За рулем – Юрий Колеганов из Барыша. Вслед за ним ринулись КАМАЗы Подняв клубы пыли, они исчезают на трассе. Болельщики встревожены: «Неужели ЗИЛ выиграет у КАМАЗов? Нет. Где-то в середине трехкилометрового круга вперед выходит на своем «КамАЗе» представитель автосборочного завода Виктор Филиппов. Он и финиширует первым, уверенно пройдя пять кругов трассы. Вторым завершает пятнадцатикилометровую дистанцию Валерий Крынкин, третьим приходит Владимир Чернухин, который сумел обойти на трассе многих своих соперников. Ну, а где же №№45 и 118? Анатолий Бигняк, пытаясь обойти Чернухина у самого финиша, немного не рассчитал и натолкнулся на КАМАЗ. ЗИЛ выбыл из борьбы. У автомашины Юрия Колеганова на какое-то мгновение отказал двигатель, чем немедленно воспользовались соперники, оставив его на девятом месте. Товарищ Юрия по команде Николай Николаев финишировал восьмым. Выбыл из игры на своем ЗИЛе и Николай Иванов. Он так и не успел подготовить машину к кроссу.
– Так что я вылетел в первом заезде. Похвастаться мне нечем, – заключил Иванов.
– Ну, а победил-то кто?
– Победила, как всегда, дружба. Автозаводец Филиппов, безусловно, талантливый гонщик, но у нас в управлении главного конструктора – сплоченная команда.
Чтобы устранить неисправность и отдохнуть, гонщикам между заездами дается всего двадцать минут. Как они быстро проходят!
Второй заезд. Теперь в первом ряду выстраиваются четыре КАМАЗа, показавшие лучшие результаты, во втором еще два камских большегруза и два ЗИЛа – машины гонщиков из Барыша. Зрители с нетерпением ждут, как развернется борьба автозаводцев, представителей УГК и гонщиков из Барыша. Впрочем, гости стартуют во втором эшелоне, и, видимо, основная борьба будет между Виктором Филипповым и командой УГК. Представителей управления в первом ряду трое. Смогут ли они удержать лидера?
Старт. Вперед вырывается Крьнкин, за ним идет машина Чернухина. Сумели все-таки соперники заблокировать Филиппова, оставили на третьей позиции. На втором круге машина автозаводца сходит с дистанции – мелкая неисправность. Быстро поднята кабина, повреждение устранено – и машина Филиппова срывается с места. Конечно, заезд проигран, но надо еще заслужить право стартовать в третьем, ведь зачет идет по двум лучшим результатам и не все еще потеряно.
Кто же станет победителем кросса? Филиппов? Крынкин? И какая команда завоюет хрустальный кубок? Это решит третий заезд, в котором принимают участие уже шесть машин… Старт. Вперед вырывается Крынкин, вплотную идет за ним Чернухин, третий – Филиппов, ушедший на трассу со второго ряда. Теперь он борется с соперниками из УГК. Вперед выходит Владимир Чернухин, за ним, прикрывая товарища по команде, Крынкин, третьим следует Филиппов. В таком порядке они проходят четыре круга, а на завершающем Александр Чащин стремительно обходит Филиппова и Крынкина и занимает второе место.
Владимир Чернухин финиширует в гордом одиночестве. Заканчивают дистанцию и представители Ульяновской области. Шумно реагируют на победу КАМАЗов зрители. Творения их рук показали свою мощь, прочность, скорость.
– Три заезда – три разных победителя! Разницу мячей считать пришлось? – пошутил Швейкин.
В личном зачете победителем стал механик команды УГК КамАЗа Валерий Крынкин, второе место – у Владимира Чернухина, третье – у Александра Чащина, дважды финишировавшего вторым. Они получают заслуженные награды. А в общем зачете места распределились так: I место – у первой команды УГК. II место – у второй команды управления, III место – у команды города Барыш Ульяновской области.
Западная мода обливаться шампанским еще не добралась до советских спортсменов, поэтому они скромно отмечали свою победу, демонстрируя зрителям почетные грамоты и завоеванные призы! За первое место стильный и дефицитнейший транзисторный радиоприемник рижского радиозавода «ВЭФ» стоимостью аж 93 рубля! Для справки – оклад рядового инженера-конструктора в 1979 году составлял 115 рублей. За 2-е место – электробритва! За третье – самовар, не поверите – на углях!
– Эх, жаль не посмотрел я вашей гонки! – воскликнул Николай.
– Посмотришь! – успокоил его водитель. – Обещали сделать этот кросс традиционным.
– К сожалению, этого не случится! – встрял в разговор радиоприемник «Кварц-302».
– Это еще почему? – недовольно нахмурился Иванов.
«Кварц» немного пошипел, отыскивая подходящую волну и заговорил голосом радиоведущей.
Ведущая: Стоит сказать, что первый камазовский автокросс в Набережных Челнах оказался и последним. Ибо после критической статьи в газете «Правда» в 1980 году «Почему грузовики летают?» автомобильный кросс на грузовых автомобилях в СССР канул в Лету. А до африканского дебюта КАМАЗов оставалось еще долгих 10 лет…
– То есть погонять нам на КАМАЗах больше не придется! – вздохнул водитель.
Первопроходцев трудности не пугают
Владимир – Москва. 1979
Желтые листья усыпали опушки, посреди поднятой зяби стыдливо сбивались в кучки нагие березы и осины, открывая взору необозримые дали России. Наверно за это любил осень Александр Сергеевич Пушкин – за то, что раздвигает горизонты, делая видимым то, что недавно заслоняло лето и скоро снова укроет зима.
– Владимир скоро? – спросил Швейкин, разглядывая «Атлас автомобильных дорог СССР».
– Да уж проехали! – весело откликнулся Иванов.
– Да, вперед и вперед! —кивнул глава экспедиции.
– Вперед и вперед! – откликнулся радиоприемник «Кварц-302».
Ведущая: …шла экспедиция. 31 мая 1979 года семь человек под руководством Дмитрия Шпаро первыми в мире пришли на Северный Полюс на лыжах – экспедиция заняла 76 дней. Там не было сражений с медведями, эпичных спасений и других киношных вещей. Там был долгий глубокий разговор с самими собой о жизни, дружбе, человечности. Дмитрий, расскажите нам как это было?
Дмитрий Шпаро: Все началось с любви к свободе. Когда я был студентом МГУ, многие ребята на самых разных факультетах занимались походами, потому что походы давали свободу. Страна была фантастически разнообразной: можно было легко поехать в Грузию, Сибирь, на Камчатку. Мы собрались пойти к полюсу не в 1979, а в 1973 году. Все было готово, даже программа исследований в помощь ученым, которые готовили космонавтов. Мы должны были изучать психологические проблемы, связанные с большими нагрузками и закрытым коллективом. Но в 1973-м наш поход признали нецелесообразным. Таково было решение ЦК КПСС.
Ведущая: Что было самым трудным во время экспедиции?
Дмитрий Шпаро: Довольно часто встречалась открытая вода – настоящее препятствие, надо было доставать лодки. Труднее всего было, когда случались ссоры внутри группы. Два-три человека могли не разговаривать между собой несколько дней, это очень мучительно в условиях такого путешествия. Каким-то образом извиниться и помириться – довольно сложно. Но были люди с гораздо более легким характером, которые умели не ссориться. Они замечали эти трения и находили способы разрядить обстановку. Эти ссоры были на фоне полной преданности друг другу. Ближе друг другу, чем были мы, быть невозможно[15 - Подробнее об экспедиции – https://story.tutu.ru/peshkom-na-poljus-istorija-velikoj-jekspedicii/ (https://story.tutu.ru/peshkom-na-poljus-istorija-velikoj-jekspedicii/)].
Передачу прервали шум и треск разрядов.
Иванов потряс радиоприемник:
– Ну вот, самое интересное не узнали. Дальше-то что было?
– Самое интересное мы узнали, – философски отметил Швейкин. – Что для любой команды первопроходцев главное – отношения в коллективе. Любой путь – это путь к себе и путь к взаимопониманию. Очень знакомо.
– Что ты имеешь в виду?
– Да хотя бы становление дзюдо в нашем городе. С пустого места же начинали. По подвалам ютились, в школьных спортзалах на птичьих правах. Потом поставили надувной спортзал.
– Так это ваш надувной спортзал стоял возле танцплощадки?
– Точно, наш!
– Вот уж забавная конструкция!
«Забавная конструкция» в городском парке появилась, когда секция самбо, созданная Швейкиным вскоре после прибытия на КАМАЗ в 1972 году, набрала популярность и ей стало тесно в подвалах и школьных спортзальчиках. Заметили это и в профкоме Минмонтажспецстрой, а за неимением возможности быстро построить стационарный спортивный комплекс из Москвы выписали мобильный спортзал, залили для него фундамент.
Спортзал держал форму, пока работали насосы, приводившиеся в движение электромоторами. Отчего каждое утро спортзал, словно древний титан, восставал из небытия, оживал, расправлял суставы и мышцы, набирался мощи и поднимался над деревьями. А когда свет выключали, это исполин постепенно терял форму, оседал и засыпал до следующего включения. Правда, зимой этот процесс выглядел несколько по-другому.
– Иной раз приходишь утром, а спортзал погребен под полуметровым слоем свежевыпавшего снега, – рассказывал Швейкин, бывший в те времена директором спортзала. – Включаешь двигатели, они надувают стены, а снег при этом сползает внутрь, но поднять весь этот сугроб у воздуха силы не хватает. Берем лопаты с ребятами и начинаем выбрасывать снег. В какой-то момент давление воздуха пересиливает и подбрасывает вверх остатки снега и нас вместе с лопатами. Мы летим в разные стороны! А высота-то метра четыре! Такой фанатизм был у ребят к тренировкам, до сих пор удивляюсь! Приходили после смены, тренировались, потом еще шли на дежурство в Боевую комсомольскую дружину. Как мы все это вынесли? Особенно зимой…
– А что зимой? С отоплением проблемы были? – спрашивает водитель, отрывая взгляд от дороги.
– С отоплением была беда! – вздыхает Швейкин. – Мало того, что вечный запах резиновый, так еще летом духота – плюс тридцать, зимой – минус тридцать. Тренировались в шапках и рукавицах. Задумали мы как-то обустроить спортзал. Поставили вагончики для тренеров, для раздевалки, навес, гравий насыпали перед входом, чтобы с грязными ногами не заходить. С отоплением появилась такая идея: подогревать воздух, который моторы качают в стены. Каждый раз, идя на тренировку, все приносили половинки, четвертинки кирпичей, песок носили, цемент – из всего этого построили пристрой. Но тут у нас приключилось ЧП!
Для нагрева прокачиваемого воздуха в пристрой поместили тэны – сами намотали из нихрома. Сначала делали спираль, наматывая на лом. Потом эту спираль накрутили на асбестовую трубу. Метрах в 200 от спортзала – там, где сейчас кинотеатр «Гренада» – стояла хоккейная коробка и трансформаторная подстанция. Самбисты-кулибины подключили к ней силовой кабель – без счетчика, без разрешения – дотянули до пристроя. Временно бросили кабель поверх сетки-рабицы, которой был огорожен спортзал.
Взялись испытывать самодельный тен – сначала спираль оказалась слишком длинной, так что оставалась черной. Ее укорачивали на 5—6 см и проверяли снова. Наконец добились, чтобы она раскалилась докрасна и пылала жаром. Это было счастье – через 2 часа в спортзале уже было тепло. Оставалось только накрыть пристрой бетонным перекрытием.
Поздно вечером приехал кран. Тут же машина привезла плиты – ушки на них были какие-то ненадежные – из толстой проволоки. Да еще их прижало, когда плиты положили друг на друга. Ушки отогнули, что тоже не прибавило им крепости. И конечно же проволока оторвалось, когда плиту проносили над забором с лежавшим на нем кабелем. Какой был фейерверк, сколько треска!
– Ну вы молодцы! Учудили! – заходился смехом водитель. – Никого не убило?
– Хорошо, что никаких луж не было. Никого не ударило, но во всем городе свет погас! Мы быстрей кабель открутили – это же незаконно все было – смотали, и концы в воду. Часа через три начали окна в городе зажигаться. Вроде обошлось. В следующий раз прокопали траншею, провели кабель и закопали, травкой прикрыли.
– Конспираторы! А теплее-то стало?
– Вполне подходяще для занятий. Мы как-то с детства привыкли все делать своими руками, не ждать, когда начальство или взрослые для нас что-то сделают. Помню, еще школьниками в Кыштыме, задумали сделать себе настольный теннис. Возле клуба построили из кирпичей пристрой, там поставили теннисный стол, электричество провели. Все сами. И в надувном спортзале нас ЧП не остановило. Мы там с ребятами рядом со спортзалом вырыли землянку – обустроили баньку с парной на 5 человек, с душем. Обустраивались, как умели!
– Ну, вы бесшабашные вообще!