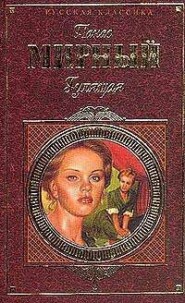скачать книгу бесплатно
– Гляди лучше за своими детьми, а то пришел чужих учить, – ответила она с возмущением в голосе.
– И научу!.. Научу!.. – кричал Грыцько.
– Чему же ты научишь? Ты бы еще лучше залил глаза, так увидел бы больше, – не утерпев, сказала Приська, намекая на то, что Грыцько пришел выпивши.
– А ты мне ничего не говори… И ты ведьма, и твоя дочка такая! Вы только и умеете хлопцев заманивать и околдовывать.
– Каких хлопцев? – удивленно спросила Приська.
– Не знаешь? Прикидываешься святой? А кто моего Федора свел с ума? Кто его напаивал, обкуривал? Думаешь – не знаю? Молчи уж!
И, сердито сверкнув глазами, он хлопнул дверью и ушел.
За одной бедой – другая, к обожженному месту прикладывают огонь…
– Что это, Христя, говорят? О ком? – укоризненно, со слезами в глазах обратилась она к дочери.
Та стояла, как стена, немая, как мел – белая. Ее испугала буча, поднятая Грыцько, устрашил его грозный взгляд, крикливый голос. Она ни слова не сказала матери, да так и залилась слезами.
– Так это правда? Правда? – кричала мать с таким отчаянием, точно у нее сердце разрывалось.
– Мама, мама! Ни в одном его слове нет правды! – рыдая, проговорила Христя.
Приська не знала, чему верить, кого слушать. Мысли в ее голове путались, раздваивались: то чудилась ей страшная буря, вой вьюги, замирающий крик человека; она слышит голос Филиппа, видит его – беспомощного, прячущего закоченевшее лицо в снег… Сердце ее разрывается от жалости. То снова перед глазами Грыцько, упрекающий Христю… Бог ее знает! Разве признается матери провинившаяся дочь?… Ее сердце замирает, словно перестает биться; какая-то тяжесть гнетет ее душу, черной пеленой застилает глаза. Господи, какая мука! Какая невыносимая мука!
Короткий день быстро проходит, настает зимняя длинная предрождественская ночь. Чего только за эту ночь не передумаешь? Сколько мыслей промелькнет в голове, встревожит сердце! А Приська за всю эту ночь и глаз не сомкнула. Как легла с вечера, так до самого утра только и слышны были ее глубокие вздохи и приглушенное всхлипывание. Христя тоже долго не могла уснуть.
Она и хотела, и боялась заговорить с матерью, утешить ее, как в минувшие ночи. Знал Грыцько, когда с ней свести счеты. А жалости у него – ни капельки!.. Как ей теперь убедить мать в том, что она невиновна? Рассказать ей о своих тайных встречах с Федором? Какая же девушка выдаст эту тайну? Было, может, и такое, за что мать, дознавшись, и надрала бы ей косы; а коли не знает, оно и так сойдет… сказать об этом сейчас, когда сердце матери и без того обливается кровью, когда она, может, только и видит перед глазами отца, как провожала его на ярмарку, только и слышала его голос? Тоска и досада заполнили ее душу, ножом вонзились в сердце. Христя молча слушала тяжелые вздохи матери, ее безутешное рыдание. Молодое отзывчивое сердце долго не выдерживает такой ноши, такого горя. Не выдержала и Христя. Сон – не сон, а какая-то дрема начала ее одолевать, закрывала ее заплаканные глаза.
На рассвете проснулась Христя и удивилась, что мать еще до сих пор не вставала. То, бывало, когда Христя проспит, мать всегда будит ее; а сейчас уже утро заглядывает в окно своими серыми глазами, но мать лежит еще на печи, даже не пошевельнется.
«Пусть она поспит, – думает Христя. – Пусть хоть немного отдохнет, пока я управлюсь». На цыпочках ходила Христя, чтобы не нарушить тишину в хате; как назло, солома под ногами шелестела и потрескивала. Христя ступала еще осторожнее. Надо умыться, а воды в хате нет. Она по-кошачьи прокралась в сени, а когда вернулась, мать уже встала; в черном печном закутке мелькала ее серая фигура. Это не мать, не живой человек, а выходец с того света. На ее костлявых плечах сереет сорочка, широкая-широкая, словно с чужого плеча; шея, желтая и сморщенная, как у трупа, будто вытянулась, а под дряблой кожей торчат позвонки; щеки ввалились и отсвечивают восковой желтизной; глаза мутные, как оловянные пуговицы, под ними висят синие мешки, а вокруг – красные круги. Она дрожала всем телом; губы ее что-то беззвучно шептали. Едва не уронила ковшик из рук Христя, когда увидела свою мать.
– Не вернулся?… Нет его?… – искривленными губами произнесла Приська, словно сухая трава прошелестела. Она, видно, хотела заплакать, но не смогла; глаза ее горели лихорадочным блеском, и, как она ни мигала набрякшими веками, ни одна слезинка не показалась.
В обед снова Грыцько явился.
– Ох, Господи, ну и повадился к нам этот дядька! – сказала Христя, завидя Грыцька.
– Где мать? – спросил он, войдя в хату.
– На печи, – ответила Христя. Приська так и не сошла с печи.
– Чего лежишь? Вставай и собирайся в город мужа забрать, – сказал он.
– Чего ж я за ним пойду? Разве он сам не придет? – простонала, поднимаясь, Приська.
– Придет… Жди – дождешься!.. Замерз! – рывками бросал слова Грыцько.
Приську словно ножом кто в бок полоснул. Она рванулась, зашаталась да так и окаменела – хоть бы слово сказала, хоть бы вздохнула! Только обезумевшими глазами смотрела на Грыцька.
Христя тоже растерянно взглянула на него, потом на мать, схватилась за голову, прислонилась к печи.
– Ой, батюшка мой родненький! – в отчаянии заголосила она и вся затряслась.
У Грыцька мороз пошел по коже от этого истошного крика, но он не из таких был, чтобы поддаться чужому горю; шагая взад и вперед по хате, начал рассказывать:
– Как раз в волости был… носил подати… При мне получили бумагу – объявить жене, или детям, или родственникам, чтобы пришли в город признать… нашли в снегу замерзшего… Загнибида признал… Так чтобы взяли похоронить, если хотят… Там у него нашли новые сапоги и еще что-то… В волости хотели нарочного за тобой послать, но я сказал: все равно буду на том конце – зайду и скажу.
Окончив рассказ, Грыцько поглядел на Приську, потом на Христю. Приська молчала, Христя причитывала. Он снова прошелся по хате раз, другой; посмотрел на мать и дочь. Никто не мог бы разгадать, что светилось в его глазах: радость или огорчение? Лицо его как-то перекосилось. По-прежнему слышалось рыдание Христи.
– Вы же слышали? – глухо спросил он и, резко повернувшись, вышел из хаты. Следом за ним, точно укор, вырвался отчаянный крик Христи и замер. Грыцько, тряхнув головой, пошел по улице.
– Ой, леличка!.. [Ласковое обращение к пожилой женщине. ] Ой, мамочка! – голосила Христя, подойдя к матери. – Что мы теперь, сироты, будем делать?
Она глядела на мать заплаканными глазами, а мать на нее – сухими и горящими.
– О, горенько наше! Ой, беда тяжкая! – тужила Христя, прижимаясь к матери.
Приська все так же глядела на нее обезумевшими глазами и дрожала. И вдруг, словно что-то разорвалось, треснуло… Страшный хриплый крик вырвался из Приськиной груди, и неудержимые рыдания потрясли ее. Приська приникла к дочери, обхватила ее голову руками и неистово завыла:
– Моя доченька, моя голубка, пропали мы с тобой навек!
Небо нахмурилось, в хате потемнело. И в этой темноте, точно совы, перекликались мать и дочь. Тонкий выразительный голос Христи переплетался с хриплым завыванием матери, растекался по хате, бился о стекла, стлался по полу. Безысходная тоска, казалось, выглядывала из каждого угла осиротевшей хаты.
До самых сумерек голосили они. Забыли и про обед, забыли обо всем на свете. Однако Здориха, услышав из своего двора их отчаянные вопли, пришла узнать, что у них случилось, и насилу добилась от Христи, что они оплакивают отца. Одарка принялась утешать Приську, говоря, что это еще, может быть, и ложь, – чего только люди не придумают? – но этим еще больше расстроила несчастную, и та зарыдала сильнее. И так ее слезы душат, что слова вымолвить не может. Невеселая и с тяжелым сердцем вернулась Одарка домой.
Смеркалось. Точно серый туман колыхался над землей. В хате черным-черно; только замерзшие окна сереют, как глаза, покрытые бельмом, и тихо-тихо, как в могиле. Умолкли дочь и мать. Всему наступает конец – и слезам, и рыданьям; хрипнет голос, иссякают слезы, каменеет сердце. На смену слезам приходят тяжелые воспоминания, мысли – одна другой безотрадней, безутешней. В сгущающейся темени они ширятся, проясняются; минувшее встает перед глазами, точно оно только недавно пережито; приходят люди – живые люди; слышен их говор – живые голоса, их жалобы, смех, радости, слезы…
Не миновали эти мысли Христю и Приську. Забившись в темный угол, Христя тупо глядела в замерзшие стекла, и на их светлом фоне вырисовывались черты покойного отца… ее отца, низенького, плотного, круглолицего, с рыжими усами и карими добрыми глазами. Такой он был – добрый, отзывчивый; недаром говорят: глаза – зеркало души… Он не только никогда не обижал ее, а бывало, и заступится, когда мать начнет бранить. И с людьми он такой же был – скорее своим поступится, чем на чужое позарится. Мать, рассердившись, бывало, скажет: «Что ты за человек? Ты – мямля, за себя постоять не можешь!» А он ей в ответ: «От бешеного пса, хоть полы отрежь, а беги!» И таким она его помнит всегда: даже нетрезвый – сразу ляжет спать, не так, как другие: на копейку выпьет, а домой придет, все вверх ногами перевернет. И вот теперь его нет… «Где он? Слышит ли наши жалобы? Видит ли наши слезы?… Душа, говорят, с девятого дня после кончины летает по свету – может, и его душа теперь среди нас?» Как бы она хотела еще раз поговорить с ним!.. Расспросить, как там – на том свете? Говорят, смерть всех равняет; говорят, на том свете все не так, как тут: здесь было голодно и холодно, там – сытно и тепло; тут душа не знала покоя, там – возрадуется сердце; тут был мужиком, там станешь паном… Значит, и отец ее теперь роскошествует?… Хотела бы она его увидеть паном. Она попросила бы у него и для себя господской жизни… А впрочем, ну ее! Все паны такие неискренние и спесивые – только душу загубишь; пусть уж лучше на том свете… А на этом? Немного бы больший достаток да одежонку праздничную: а то и в будни, и в праздник – все одна! Сапожки бы новые, сережки серебряные – такие, как она видела у Марины, что в городе служит, когда она приходила домой проведать родных. Хорошо бы к серьгам и перстень иметь, тоже серебряный, и по руке, а не большой, как у Горпыны: чтобы надеть его, пришлось пряжей обмотать…
И пошла Христя перечислять в уме одну за другой все нужды да вспоминать свои затаенные желания; невелики они, совсем невелики, но даже их нельзя выполнить, и сердце подсказывает, что теперь, со смертью отца, ее мечты уже никогда не сбудутся.
О чем же думает Приська, сидящая на печи, обхватив голову руками? Перед ее глазами проходят прожитые годы – ее доля, горькая доля, которая гнала ее по белу свету, пока не бросила сюда, в Марьяновку. Она – дочь казака, ребенком осталась круглой сиротой: родители от холеры погибли, и родственники все умерли, она одна осталась… у чужих людей, пасла гусей, свиней, телят, пока выросла. А там пошла батрачить на чужих людей. Наконец вдова-купчиха наняла ее за харчи и одежду прислуживать ей в дороге. Богатой и еще не старой, ей не сиделось на месте, и она металась из города в город – в Харьков, Киев, Одессу. Приська, как верная слуга, всюду ее сопровождала, одевала, причесывала, прибирала за ней.
Однажды они собрались в Киев. Перед отъездом Приське все нездоровилось: болели руки, ноги, голова, так, что свет ей был не мил. Однако пришлось ехать. Добрались до Марьяновки, и Приська совсем слегла. Что было дальше, она и вовсе не помнит; опомнилась уже в хате Грыцька Супруна. Он тогда был приказчиком у пана – и там ее оставила купчиха, так распорядился панский управляющий – немец. Выздоровев, она все поджидала, что вот-вот приедет хозяйка и заберет ее. Да, видно, хозяйку не очень беспокоила судьба Приськи, потому что она слишком уж долго не возвращалась. Приська хотела к кому-нибудь наняться, но Грыцько не пустил ее: «Отслужи, – говорит, – раньше за тот хлеб, что съела во время болезни!» Приська осталась.
Там она и с Филиппом встретилась: он был батраком у приказчика. Одна судьба, одна беда людей соединяет. Грыцько злой, крикливый; жена его Хивря ругает Приську, или Грыцько покрикивает на Филиппа… Служанка и крепостной сблизились, жалуясь друг другу на свою горькую долю. Однако Приська успела заметить, что у Филиппа карие глаза и шелковистые усы. Филиппу тоже бросились в глаза стройный стан Приськи, ее кроткий нрав и ласковый голос… Все чаще и чаще они начали встречаться. Увидя, что Филипп погнал скот на водопой, Приська тут же хватала ведра и бежала за водой. Или пойдет Приська за топливом в огород, а Филипп уже тут как тут. Кончился срок отработки, а Приська все не уходит со двора Грыцька и жалуется Филиппу на злую Хиврю.
Однажды сошлись они в саду под яблоней. Филипп сторожил сад, а Приська… как она здесь очутилась, сама не знает, а может, и забыла… Не забыла только Приська, как в ту ночь целовал Филипп ее разгоряченное лицо; как он клялся ей в том, что будет любить ее до гроба, и обещал построить новую хату, как только они поженятся и заживут своим хозяйством. Приська не соглашалась, потому что Филипп был крепостным. «Разве крепостные не люди? – спросил он. – И они ведь живут на земле, а не под землей…» Думала-гадала Приська: что у нее есть, кроме сиротской доли? Голая, босая и простоволосая, а впереди… нужда и нехватка во всем, вечная работа на чужих… Хорошо еще, пока есть здоровье и силы; а если заболеет, вот как недавно случилось? Без родных, без пристанища – хоть ложись под забор и околевай, как бездомная собака. Правду говорит Филипп: и крепостные живут на земле…
И она согласилась. Пошли к управляющему, а тот еще похвалил за то, что она не побоялась стать крепостной. Сказал, что, может, у других барщина страшна, а у них не то… и хату новую обещал, и огород, и землю. В первое воскресенье они и повенчались. Хотя управляющий и обманул их, надавав столько обещаний, но разве ей не все равно, на кого работать? Работала на купцов, теперь будет работать на пана: объезженная лошадь везет безотказно. Да и управляющий не во всем их обманул: хоть не дал огорода и новой хаты, а велел жить по-соседски с Грыцьком – все же у них свое хозяйство. Грыцько, правда, бранится – что за напасть, все на его шею! Хивря ославила Приську на все село: и такая она, и сякая, и неряха, и неопрятная! Но Филиппу и Приське все равно, им не привыкать к брани. Живут они вдвоем тихо да мирно. Через год родился у них сын Ивась, а на другой – дочка Христя. Ивась недолго жил, а Христя росла и росла. И матери отрада: вырастет – помощницей будет.
Так прошло тринадцать лет; на четырнадцатый пришла радостная весть о воле. Это не был слух, какие всегда ходили среди крепостных, а правда – про это и поп читал в церкви. Свободней вздохнули Филипп и Приська: теперь-то они заживут на воле! Через два года получили долгожданную волю. Филиппу дали землю, две десятины. Сколотил он деньжонки на хату – свою хату!.. Господи, какая же это была радость для Приськи. Как она сил своих не щадила, замазывала каждую щель, чтобы в ее хату холод не проник зимой, а дождь летом. Хоть и дорого им это обошлось, все же легче в своей хате – не слышно постоянной ругани Грыцька и упреков Хиври. Работает Приська в своем маленьком огороде, а Христя помогает. Радуется сердце матери, как растет на воле ее дочка. «Тяжело и горько нам жилось, – думала Приська, – может, детям лучше будет?» И она лелеяла надежду: даст Бог, найдется хороший человек для ее Христи, и примем зятя в хату. Филипп уже стареет, и у нее силы убывают, пусть молодые на глазах у старых учатся вести хозяйство; отдадим им все.
Так мечтала Приська, а вышло как?… Что ей теперь делать, как жить на свете? Кто будет в поле работать? Кто заплатит выкуп за землю, подати? Тяжело пришлось им и от того, и от другого… В прошлом году они наконец собрались и купили корову – души не чаяла Приська в приглянувшейся ей телке. Год, как на беду, выдался неурожайный, еле для себя хлеба хватило, а о том, чтобы продать, и не думай. И заработать негде. Около других сел и пивоваренные заводы, и винокуренные, и сахарные, а у них хоть бы что… А тут пристают – давай подушную подать!.. С весны не заплатил первую половину – осенью отдай все! Ругался Филипп со сборщиком, бранила его и Приська. Потом приехал становой, забрал телку и продал ее резнику. Приська чуть не слегла от горя и слез. Но тогда все же Филипп был, он за все отвечал. А теперь? Теперь придут и всю хату растащат. Что она может сделать, больная, немощная? Теперь Грыцько ее сживет со света. Сердце Приськи обливалось кровью. Да хоть бы умер, как люди, дома, а то хотел сделать, как лучше, а выходит – за смертью пошел. Вот теперь ей только и осталось привезти его труп. Как же в такой холод идти в город? У нее ни одежды теплой, ни обуви нет. А если она и доберется как-нибудь – что же, она на руки возьмет его и поплетется домой? А надо еще хоронить, заплатить попу… Господи! У нее же нет ни гроша; последний рубль отдала она ему на соль. Что же, так и бросить его? Пусть его возьмут, распотрошат и закопают как собаку, без попа, без обряда церковного?… В чем его вина?… Разве он сам себя жизни лишил?… Так Бог дал, такая уж, видно, его воля.
И начинает Приська молиться Богу, выкладывает перед ним свое горе. Но напрасно она ломает руки, напрасно подымает глаза к небу: там на холодном чистом шатре только слабо мерцают звезды. Равнодушно глядят они на землю, как гаснущие искры, отражаются в снежинках, словно играют своим светом. А небо, глухое, как пустыня, холодное и немое, точно камень, темным куполом распростерлось над землей, морозом сковало ее, давит, словно хочет задавить ее.
Кто же ее услышит?… Разве жители села? Да и те, вероятно, спят: ни одно окошко не светится, собака и та не залает, все уснуло мертвым сном. Дома, словно могилы, чернеют на снегу. Молчаливые и глухие, они ничего не говорят о том, что творится в них. Счастливая ли доля оберегает сон их обитателей, или горе не дает им забыться в спасительном сне, и они мечутся в смятых постелях?… Точно укрываясь от холода, хаты, казалось, теснее прижались к земле, и только дым, поднимающийся над трубами, свидетельствует о том, что внутри еще теплится жизнь.
Лишь над хатой Притыки не видно дыма. Как услышала Христя про батьку, так забыла обо всем на свете. Огонь в печи тлел, тлел и погас; тепло ушло в незакрытую трубу; недоваренный обед застыл. Наружную дверь Здориха, уходя, забыла прикрыть, из сеней шел холод; в хате хоть волков гоняй! А Приська и Христя не замечают этого. Огнем обжигает их горе, жгут горючие слезы. Горит голова, горят глаза, от горячего дыхания сохнут и лопаются губы.
Ночь проходит. Сереет небо, покрытое тучами, подслеповатыми глазами глядит на землю мутное утро. Зачем? Какую утеху принесет оно, какой выход укажет?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Из счастья и горя куется судьба – говорит народная поговорка. Только Приськина судьба складывалась не по-людски. Горя у нее и позади и впереди – не окинуть взором, не измерить. А счастья? Только неясные думы о счастье, только напрасные надежды, которые всегда обманывали, разбивались об острые пороги опостылевшей жизни, полной нужды и лишений, утрат…
До сих пор и это было хорошо. Хоть обманчивые надежды красили злосчастную долю. А теперь? Ни одной, самой маленькой, надежды не осталось. Чуть заметно, как уголек среди пепла, тлеет ее сердце, еле обнаруживая признаки жизни; оно еще бьется, чего-то хочет… Так гниет дерево на корню; уж и ветви засохли, и ствол трухлявый, а оно все стоит; ветер ломает сухие сучья, внутри их точит червь, всюду дырки, дупла, один ствол – и тот сгнивший, а оно стоит! Не ветер нужен, а буря, чтобы повалить его. И оно, поскрипывая, дожидается этой бури.
Ждет и Приська свою. А ее все нет! Мысли, как черви, шевелятся в голове, подтачивают ее больное сердце, подрывают последние силы. Вот уже третий день она думает, как попасть в город. Ложась спать, решает: завтра… завтра непременно соберусь… А назавтра жизнь снова ставит свои препятствия: с чем туда сунуться, да и к чему? И снова мучительные думы терзают ее до вечера; целый день держат ее в своих клещах, чтобы к вечеру внушить несбыточную надежду на завтра.
Так, откладывая со дня на день, и не пошла она в город. На третий день из волости прибежал староста и напустился на нее с бранью.
– Все на нас полагаетесь! – кричал он. – А кому это дело ближе – жене или старосте? Постыдилась бы! У меня своих дел не оберешься: что ни день из-за вас, чертей, в волость тягают, а тут еще в город иди, признавай всякого пьяницу, который замерзнет на свалке!..
Через три дня он снова пришел; принес новые сапоги, узелок с солью и платок.
– И денег, – говорит, – пять рублей было, но их на подушную в волости оставили.
– Там же только три рубля им следовало, – сказала Приська.
– Это не мое дело. В волости оставили. Поди сама, там узнаешь.
Староста ушел. Приська глядит на приношения – вот что теперь осталось от Филиппа!.. А Христя еще подливает масла в огонь, говорит матери:
– И платок новый купили, и сапоги… да такие маленькие и красивые! Кому же? А это – соль. Еще что-то в узелке есть.
Она вынула какую-то пачку и начала ее развертывать. Глаза ее разгорелись, когда она увидела три шелковые ленты, сережки с подвесками. Это уже только ей куплено!..
– Смотрите, мама, что отец мне купил, – говорит она матери.
Приська молча отвернулась. Ей горько было слушать слова дочери, больно глядеть на эти покупки. Во что они обошлись? Она, словно окаменевшая, глядела на все это, припоминая случившееся.
Миновала еще неделя. Дни и ночи ползли, как черви, все дальше и дальше отодвигая в прошлое постигшее Приську несчастье. Оно еще, правда, было близко, смотрело на нее своими мертвыми глазами; но, с другой стороны, и жизнь не оставляла ее в покое, она властно стучалась, заводила свою бесконечную песню.
Вот скоро праздник – Рождество… Ежегодно, как ни горька была ее жизнь, а к кутье и кусок рыбы отыскивался, и пироги; ради Рождества и колбасу покупали. А теперь? Где все это взять? А как тяжело ничего не иметь к празднику? Так горько было Приське от этих дум, точно она полыни наелась. Она вспомнила о деньгах, оставленных в волости. За что они удержали лишних два рубля? Разве не все с нас взяли, что нужно было? Пойду, пойду, свое возьму. На гривенник колбасы куплю. Здор кабана колет, за гривенник отдаст колбасу… Может, он или кто-нибудь другой поедет в город – попрошу солонины купить… тоже на гривенник… еще на черный день останется.
На другой день она пошла в волость.
– Тебе чего? – спрашивает старшина.
– За деньгами, – кланяясь, отвечает Приська.
– Какие тебе деньги?
Приська сказала.
– Деньги взял Грыцько. Он сказал, что так и следует. Иди к нему.
Но как же ей идти к Грыцько после горькой обиды, которую он ей нанес? Нет, она ни за что не пойдет. С какой стати ей идти к нему, если деньги прислали в волость?
– А может, Грыцько сам придет в волость, а то к нему идти… и дойду ли я? – говорит Приська.
– Может, и придет. Дожидайся.
Приська присела на крыльце. В волости суета, беготня: один идет туда, другой выходит, третьего ведут… Прыщенко важно выступает и, сверкая глазами, спрашивает: «Ну что, взял?» За ним Комар, низко наклонившись, глухо бубнит: «Засыпал деньгами, а ты еще спрашиваешь, взять ли? Да еще погоди хвастать… что еще посредник скажет». «Сунься, сунься к посреднику, – кричит Прыщенко. – И посредник тебе напоет!..» И пошли со двора.
За ними выходит Луценчиха, багрово-красная, и сердито ворчит:
– Что это за суд? Какой это суд? Три дня продержали, еще три дня сиди! Дома полный разор, а он одно – сиди! Где это видано – неделю держать человека в холодной?…
– Гляди, как мужа жалеет; сама пришла вызволять… соскучилась! – донеслось из толпы.
Луценчиха презрительно оглядела толпу, плюнула и удалилась; хохот сопровождал ее.
«Всюду свое горе, – думала Приська, – а чужим только смех».
– А вот Грыцько череду за собой ведет! – сказал кто-то.
Приська глянула. По дороге, размахивая палкой, шел Грыцько, а за ним плелись, понурившись, человек десять крестьян.
– И это все на отсидку, – заметил другой.
– Конечно! – добавил третий.
Кое-кто захохотал.
Грыцько приблизился к крыльцу. Среди следовавших за ним Приська узнала Очкура, Гарбуза, Сотника, Воливоду. Подойдя к крыльцу, Грыцько поздоровался.
– Тут старшина?
– Тута.
Он вошел в помещение волости и вскоре вернулся оттуда вместе со старшиной.
– Вы почему не платите подушной? – крикнул тот.
– Помилуйте, Алексеич! Разве вы не знаете, какая осень была? Заработка никакого!
– А на пропой есть? – крикнул старшина.
– Из шинка не вылезают, – тихо сказал Грыцько.
– В холодную их! – приказал старшина.
Десятники повели всех в холодную. У Приськи заколотилось сердце. «Ну за что, про что? – стучало у нее в голове. – Разве они виноваты, что не было заработков? Господи, доколе же они будут с бедных людей шкуру драть? И что им поможет, если они будут держать людей в холодной?» Раньше ей никогда не верилось, когда Филипп, бывало, рассказывал, что его хотели посадить в холодную и он еле отпросился. Теперь она все это видела своими глазами. И Луценко сидит за то же. Она слышала, как ему угрожал Грыцько. Видно, Луценчиха жаловалась, да ничего не вышло, только посмеялись над нею. Они и над этими несчастными смеются. Ни жалости, ни сердца нет у них!.. Настоящие собаки, прости, Господи!