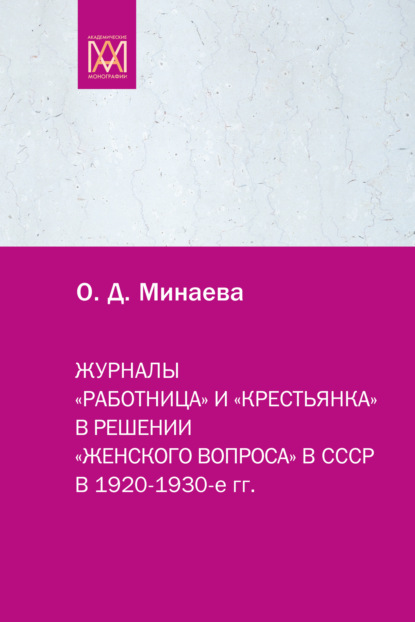 Полная версия
Полная версияЖурналы «Работница» и «Крестьянка» в решении «женского вопроса» в СССР в 1920–1930-е гг.
Н. К. Крупская писала: «Как будет поставлено дело воспитания при социалистическом строе? …Забота о содержании детей будет снята с родителей. …Общество обеспечит ребенку не только средства к существованию, но будет заботиться о том, чтобы у него было все, что необходимо для того, чтобы он мог полно и всесторонне развиваться»[524]. Итак, детей будет содержать и воспитывать государство, «чтобы сделать из них сильных, здоровых, умных, полезных и знающих людей, сделать из них хороших граждан»[525].
Однако не только забота о том, чтобы вырвать детей из нищеты, способствовала такому выбору социалистов. В концепции построения социализма и коммунизма существенную, если не основную, роль играло воспитание нового человека – строителя коммунистического общества: «чтобы построить новый строй, нужно воспитать новое поколение»[526]. «Социалисты хотят общественного воспитания детей»,[527] – писала Крупская и объясняла, как этот процесс будет устроен: из детского сада дети будут переходить в школу, приобретать там знания и привыкать к производительному труду, развивать «духовные и физические силы».
Крупская четко определяет, что нужно «планомерно воздействовать на подрастающее поколение с целью получить определенный тип человека»[528]. В других статьях она подчеркивала, что «воспитание подрастающего поколения – серьезнейший вопрос соцстроительства»[529].
Что самое важное в воспитании детей выделяет Крупская? Нужно организовать жизнь детей так, чтобы в основу ее был положен коллективный разносторонний труд, который должен заглушать собственнические инстинкты и развивать инстинкты общественные. «Развитие общественных инстинктов должно проходить красной нитью через всю жизнь школы»[530], – пишет Крупская. Конечной целью государственной системы образования, по мнению Н. К. Крупской, должно быть воспитание всесторонне развитых людей, сознательных, имеющих цельное мировоззрение, подготовленных к труду, как физическому, так и умственному, умеющих строить разумную, содержательную и радостную жизнь. Без таких людей социализм не может осуществиться.[531] В процессе воспитания основная роль отводилась системе дошкольного воспитания и школьного образования. Причем по важности воспитание значительно превосходило образование.
Возможно, вывод Крупской о том, что «женщина-работница поставлена в полную невозможность разумно воспитывать детей»[532] объясняется не только неграмотностью и занятостью работницы, но и обоснованием тезиса о необходимости общественного воспитания.
Хотелось бы отметить еще несколько аспектов темы «дети». Фактическое претворение в жизнь равноправия женщин связано с широкими социальными реформами, ломкой привычного уклада и традиционной семьи. Совет народных комиссаров уже в декабре 1917 г. принимает декреты «О расторжении брака» и «О гражданском браке, детях и о ведении книг актов гражданского состояния». Первый декрет упрощал процедуру развода, который можно было оформить по просьбе одного из супругов. Судьба детей определялась судом, как и порядок несения расходов по их содержанию. Брак стал гражданским, венчание в церкви или иное заключение брака по религиозным обрядам потеряло юридическую силу. Только регистрация в ЗАГСе делала людей полноценными супругами с правами и обязанностями. В 1927 г. был принят новый «Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР», в котором подтверждалось, что зарегистрированный в государственных органах брак важен для государства и общества. Однако признавалось браком и незарегистрированное совместное проживание и ведение хозяйства, в том числе и совместное содержание детей. Устанавливался порядок при разводе выплаты супруге алиментов до года, если она в этом нуждался.
Эти и другие решения советской власти поддерживались активной пропагандистской работой в журналах для женщин по основным тематическим направлениям, которые тесно связаны между собой. Так, распад традиционной семьи, кроме идеи борьбы жены за свои права, поддерживался еще и тем, что семья утрачивала функцию воспитания детей. Крупская писала в журнале «Коммунистка» в 1921 г.: «К школе переходят многие функции семьи. Школа в Советской России все больше и больше заботится о том, чтобы дети были сыты, одеты, обуты, чтобы у них было все необходимое… Через посредство школы советская власть должна взять на себя полностью содержание всех учащихся[533]. Все больше переходит к школе и другая функция семьи: раньше семья давала ребенку общее трудовое воспитание, учила его работать»[534]. Таким образом, необходимость вырастить и воспитать детей переставала быть общей целью для родителей, скрепой семьи.
Статья Н. К. Крупской «Война и деторождение» была впервые опубликована в журнале «Коммунистка» в 1920 г. В ней логично и аргументировано объяснялось, почему в тяжелых условиях Гражданской войны и разрухи можно было легализовать аборт. «Надо, чтобы государство взяло на себя не только охрану материнства и младенчества, не только бы заботилось о женщине во время беременности, во время и после родов, но необходимо, чтобы государство создало десятки тысяч яслей, детских садов, детских колоний, детских общежитий, где бы дети получали уход, пищу, где бы они жили, развивались, учились в условиях, в десять раз лучших, чем какие могла бы для них создать своими единоличными усилиями самая заботливая мать. Это облегчило бы женщине до чрезвычайности ее положение, поставило бы ее на деле в равные условия с мужчиной»[535]. Но в условиях разрухи невозможно было реализовать этот разумный план, поэтому Крупская считает правильной мерой леганизацию аборта. Хотелось бы добавить, что и сама возможность для женщины решать, рожать ребенка или нет – важный фактор ее свободы. Крупская пишет о вреде абортов и средств предупреждения беременности, но ведь если социальные условия не позволяют женщине обеспечить материально своих детей, значит надо дать ей возможность выбора.
Журналисты творчески развивали идеи Крупской, поэтому очевидна связь между тем, как она писала о детях и как подавала эту тему женская массовая печать. О детях и их роли в жизни матери Крупская писала так: «возня с ребятами»[536], «с детьми крестьянке прибавляется забот»[537], «работница видит много горя с детьми, много забот»[538], «как помочь матери, гнущейся под тяжестью деторождения»[539], женщина «привязана к дому крепко-накрепко этими бесконечными делишками, заботами, которые не дают ей даже мыслью уйти от печки, от корыта, от ребятишек»[540]. Выбор лексики очевидно формирует негативное отношение: «возня», «делишки», «много горя» с детьми, «привязана». В продолжение этой темы можно найти и рассуждения о «домашнем рабстве» и «каторге».
Не удивительно, что и в женских журналах воспроизводилась эта лексика: дети «мешают», «вяжут», «держат в домашней тюрьме» и т. д. Тема «домашней каторги» постоянно присутствовала на страницах журнала «Работница» в 1920-е гг. Показательный пример – фотоочерк «Домашняя кабала»[541] А. Сафронова. На развороте журнала представлен день женщины с двумя маленькими детьми, которая занимается бытовыми делами. Подписи к фотографиям минимальны, все содержание очерка изложено в фотоматериалах. Среди фотографий помещен лозунг: «Коммунизм освободит работницу от домашней кабалы».
Только одна подпись к фотографиям несколько больше, она гласит: «Больше всего связывают работницу дети. Часто, уходя на работу, она оставляет их без надзора. Дети, если они не в яслях и не на площадке, весь день около матери вертятся, то их надо спать уложить, то погулять с ними, то накормить их… А вечером и мать, и дети ждут отца с работы, а он, бывает, не приходит, а «приползает», особенно после получки…». Нарисована безотрадная картина семейной жизни женщины, в которой дети, как и пьющий муж, – обуза и «кабала».
В публикациях о семье часто употреблялись активные, побудительные глаголы: брось, забудь, встань, проснись, иди, будь свободной, освободись, борись и т. д. Как женщина могла осуществить эти призывы? В 1920-е гг. государство еще не выстроило «конвейер» по воспитанию детей от младенчества до заводской проходной, ясли и детский сад были редки, но разговор о них ведется так, как будто они доступны.
В 1932 г. в подборке писем «Больше писем – теснее связь» в той же рубрике появилось письмо читательницы Коноваловой, она пишет: «сделалось так больно, что я, домохозяйка, связана детьми и, вероятно, очень не скоро попаду на производство»[542]. В «Крестьянке» множество публикаций[543] о том, что нужно устроить сообща детский сад («детский дом»), «чтобы развязать себе руки и пожить на воле, по-человечески», «у баб больное место – дети», «горшки, пеленки, дети и церковь сожрут не мало молодых баб»[544].
Мысль о том, что дети – обуза, помеха часто повторяется в публикациях 1920-х гг. Примеры употребления подобной лексики в письмах читательниц женских журналов можно найти и в 1930-х гг., то есть образ «дети-обуза» внедрен в привычный круг представлений читательниц журнала довоенного периода.
Какие примеры решения «проблемы детей» предлагались для работниц? Общественное воспитание – вот предложенный пропагандистами позитивный вариант. В стихотворении «Мать и сын»[545] образно обрисована ситуация работницы:
Ей некогда смотреть за сыномИ воспитание давать:День на заводе за машиной,Потом собранье и кровать.Но работница-делегатка «не тоскует», она смеется и говорит, что ее сынок «не пропадет»:
В отряде он, где пионеры.Там лучше матери, отца,Дают хорошие примеры,Готовят стойкого борца.Там за игрой разумной, пеньем,Ребенок весел и счастлив,И там одно у всех стремленье:Ковать рабочий коллектив.Чем отряд лучше семьи, подробно не объясняется. В публикациях женских журналов мужчина практически никогда не участвует в решении проблем работающей матери и воспитания детей. Это не удивительно, если вспомнить максимально упрощенную процедуру развода, принятую в довоенный период. Муж и отец как бы исключается из контекста проблемы «женщина и дети». Кстати сказать, точка зрения мужчин на пути раскрепощения женщин никогда не была представлена в женских журналах. В стихотворении вообще нет упоминания об отце, проблему, куда деть сына, решает только мать. Как уже отмечалось выше, семья теряла многие функции по воспитанию детей. Если женщина работала, дети помещались в ясли – детский сад, потом ходили в школу. Муж утрачивал функции главы семьи, добытчика и авторитета для детей. Этим авторитетным воспитателем становился учитель или пионервожатый и т. д.
Призывы быстрее решать проблемы с детскими садами и бытовыми заботами повторялись на страницах «Работницы» и «Крестьянки» многократно. Детских садов и яслей было мало и в 1920-х гг., и в начале 1930-х гг. Проблему «куда девать детей» женщины должны были решить своими силами – объединиться и самоорганизоваться.
Постоянное обсуждение темы яслей и детских садов делало эту форму воспитания детей привычной. В годы первых пятилеток, когда резко выросло количество работающих в промышленности женщин, эта проблема также была актуальна, хотя ясли и сады старались открыть на большинстве крупных предприятий. В 1932 г. (это последний год первой пятилетки) в «Работнице» поместили обзор писем работниц о недостаточном количестве яслей и детских садов, о проблемах в этой сфере. Это типичная публикация на эту тему. «Только освободившись от постоянных забот о детях и передав уход за ними детучреждениям, женщина-мать может стать полноценным участником социалистического строительства», – пишет автор[546]. Ставится задача «использовать опыт Москвы, открывать интернаты, т. е. детучреждения, где ребята могут находиться целые сутки». Иначе матери не получат возможности учиться, заниматься общественной работой и пр. – ясли и сады работают только в те часы, когда работает мать. Еще один пример решения «проблемы детей» – заметка, как домохозяйка устроила детский сад в доме и более тридцати домохозяек пошли работать[547].
Журнал «Работница» много пишет о проблемах в сфере дошкольного воспитания, но не забывает приводить и положительные примеры.
Важно показать, как правильно решить вопрос «детей» – и он будет так решен у всех женщин в недалеком будущем.
Фотоочерк «Дом беспризорной матери»[548] был опубликован в 1928 г. В нем рассказывалось о старинном особняке в центре Москвы, превращенном в специальный интернат для беременных и матерей с грудными детьми, которым негде жить. В одном здании размещаются ясли, где дети находятся днем, пошивочные мастерские, где матери работают, помещения, где матери с детьми живут в больших комнатах на несколько человек. В доме помещается примерно 90 человек. Женщинам оказывается медицинская помощь, их учат обращаться с новорожденными. Затем специальная комиссия направляет женщин на работу, причем подбирают предприятия с общежитиями и яслями. В очерке представлены симпатичные фотографии детей: полненьких, с ямочками, здоровых и веселых. Все сотрудники дома в белых халатах и передниках, очень чисто, везде цветы, новая и красивая мебель. Конечно, такой дом – капля в море проблем, но он служит положительным примером, образцом для подражания.
Еще один показательный пример решения проблемы детей для работающей матери – очерк «Деточаг и пятилетка». В нем активно употребляются привычные в этот период аббревиатуры. Журналист спрашивает, как могла Мария Крюкова на две недели уехать на съезд профсоюзов? Ее «отпустил» сын Коля шести лет. С девяти месяцев он «отдан на попечение обществу – сперва в ясли, затем в деточаг. Если бы завком не создал при бумажной фабрике деточага, вряд ли Мария могла, отработав положенные семь часов,…выпустить номер стенгазеты, провести рейд по магазинам кооперации… Вряд ли Коля Крюков вырастал бы такой здоровый, нужный нам парень, а его мать была бы председателем цехкома на бумфабрике…»[549]. В очерке рисуется положительный во всех отношениях пример: мать – и работница, и общественница, ребенок постоянно живет в интернате.
Еще похожая публикация в качестве образца для подражания, причем о семье, где есть и отец, и мать. Слесарь Симаков рассказывает: «Сын у нас живет в детском саду, там его прекрасно кормят и хорошо за ним смотрят. Там он получает коллективное воспитание – и мы за него спокойны…»[550]. У отца-ударника и матери-ударницы (и члена партии!) сын «живет» в детском саду. Этот факт показан как положительный пример жизни рабочей семьи. Именно о таком укладе, таком образе жизни говорится в многочисленных публикациях на тему переустройства традиционной семьи. Ребенок выключен из жизни семьи, у него своя собственная жизнь, в которой семья никак на него не влияет.
Интересы детей затрагивались и в дискуссии о социалистических городах, которая велась в конце 1920-х гг. В «Работнице» опубликованы очерки о новом быте и укладе, которые будут в домах-коммунах. Обсуждался вопрос, где жить детям – с родителями или отдельно. «Одни считают, что строить надо общежития для одиноких и помещения для семейных – на 4-5 человек. В этом случае ребенок на время работы матери на производстве, на время ее культурного отдыха помещается в ясли или детский сад. Эти детские учреждения должны быть организованы так, чтобы мать смогла поместить в них ребенка либо на дневное пребывание, либо, при желании, также и на ночь. По другому проекту в спальных помещениях предусматривается площадь только для взрослых. …Дети живут отдельно от родителей в специальных детских помещениях. Воспитание и образование детей должно быть тесно увязано с производством»[551], – это все, что касается детей в проекте дома будущего. Их удобства вообще не обсуждаются и помещения для досуга детей вместе с родителями не планируются.
Нужно отметить, что в женских журналах 1930-х гг. постоянно поднимаются острые проблемы, связанные с семьей: муж пьет и бьет жену и детей, отцы легко разводятся и уклоняются от содержания детей, родители недостаточно уделяют внимания детям, отмечаются плохие бытовые условия для детей. В какой-то степени эти публикации предваряли, подготавливали переход к пропаганде закона о запрете абортов и увеличении алиментов, принятого в 1936 г. Общий посыл этих публикаций в том, что власть видит проблемы и активно их решает.
Вот типичный пример публикации о том, как власти помогают женщинам. В заметке «Помощь матери-одиночке»[552] рассказывается о том, что при родильных домах стали работать юристы, которые помогают женщинам в трудных ситуациях. «Легкость, с которой некоторые девушки и особенно мужчины подходят к браку, нередко приносит женщине много затруднений, а иногда и горя», – пишет автор. Приводятся примеры, как с помощью государственных органов удается помочь молодой матери: найти предприятие для работы, привлечь фабком, выделить место в общежитии и зачислить ребенка в ясли.
Еще один пример положительной работы местных партийных органов с семьями описан в заметке 1935 г. о конкурсе на «лучшее культурное воспитание детей» в Серпухове[553]. В конкурсе участвовали родители, воспитатели, врачи. Нарком легкой промышленности выделил 30 тыс. рублей на премии победителям. В конкурс включилось 6,5 тыс. семей и около 10 тыс. детей. Условия жизни рабочих в Серпухове по современным меркам ужасные: большая часть населения города – рабочие-текстильщики – живут в казармах, в общих комнатах. Какие инициативы организаторов конкурса были реализованы? Убедить родителей не класть детей спать на полу: по казармам был брошен лозунг: «Поднять ребят с пола на кровать». Фабком выделил деньги на раскладные кровати, они выданы семьям. Кроме того, фабкомы и партийная организация помогают, бесплатно выдают наволочки, полотенца, кроватки, стульчики, щетки и т. д. В комнатах устроены «детские уголки»: стол, стул, зубная щетка, полотенце, порошок. В красных уголках при казармах[554] созданы «показательные детские уголки» для родителей.
Факты, приведенные в заметке, напоминают современным исследователям о том, насколько сложные социальные проблемы нужно было решать властям в этот период. Уровень жизни населения очень низок. Элементарные для современного человека удобства: умывальник и зубная щетка, кровать и постельное белье, стол для занятий – невиданная роскошь. В некоторых казармах ребята, устраивая свой «уголок», потребовали, чтобы родители сняли иконы. Там, где родители икон не сняли, дети говорят: «Пускай висят, все равно наш уголок победит». Этот пример говорит о том, насколько активно в школе велась антирелигиозная пропаганда, детей всячески агитировали «перевоспитывать» родителей, подрывая нормальные отношения детей и родителей.
Пример формирования «правильного» отношения к проблемам воспитания детей мог быть преподнесен и в привычной для журнала «Работница» форме «рабочего суда». В клубе Трехгорной мануфактуры в 1935 г. велось настоящее судебное разбирательство[555]. Трудно судить, насколько типичным был случай, описанный ниже. Содержание судебного дела таково: родители развелись, дочка осталась с матерью. Оба родителя не хотели воспитывать девочку, а бабушка заболела. Мать послала няню с пятилетним ребенком в Москву с наказом оставить девочку на улице. Няня оставила девочку около магазина игрушек. Суд приговорил отца, который отказался от своей дочери, к 6 месяцам лишения свободы и лишил его родительских прав, няню – к 6 месяцам исправительных работ. С наказанием матери вопрос не был решен из-за ее болезни. Девочку взяла на воспитание бабушка. Работницы «Трехгорки» долго не расходились, требуя более сурового наказания, особенно алиментщиков и тех, кто подкидывает детей. Этот репортаж позволил журналисту привести в пример наиболее правильные выступления сознательных работниц «Трехгорки» об ответственности родителей за здоровье и воспитание детей, о родительском долге.
В 1935 г. активно, с большим количеством примеров в журналах для женщин доказывалось, насколько вреден аборт. Кампания, предваряющая закон о запрете абортов, активно формировала общественное мнение. В 1935 г. в «Работнице» помещено письмо читательницы Климовой «Я против аборта» и отклики на нее[556]. Общий смысл в том, что работницы не скрывают трудностей в воспитании детей, но радость материнства так велика, что все трудности бледнеют перед огромной любовью к детям.
Статья А. И Близнянской[557], директора роддома, интересна тем, как выстраивается обоснование запрета абортов. Декрет о легализации аборта 1920 г. привел к тому, что подпольных абортов стало меньше. Доктор приводит сведения о том, что аборт в больнице дает 0,005 % смертности. Однако отмечает, что легализация абортов способствовала росту их числа. Легкость получения направления на аборт создала впечатление о безвредности этой операции. На самом деле это крайне опасная операция, которая оказывает вредное воздействие на организм женщины. 20 % женщин после аборта страдают заболеваниями, 60 % внематочной беременности являются следствием аборта. Аборт ведет к бесплодию, а это – социальное бедствие. «Мы ликвидировали безработицу, построили широкую сеть яслей и других детских и культурно-бытовых учреждений, мы становимся зажиточными. Все это – благоприятные условия для радостного материнства. “Каждая женщина в нашей стране не может не хотеть быть матерью”», – таков вывод директора роддома. В капиталистических странах, наоборот, запрет аборта – это издевательство над бедными, которым нищета и безработица не дают возможности прокормить своих детей.
Еще одна статья написана главврачом московской гинекологической клиники Р. Н. Гуревич[558]. Доктор приводит примеры, когда она делала операцию по просьбам женщин, а потом они меняли свое мнение. Поэтому:
• незыблемым должен быть запрет операции по стерилизации женщин;
• надо больше говорить и писать о вредных последствиях аборта;
• широко рассказать о смертях от подпольного аборта;
• надо наказывать врачей, которые делают аборты на дому, нарушая гигиенические требования.
Нужно отметить, что в данной публикации речь идет о стерилизации, о которой раньше не упоминалось в публикациях женских журналов. Конечно, в эпоху, когда антибиотики еще не применялись, любая операция была потенциально опасной. Но ведь и роды небезопасны! Стерилизация дает возможность женщине выбирать, планировать свою жизнь.
Письмо З. А. Сиротовой-Козанченко, требующей, чтобы правительство запретило аборты, продолжает эту тему. Она медсестра и не может смотреть, как женщины калечат себя абортами. При этом с медицинскими диагнозами и подробностями она рассказывает свою историю: несколько браков, болезни, несчастья и т. д. Воспитывает чужую девочку, но очень хочет своего ребенка, а родить не может.
Такая активная пропагандистская подготовка к обнародованию закона 1936 г. о запрете абортов, очевидно, идет вразрез с тем, как женские журналы трактовали тему семьи и детей раньше. Была ли пропаганда аборта в печати? Нет, конечно. Но журналисты всеми средствами агитировали женщин идти работать, учиться, вступать в партию и заниматься общественной работой. «Брось пеленки!» – как можно было этот призыв реализовать? Отказом от рождения детей. Да и условия жизни в 1920–1930-х гг. были тяжелые: низкий уровень жизни, трудности с продовольствием и т. д. Брачные отношения неизменно вели к какому-то решению проблемы: или рожать детей, или делать аборты. Приведенные выше примеры показывают, насколько просто в интересах государственной политики менялся вектор публикаций печати.
В 1936 г. было принято Постановление ЦК Исполкома и СНК СССР «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах». Документ был полностью напечатан в журналах для женщин[559].
В этом документе было сказано, что «советское правительство идет навстречу многочисленным заявлениям трудящихся женщин» и в связи «с установленной вредностью абортов» запрещает их. Достаточно запутано объяснено, почему поменялось отношение советской власти к аборту. Мотивировка разрешения абортов в 1920 г. свелась к тому, что экономическая разруха в стране после Гражданской войны и иностранной интервенции, «унаследованная от дореволюционной эпохи недостаточность культурного уровня женщин» не позволили им сразу же полностью использовать предоставленные законом права (равенство и др.) и без опасения за будущее исполнять свои обязанности гражданки и матери. Суть сказанного в том, что «обязанности гражданки и матери» никто не пересматривает, а разрешение абортов было вызвано экономической разрухой. В 1936 г. разруха была преодолена, «рост материального благосостояния и гигантский рост политического и культурного уровня трудящихся позволяет пересмотреть разрешение аборта». Было введено суровое наказание – до 2 лет тюрьмы – за понуждение женщины к аборту. Пособие на рождение ребенка увеличили с 32 до 45 руб., ежемесячное пособие-с 5 до 10 руб. Это были очень небольшие суммы, зарплата работницы составляла 150 руб. и более. Многодетным матерям полагалось пособие – 1 тыс. рублей ежегодно в течении пяти лет. Эта сумма уже значительная, особенно для колхозниц, которым вообще не платили деньги в колхозах.



